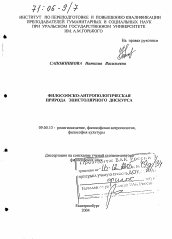автореферат диссертации по философии, специальность ВАК РФ 09.00.13
диссертация на тему: Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса
Полный текст автореферата диссертации по теме "Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса"
На ирлилч коппсп
СЛИОЖПИКОВЛ Иатшшя Васини-нна
ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЭПИСТОЛЯРНОГО ДИСКУРСА
09.00 13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук
Екатеринбург 2005
Работа выполнена ил кафедре философии института по переподготвке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Уральском государственном университете им. Л.М. Горького.
Официальные оппоненты:
доктор философских наук, профессор А.С.Гагарин, доктор философских наук, профессор В.И.Копалов, доктор философских наук, профессор Т.С.Кузубова.
Ведущая организация - Институт философии и права Уральского Отделения РАН
Зашита состоится «17» февраля 2005 г. в « » час. на заседании диссертационного совета Д 212.286.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук в Уральском государственном университете им. А.М.Горького (620083, г. Екатеринбург, К-83, пр.Ленина, 51, комн. 248)
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского государственного университета им. А.М.Горького
Автореферат разослан
2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, доктор философских наук, профессор
В.В.Ким
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современный этап смены не веков — тысячелетий с их напряжённо - драматической конвергенцией настоящего в «живую» историю заставляет рассматривать последнюю как непосредственное переживание человеком историчности его бытия, в том числе в виде проекта реализации самого человека, «перемещённого» в прошлое. Личность третьего тысячелетия просматривается сквозь призму Феноменологии Духа с аккумуляцией энергопотоков на мировом перекрестке исторических сквозняков, создавших абсурдную ситуацию смыслоутра-ты и одновременно тоски по полифонично яркому жизненному миру, выступающему как пласт опыта. В среде философов развернуты дискуссии вокруг заявленных фаталистических проектов антропологической катастрофы и той деструкции человеческой природы, которая в последние годы принимает угрожающе зримые очертания. Но слышны голоса и тех, кто пытается постичь суть тайны человека, творческая проявленность присутствия которого в мире также самоочевидна.
Закономерная актуализация проблем историософско-антропологического, психолингвистического и нарративно-повествовательного звучания разновеликих сюжетов и тем связана также со всё более громко заявляющей о своем праве быть услышанной тенденцией гуманитаризации научного знания в целом и исключительной перспективности интегративных его форм, в частности. С постмодернистской «подачи» стираются некогда жесткие междисциплинарные рамки с преодолением узкоспециализированных предпочтений, расширяется ракурс обзора и совершенствуется концептуально-методический инструментарий. С изменением самого «статуса знания» меняется и роль исследователя: на смену «авторитетному эксперту» приходит философ, который задает вопросы, адресуя их той реальности, которая всего лишь одна из множеств возможных описаний мира, ставящая под сомнение привычную для нас гарантированную однозначность.
Выход на новые эвристические возможности осмысления предельных вопросов бытия, а именно: специфики человеческого существования, предназначения человека и умения этим предназначением распорядиться, - предполагает изучение не только феноменологии конструирования мира, но и самого феномена Человека в нём с расширяющимся поиском антропологических оснований различных, в том числе и не вполне традиционных для философской рефлексии модусов. К примеру таких, как удивительно пластичная и смыслоёмкая философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса, впервые заявленного как предмет и объект философского анализа. В подобном контексте весьма перспективна тема дуализма формирования выразительной личности XIX века, противоречивости динамики смысложизненных ориентиров и ценностей в диапазоне индивидуального и социального, уникального и универсального и разрушения в конечном итоге целостности её мировосприятия, что представляется сегодня необычайно симптоматичным и значимым. Прежде всего -учитывая состояние современного российского общественного сознания, задача гармонизации структур которого настоятельно диктует важность осмысления опыта прошлого с позиций философско-антропологической проекции формирования личности и получения ответа на вопрос о способах ее самоактуализации и самовыражения сквозь призму «истинности» и «ложности» бытия.
Индикатором подобного процесса в XIX веке и стал рассматриваемый эпистолярный дискурс, по степени самораскрытия личности и исключительности влияния на общество вполне могущий претендовать на самостоятельную онто-гносеологическую роль. Письма той поры перерастают отведенные им многовековой историей рамки, свидетельствуя, с одной стороны, о рождении оригинальной исповедальной традиции. С другой - демонстрируют поразительно талантливую открытость личности навстречу миру с её способностью прочитывать человеческие смыслы реальной, невыдуманной действительности, переводя информацию на язык философический с помощью эпистолярных средств «повседневного бытования». Человек стремился преодолеть ограниченность своего индивидуального бытия путем постижения собственной экзистенциальной аутентичности, очерчивая в который раз феномен своего присутствия в этом мире, но уже посредством эпистолярного дискурса, метафизичность природы которого до сих пор не изучена.
Между тем в XIX в. он проявил себя как тончайший индикатор, засвидетельствовав начало процесса деформации всей системы смысложизненных ценностей с их теориями «крови по совести», «героя и толпы», «прикладной», почти ницшеанской вседозволенности «исключительной» личности, крушившей разделительную полосу между анархией и свободой. Обнаруживая явные кризисные признаки и в самом рабочем механизме власти, с его «подачи» был создан прецедент «русских Гамлетов» и «русских королей Лиров». Увидеть подобную дихотомию и осмыслить её на историософском уровне мог лишь поистине универсальный разум, объявший своим взором «абсолютное совершенство» и «недостижимое благо», как это предложил сделать в своем эпистолярно-философическом цикле П.Я.Чаадаев. Поэтому тогда и складывается формула «русский - синоним философствующий» как свидетельство особой широты русской души. Она и в дальнейшем оказалась неприкаянной, требуя своей многомерно антропологической проекции в историософской, психолингвистической и социокультурной практиках, сводимых в единый эпистолярно-дискурсивный план.
Анализ всепроникающей метафизической универсализации эпистолярного дискурса позволяет осознать масштабы философского творчества XIX в. на уровне конструирования микромира письма как своего рода элемента ^-Творения мира, когда человечество предстает в едином качестве - Творца, Философа, Мыслителя, Личности, а сам процесс понимания этих миров - описать как эпистолярный философско-антропологический модус бытия. Исходя из реалий сегодняшнего дня, мы вполне способны оценить степень значимости эпистолярного жанра, сумевшего продемонстрировать удивительные конверсионные возможности эпистолярно-рефлексивной самоидентификации личности и ее творческого самораскрытия, в том числе на уровне превращения эпистолярия в философский текст и философское письмо. И хотя эпистолярный жанр в классическом его варианте, видимо, ушел в прошлое, учитывая эвристически методологическую функцию принципа отражения противоположностей в решении проблемы повторного отрицания в процессах развития (первоначально существующее качество, отрицаясь и переходя в свою противоположность, со временем вновь восстанавливается на новой основе) и присущую письму коммуникативную универсализацию транспонирования смыслов, надежда на возможное возрожде-
ние, пусть и в новой структурно-композиционной форме, все-таки остается. Основанием к этому служит тысячелетняя история его развития, органично вписавшаяся в эволюцию цивилизации и философской мысли, не только сопровождая человечество в его историческом пути, но во многих позициях меняя векторы направления этого процесса.
Степень разработанности проблемы и теоретическая база исследования. Предложенная к рассмотрению тема появилась как результат цивили-зационных, следовательно, научно-парадигмальных трансформаций с их уходом от универсализации исторических схем. Сам факт «опредмечивания» эпистолярного дискурса феноменален и связан с процессом деобъективизации мира истории, с одной стороны, и обнаружения нестандарности приемов работы с текстами на уровне расширения онто-эпистемологических резервов, с другой.
Хотя тема диссертации в заявленной автором редакции пока в философской литературе не ставилась, она опирается в своей основе на более чем солидный научный «актив», позволивший определить предмет и объект исследования, сформулировать его задачи. Тем самым предполагается синтезирование философско-антропологического и историософско-социокультурного подходов, отразивших в себе напластование разнородного круга источников по различным уровням социально-гуманитарного спектра знаний, сведенных в единую эпистолярно-дискурсивную ось в её оригинальном хронотопе - «русском» XIX-м веке.
Изучение философско-антропологической природы эпистолярного дискурса базируется на тематических наработках предшествующих эпох, прежде всего русской философской мысли и философской антропологии. Труды основателей последней-Л.Фейербаха, М.Шелера, Г.Плеснера, де Шардена придали современной, в том числе отечественной философской антропологии впечаляюще масштабный онто-гносеологический статус. В XX в. оказался синициированным взрывной интерес к антропологизации всей системы представлений о человеке как «познаваемо-познающем» объекте (М.Вебер, Н.Гартман, Б.В.Вышеславцев, ИАБутенко, Г.С.Батищев и др.) и свёртыванию абстрактно-умозрительного подхода при разрешении связанных с этим метафизических проблем.
Поиск ключа «метаантропологического онтогенеза» «неявного, имплицитного» позволил проявиться на удивление пластичному эпистолярному дискурсу. Его рождение стало результатом институции общегуманитарной мысли (Э.Гуссерль, Х.Уайт, Э. Штрёкер, Т.Кун, К.Хукер, М.М. и Н.М.Бахтины, Ю.М.Лотман), обнаружившей и в новом тысячелетии пароксизм и остроту проявленных еще философской традицией XVШ-XIX вв. вопросов в части сопряжения духовных оснований антропологическому пониманию истории. Особенное место и роль в этом плане отведены русской философской мысли ХК-начала XX вв., которой изначально были присущи историо-софско-антропологическая направленность, глубинный онтологизм, духовность, нравственный максимализм, сращивание идеи и личной судьбы, персонифицированного микрокосма с макрокосмом, стремление вписать в мировой процесс жизнь каждого народа и отдельного человека, почему во многих случаях именно в России и были предвосхищены многие позднейшие психософские озарения (В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Я.Данилевский, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, НАРожков, В.М.Хвостов, Г.Г.Шпет, Н.И.Кареев, А.СЛаппо-Данилевский, А. Ф.Лосев,
С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Л.Шестов и др.). Хотя общеизвестно и другое, а именно: основополагающие внетеоретические концептуальные уровни вызревали в малых повседневно-экзистенциальных и литературных формах, становившихся судьбой их авторов и судьбой России. Так, как это случилось с «Письмами к даме*» П.Я.Чаадаева, заложившими методологический каркас собственно русской философской традиции и общественно-политической мысли XIX в.; перепиской Н.В.Станкевича, немало содействовавшей зрелому оформлению русской литературной критики; письмами Н.В.Гоголя, предвосхитившими теоретические инициации В.Розанова и современных психософов и грамматологов.
Избранное автором «философско-эпистолярное целеполагание» потребовало обращения к широкому кругу источников по философии и методологии истории, психософии и лингвистике, культурологии и философской антропологии. Современный уровень состояния последней является предметом углубленного анализа в работах П.С.Гуревича, Б.Т.Григорьяна, В.А.Подороги, К.Н.Любутина, В.С.Степина, В.И.Плотникова, ЛАМясниковой, АВ.Перцева, Е.Г.Трубиной, В.СНевелевой и др. В условиях кризисной симптоматики, заявившей о себе в сфере философской антропологии, очевидны онтологические резервы, не раскрытые до сих пор в полной мере. Между тем как они имеют давние традиции своего метафизического «приложения» в трудах Августина Блаженного, С.Кьеркегора, К.- Г.Юнга, а также критических ини-циациях М.Хайдеггера и философских парадоксах Ф.Ницше. Последний поднял исторический процесс на уровень творчества отдельных личностей, указав при этом на принципиальную непознаваемость истории, понимаемую им как особое «поле»личности и ее времени. Вопреки логике автора это как раз и предопределило эпистемологическое напряжение и оказалось поразительно созвучно с общефилософским и содержательно-смысловым концепт-модусом эпистолярного дискурса как органики слияния феномена жизни и времени человеческого бытия, судьбы и психологизма личности, философии и истории, культурно-исторической символики и языково-коммуникативных оснований мышления и общения. Подобная проблематика заявлена в работах Х.Ортега-и-Гассета, Э.Фромма, КЛоренца, Ю.МЛотмана, И.С.Кона, В.В.Кима, Н.В.Блажевича, Н.Н.Трубникова, Б.С.Успенского, Л.А.Когана, Г.А.Чупиной, Ю.И.Мирошникова и др.
«Вызревание» эпистемного поля эпистолярного дискурса происходило путем существенной «корректировки» сциентистски устоявшихся представлений о философских обоснованиях исторического процесса в целом (Л.Февр, Р.Дж.Коллингвуд, И.С.Кон, К.Поппер, К.Ясперс, ААхиезер, Е.Б.Рашковский), текстово-нормативной и текстово-диалогической организации мира (Н.Хомский, Л.Витгенштейн, М.де Серто, П.Рикер, И.Дройзен, М.А.Барг, В.В.Розанов, Н.О.Лосский, Ю.М.Лотман, Б.Дубин, А.И.Рейнблат, К. А. Андреева), а также расширения историософско-культурологического концепт-диалога прошлого и настоящего, выступающего к тому же по отношению к первому в качестве «состоявшегося» будущего (Н.М.Бахтин, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, Б.С.Успенский, АЯ.Гуревич, Ф.И.Гиренок), что высвечивало дополнительные семантические и онто-гносеологические связи и проблемные уровни.
Традиционализму противопоставлялись различные «реконструкционные дубли» прошлого, на основе которых (с созданием собственных верификационно-
онтологических систем) философы приступили к разговору о проблемах современности, способах презентации человека во времени, в том числе посредством «археологического» и «стратиграфического» «расчленения-поиска» (Э.Гуссерль, Ж.-П.Сартр, М.Мерло-Понти, П.Рикер, М.Фуко, М.К.Мамардашвили, АВ.Гулыга, В.А.Подорога, Н.Н.Трубников, И.М.Савельева, А.В.Полетаев, ЮАЛевада), нелинейности и личностном измерения истории (В.С.Библер, М.Я.Гефтер, И.Я.Лойфман, Б.В.Емельянов, В.И.Копалов, С.А. Смирнов), а также онто-методологических основаниях разноуров-него постижения смыслового измерения бытия (В.Франкл, Н.А.Бердяев, АС.Ахиезер, Л.С.Выготский, М.М.Бахтин, С.Л.Рубинштейн, В.С.Библер, Г.Л.Тульчинский, В.В.Ким и др.), в том числе психоаналитической и психософской деструктивности сознания и поведения (Н.М.Михайловский, Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, Э.Дюркгейм, М.Вебер, А.Маслоу, Дж.Шлиен, А.А.Гусейнов, Б.Ф.Поршнев, ЮААрутюнян, А.В.Курпатов, А.Н.Алехин).
Опора на вышеперечисленные научные направления позволила очертить метафизические рамки эпистолярного дискурса как базиса для разработки его концептуальной схемы. В её предметное поле было внедрено понятие «традиция» за счет углубления исторической доминанты, неизбежно глобализируя не только сам факт присутствия человека в «историческом режиме» освидетельствования эпохи (в том числе, в микроэпистолярных срезах), но поднимая глубинные пласты психодинамики проявления исключительных, никогда более не повторяющихся личностных качеств и свойств, нестандартно заявляющих о себе в философско-антропологическом и историософском планах через человек-принцип. Поэтому исключительную значимость в изучении природы эпистолярного дискурса приобрели центральные гносеологические проблемы философской антропологии и культуры, философии истории и психософии, выходящие на смысл истории и феномен присутствия человека в ней, сущность коммуникативного конституирования личности, в том числе посредством психологизации диалога (в том числе, с властью), идентификации и самореферирования (Х.-Г.Гадамер, Э.Фромм, Б.Д.Парыгин, А.Ахиезер, Ю.Хабермас, И.АИльин, М.М.Бахтин, В.С.Библер и др.), концептуального видения «Я»-личности, эволюции сознания и дискурсивной опосредованности самопонимания человека на уровне философской культуры, в том числе текстовой (М.Бубер, И.С.Кон, И.Я.Лойфман, М.К.Мамардашвили, Э.В.Ильенков, Е.Г.Трубина, И.В.Цветкова и др.), что существенно проясняло суть предметно-синтезирующего ядра эпистолярного ракурса.
Вместе с тем решающим звеном в инициации заявки на эпистолярный дискурс стало рождение новой парадигмы, получившей в ряде гуманитарных наук название дискурсивно-нарративного, т.е. повествовательно - текстового поворота со «смешением горизонта текста и горизонта читателя» и морфологического растворения их в философии нарратива (Х.Арендт, П.Рикер, Д.Карр, Й.Брокмейер, Р.Харре, Х.-Г.Гадамер, И.В.Янков) и междисциплинарной нарратологии (Г.Уайт, Р. Шафер и др.) В рамках заявленных направлений философской мысли происходило вызревание структурно-логических оснований для предметного разговора о статусе нарративно-эпистолярных текстов не только как источников личного происхождения и уникальных исторических свидетельств-характеристик уровня развития культуры той или иной эпохи в целом. При определенных условиях они могли выступать как специфичные текстовые «проекции-опыт» философского освоения мира с выходом на уро-
вень «философских текстов», демонстрируя, с одной стороны, собственные онто-гносеологические резервы «философствования без философии», с другой, - идентифицируя «истину философии» в «истине человеческого присутствия».
Приближают к осмыслению природы эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпистолярия, исследования проблем философской проекции письма как особого грамматологического процесса-операции написания с его вери-фикационно-смысловыми и «конструкционно-деконструкционными» возможностями, в том числе на уровне «телесной практики», что нашло свое отражение в работах М.Фуко, Э.Гуссерля, Ж.Деррида, В.В.Розанова, И.Е.Гельба, А.А.Волкова, А.Кондратьева, В.АПодороги, В.Е.Дмитриева; трансформации формы бытия и сознания в литературе, частично в эпистолярно-смысловом их отражении, стратегии письма с переходом в поле культуры, в том числе на уровень опредмечивания дискурсивной практики и фиксирования текстово-культурологического её «следа»-Ю.М.Лотмана, Е.К.Созиной, Т.В.Лохиной, Ю.Л.Троицкого, Ю.В.Шатина, Е.Ю.Наумова.
Актуальность историософско-антропологического ракурса темы предопределила её близость к исторической антропологии, где, в свою очередь, также было предложено ломающее традиционное видение проблем исторического прошлого и эпистем-но-философского их сопряжения через принципиально новые подходы, синтезирующие культурно-антропологические ряды («школа Анналов» - Л.Февр, М.Блок, Ж.Дюби, Р.Шартье, Ж.Ле Гофф), конструкционно--парадигмальные заявки в духе «новой исторической науки» и «интеллектуальной истории» (Л.Госсмэн, Л.Шайнер, Л.Орр). Непривычно новаторские методы получения информации принципиально нового качества позволили говорить о рождении новой методологии изучения прошлого - истории ментальности и в России (АЯ.Гуревич, АИ.Бегунова, Е.С.Лямина, Н.В.Старовер и др.).
Сама постановка изучаемой проблемы в той ее редакции, как это отражено в названии данной работы, стала заявлять о себе лишь в самые последние годы, вслед за нарративным всплеском открыв резервы смыслообразований в областях, которые ранее были зарезервированы за так называемыми традиционалистами и источникове-дами, начиная еще с XIX в. и набирая исследовательские обороты в 20-х гг. XX в. (Н.Л.Степанов, Л.П.Гроссман, Б.В.Казанский, Ю.В. Готье, Н.Н.Фирсов, АЛеднев и др.). В дальнейшем тематический ракурс вырос до масштабов «психологической прозы» (П.К.Губер, в 70-е гг. Л.Я.Гинзбург), создав прецедент трансформации «банального» в канал зрелого литературоведения и психоистории.
Исключительный вклад в осмысление рассматриваемой проблемы на онто-гносеологическом уровне, не исключая общетеоретических проблем эпистолографии, культуры письма, его функциональной стратегии «порождения экзистенциального смысла» с позиций семиотики и семантики, был внесен московско-тартусской школой, возглавленной Ю.М.Лотманом, получив логическое продолжение в глубоких разноплановых исследованиях Б.А.Успенского, В.М.Живого, И.АПаперно, И.Н.Данилевского, А.Л.Юрганова, А.Я.Гуревича, НЛ.Пушкаревой. В трудах историков, филологов, философов, искусствоведов, психологов и даже юристов, нередко на стыке научных интересов, полностью или частично затрагивались разновеликие пласты жизни эпистолярных форм, послужив основанием научного разговора о специ-
фике эпистолярного жанра с его семантико-стилистическими и лексикологическими особенностями. Чрезвычайный интерес в этом плане представляют цикл' работ историка Н.Я.Эйдельмана о декабристе М.Лунине, А.С.Пушкине, АИ.Герцене, труды Е.Н.Марасиновой, русистов Тодда III У.М., И.Паперно, Е.Н.Дрыжаковой.
Вторжение на территорию нарративно-исторического повествования эпистолярного дискурса, превращающегося в объект историософского своего перерождения, стало научным фактом. В силу этого он имеет различные модусы. Главным и определяющим в контексте нашей темы является философско-антропологический, позволяющий выявить субстанциональные параметры природы самого данного феномена как экрана, на котором оказался проявленным лик человека XIX в.
Тем самым обзор состояния изученности проблемы позволяет констатировать известную степень готовности философской науки к предметному разговору о имманентно-содержательной наполненности эпистолярно-дискурсивного феномена, что свидетельствует, с одной стороны, о закономерном и устойчивом интересе к объекту исследования; с другой — о наличии серьезных исследовательских пробелов в его изучении, прежде всего на уровне комплексного философского, историософско-психософского, эмпирического и трансцендентно-антропологического синтеза начал проекции гуманистической Науки о Человеке. Как видится, её основания и должны стать базовыми при изучении эпистолярного дискурса XIX в. как философско-антропологического феномена, продуцируя многообразие методических приемов и средств его исследования, многоплановость сюжетной орнаменталистики и нетривиальность разговора о «человеке во времени».
Объект и предмет исследования. Объектом данного диссертационного исследования является эпистолярный дискурс XIX в. как философский нарратив, с одной стороны, и синтез массового и индивидуального, типического и особенного, исто-риософско-антропологического, социокультурного и психософского, с другой.
Предметом - природа философско-антропологической трансформации интерсубъективных смыслов «рефлексионно-эпистолярного бытования» на уровне самоидентификации личности через репрезентативно-эпистолярный «звуковой код», позволяющий вычленить способы и методы взаимодействия с историческим опытом, пониманием как прошлое, того человека XIX в., который посредством письма ответил на своем уровне на основополагающие вопросы философского бытия. Обнаружение предметно-онтологического поля стало результатом кропотливой исследовательской деятельности автора в крупнейших архивохранилищах, большой выборочной работы по отысканию колоссальной по объему, уникальной по содержанию и ныне практически забытой переписки, опубликованной в исторических журналах-публикаторах XIX — нач.ХХ вв.
Цель и задачи исследования. Учитывая, что за категориально-рецепционным уровнем понятия «природа эпистолярного дискурса» просматривается «сущность» и «режим существования» феномена, целью диссертационного исследования видится построение целостной философско-антропологической концепции эпистолярного дискурса как философского нарратива, с одной стороны, и историософско-антропологического «ноумена», с другой.
В качестве исследовательских задач автор выделил следующие:
- рассмотреть сущностные особенности и онтологическую специфику проявленности философской природы эпистолярного дискурса через нарративно-эпистолярную практику XIX в.;
- определить способы трансформации эпистолярных нарративов в философские тексты, выявив их философско-антропологические потенции;
- установить общесубстанциональные резервы структурно-классификационных параметров эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэписто-лярия, дав авторскую его интепретацию;
- предложить вариант трансформации-сопряженности индивидуального и социального, уникального и универсального в истории России XIX в. ив духовных исканиях современников через эпистолярно-коммуникативный канал озвучивания вопросов: о феномене личности и пределах её духовной свободы, цели и смысле бытия, цене жизни и смерти в России, месте российской истории и предназначении русского человека в ней;
- проанализировать отдельные звенья грамматологического процесса-операции написания с его верификационно-смысловыми и конструкционными планами;
- выявить органику и специфику проявления эпистолярно-ментальных образов личности, оригинальности информационно-текстового, коммуникативного-смыслового, психо-лингвистическо го кодирования эпистолярно-философской мысли, пластично «растворенной» в имманентной потребности человека к полноте бытия и расширяющей возможности самой ее реализации в философско-антропологической проекции специфичной эпистолярно-дискурсивной формы.
Методологические основания исследования. Эпистемология проблемы эпистолярного дискурса как философско-антропологического феномена основывается на выводах отечественных и зарубежных авторов, раскрывающих отдельные составляющие самого онтологического процесса познания и частных его аспектов через рефлексию по поводу собственной методологии, не исключая элементов позитивистской, постпозитивистской, постмодернистской традиций, «школы Анналов», тартуской школы семиотики, экзистенциально-герменевтических наработок, прежде всего ученых УрГУ, а также РГГУ, Воронежского, Белорусского госуниверситетов
Смысловое поле работы задается оппозициями философской антропологии и культуры «я - другой», «эпистолярный текст - философский нарратив», «культура эпохи - культура текста», «время - хронотоп», «ментальность - реальность», «рациональное - иррациональное», «архетип - хронотип - метатип» и т.д. Наш замысел в том, чтобы концептуально связать их в единую панорамно-проекционную картину проявления природы эпистолярного дискурса на уровне самораскрытия его сущности и режима «проявленности» существования в историософско-антропологическом и социокультурном ключе с опорой на «осевой» временной параметр - XIX-й век. Поэтому для конкретизации общетеоретических положений и выводов закономерным в нашем случае стало обращение к поистине колоссальному эпистолярному наследию, текстам русских философов, документам и материалам по истории России, дневникам и воспоминаниям, историко-биографическому фактажу, что обеспечивает предметно-экспозиционный ракурс эволюции эпистолярного дискурса.
Исходным концептуальным основанием является антропологический принцип, понимаемый нами как «противоречиво-диалектическое» единство индивидуального и социального, проявленное в феноменальной природе эпистолярного дискурса как концепта. Этот синтез позволяет выявить творческий потенциал событийной и экзистенциальной жизни людей, отправляющихся на поиски смысла и создание своей собственной истории через строительство «эпистолярно-бытийной конституции» современной им эпохи.
Эпистолярный дискурс рассматривается в работе как базовый феномен, вычленение онтологических резервов которого возможно на основе метода феноменальной редукции с опосредованием уникального и универсального через «философско-антропологическую экзистенцию» эпистолярного текста как проекции подлинного и неподлинного существования философски мыслящего человека, не являющегося философом по роду своих занятий, С этих позиций данный метод становится средством конструирования миров-феноменов - мира письма (как феноменологического способа презентации личности; самого процесса написания; визуально-телесного опыта, когда можно «думать» и рукой) и мира человека в условиях интерсубъективной обусловленности (не только пишущего, но читающего и интерпретирующего письмо) - сводимых вмир-феномен эпистолярного дискурса.
Принимая во внимание идеи фундаментальной онтологии об эпохах забвения и хранения бытия при изучении эпистолярного дискурса использован метод двойной интерпретации - текстовой и социокультурной, в сочетании со структурно-генетическим подходом В последнем случае структурная сторона проявлена предметностью эпистолярно-философской мысли, а генетическая — индивидуальной оригинальностью авторов писем и реверсионными потенциями самих нарративных текстов как «отражательного экрана» «истинно-ложного» состоявшегося авторского «Я». Это позволяет интерпретировать сам антропологический принцип как противоречивое «взаимопрорастание-единство» личностного и исторического, уникального и универсального, сливающихся в эпистолярном дискурсе в диалектико-опосредованный синтез жизни людей и жизни текста, когда рассказывание жизни и ее проживание становятся одним и тем же по своей сущности феноменом, порой взаимозамещая друг друга. Преломленная в эпистолярном дискурсе запредельность человеческого существования через синтез микро и макрокосма текста и языка, личности и социума, личной судьбы и исторической судьбы России как непрерывного процесса продуцирования значений и смыслов - требует использование элементов методов философской и аналитической герменевтики (в оригинальных версиях Г.Г.Шпета, АС.Лаппо-Данилевского, И.Н.Данилевского, Х.-Г.Гадамера, П.Рикера, Р.Дж.Коллингвуда). Проблема понимания и интерпретации осуществима на базе единства грамматологической, психоисторической и социокультурной их составляющих с привлечением историко-биографической реконструкции в случаях важности воссоздания бытийных аспектов и мыслей, вырастающих через эпистолярный дискурс до уровня философски значимых обобщений.
Учитывая междисциплинарный характер работы и значительный объем привлеченных источниковых материалов, естественным становится использование метода историзма как особой формы историософского сознания, оперирующей аргументацией по поводу того, что всякий акт познания, даже духовное бытие — ставшее, а
личность - индикатор и катализатор всех исторических процессов. Это осознается на базе историко-логического, системно-концептуального (с выходом на экстраполяцию) принципов с соответствующими рефлексионными их потенциями. Предложенный А.В.Перцевым вариант типологического подхода к нравственному сознанию в виде метафилософского построения предельно обобщенных типов жизненной позиции, установок сознания и этосов умозрения имеет основания стать «рабочим» при анализе типажа жизненных позиций и диспозиций, речевых интенций-«проговариваний», вариабельности образа личности в её соотнесенности с вопросом о смысле бытия, а значит, жизни и смерти. В подобном контексте историко-психологический метод в редакции А.Л.Вассоевича, звучащий как предположение о том, что системно описать образ мышления людей, живших много веков назад и говоривших на определенном языке, можно лишь изучая господствовавшие в соответствующее историческое время психологические ориентации, органично дополняет предлагаемую конструкцию. Несомненно перспективен метод текстовой деконструкции - изучения авторского намерения (Фоккема) на основе сравнительно-типологического анализа эпистолярных полиисточников и того, что в момент написания текста было «за кадром» и даже самим автором не могло быть вполне осознаваемо (Ю.М.Лотман) с совмещением идеального образа, выстроенного в сознании пишущего, и той реально-биографической его трансформации, что оказалось «выписано» уже самой жизнью.
Апробирование приемов сравнительно недавно заявленной «зеркальной симметрии» как принцип просматривается и на уровне эпистолярного дискурса. Разделение симметрии и асимметрии на две пары - онтологическую (существующую в объективной реальности) и гносеологическую (обусловленную познанием) - есть, по сути, отражение основного вопроса философии в той его форме, что «предписывает» всякому объекту ту и другую форму единства первого и второго. Развитие научного знания может быть охарактеризовано как поиск симметрии (т.е.непротиворечивость, себетождественность). Вполне вероятно, что прогрессивная составляющая в материальном мире (прежде всего, конечно, истории) - это переход от симметрии к асимметрии, а в познании - наоборот, причем симметрия выступает каждый раз как промежуточная цепь каждого этапа. Производные этого методического приема в контексте нашей темы - «ломаная» асимметрия, асинхронизация как возможный эпистемологический «резерв-соположенность», полагаем, имеют основания быть «принятыми во внимание» с использованием своего рода проекциюнно-асинхронного метода «контраст-диалога», как в случае со сведением в единую тематическую плоскость эпистолярно-дискурсивных проекций писем «безумствующего философа» П.Я.Чаадаева и «интеллектуала-гуру» В.Н.Станкевича, реформатора М.М.Сперанского и консерватора К.П.Победоносцева, декабриста-бунтовщика М.С.Лунина и писателя Н.В.Гоголя. Эпистолярный «генофонд»» их наследия оказался необычайно перспективен для превентивно-философской по его поводу рефлексии. Самой своей «эпистолярной судьбой» эти люди подтвердили подлинность своего историософского присутствия, отразив посредством писем некую «асимметричную запредельность» собственного экзистенциально-эпистолярного «бытования» и наметив ориентиры последующей трагической эволюции истории Отечества и фило-софско-антропологические перспективы развития самой «русской думы».
Принцип предпочтения в выборе того или иного метода, либо синтеза нескольких одновременно зависит от историософско-психологической «фактуры» самого текста, философско-культурологической наполненности и информационно -смысловой перспективы эпистолярия, органики его слияния или, напротив, диссонанса с личностью писавшего и адресата, интерпретационной «интриги» вокруг появления письма и его роли в формировании общественного сознания, способов доставки в руки конкретного адресата, а также целевой установки и «рабочей гипотезы» исследователя. Это позволяет получить ответы на принципиально важные онто-гносеологические вопросы философии. В том числе - рельефнее визуализировать и структурную органику самого поля письма, или того, что сегодня названо имплицитным (и, не исключено, эпистолярным) актом cogito.
Научно-практическая значимость исследования. Исследование носит междисциплинарный характер, совмещая в себе историософско-антропологический, психоисторический, социокультурный и источниковедческий планы. При работе с поистине безбрежным эпистолярным наследием XIX века, сохранившимся в российских архивохранилищах, в том числе крупнейших - ИРЛИ (Пушкинском Доме), Рукописном отделе Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ), Российского Государственного исторического архива (РГИА) ; уцелевшим под сводами многочисленных изданий исторических сборников и журналов XIX в.; а также опубликованной переписки, автором выявлены и впервые введены в научный оборот ранее неиспользованные уникальные архивные материалы - личные бумаги (М.СЛунина, Н.В.Гоголя), эпистолярные раритеты (Г.-Ф.Паррота), в том числе, в полном объеме (М.М.Сперанского,Талейрана) или использованные частично (Ц.-Г.Лагарпа, ВАЖуковского, Н.В.Станкевича, К.П.Победоносцева).
Практическая ценность исследования заключается в том, что предложенный авторский вариант философско-антропологической концепции эпистолярного дискурса существенно корректирует масштабы онто-гносеологических перспектив изучения «феномена человека» через «феномен письма» за счет расширения самого предметного поля и философско-антропологических его «маркеров». Материалы диссертации и публикаций по теме научного исследования могут быть использованы для разработки лекционных курсов по философии и методологии истории, философской антропологии и психологии, социологии и культурологии, литературоведению и источниковедению. Основные положения и выводы исследования нашли свое практическое применение в курсе лекций «Основы философии и методологии истории» и спецкурсе «Эпистолярный дискурс в историософии России», прочитанных автором студентам IV и V курсов исторического отделения гуманитарного факультета Нижневартовского государственного педагогического института и V курса исторического факультета Сургутского госуниверситета.
Апробация основных положений исследования. Основные идеи и положения диссертации представлены в монографии «Эпистолярный дискурс как социокультурный феномен: Россия - век XIX-й» (Екатеринбург, 2003) (16,9 п.л), в ряде научных тезисов и статей. Отдельные концептуальные фрагменты стали предметом обсуждения на многих научных и научно-практических конференциях, в том числе международных - Минск (2001), Санкт-Петербург (2001-2002), Пермь (2002), Нижневартовск
(2004); общероссийских - Москва (2000-2005), Санкт-Петербург (2001-2003), Екатеринбург (2002), Тюмень (2000-2004) и региональных - Псков (2000), Нижневартовск (1999 - 2004), Ханты-Мансийск (2004). Полученные результаты обсуждались на семинаре докторантов при ИIIIIК при УрГУ им. АМ.Горького (2002-2004) и кафедре философии Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук (УрГУ).
Результаты исследования прошли апробацию на международных конференциях «Теоретико-методологические проблемы исторического познания» (Минск, 2001); «Центр и провинция: историко-психологические проблемы» (СПб., 2001), « Я» и «Мы». История, психология, перспектива» (СПб, 2002); «Интеллигенция, Инакомыслие. Власть» (Пермь, 2002); Второй международной научно-практической конференции «Плехановские чтения» (М., 2004); Второй международной научной конференции «Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия» (Нижневартовск, 2004).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух частей, десяти глав, Заключения, библиографического списка. Содержание изложено на ЗЗ7 страницах. Библиографический список включает в себя 440 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, освещается степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, методологические параметры, оговариваются источниковая база, новизна и научно-прикладная значимость работы.
Две её части отражают биструктурный компонент понятия «природа эпистолярного дискурса», охватывая сущность эпистолярного дискурса, с одной стороны, и режим его существования в прикладной историософско-антропологической и социокультурной проекциях (на материалах русского эпистолярного наследия XIX в.), с Другой.
В первой части «Эпистолярный дискурс как философский нарратив» конкретизируются исходно-интенциальные параметры философско-антропологической проекции эпистолярного дискурса. Основной акцент сделан на общеэпистемологических основаниях и возможностях эпистолярно-дискурсивной практики быть рассмотренной в качестве философского нарратива, письма в «режиме философствования», эпистолярно-персонифицированного авторского комментария эпохи в её оригинальном хронотопе - «русском» XIX в. В главе 1-й «Прошлое еще впереди: общеэпистемологические аспекты «звучащей и говорящей плоти» предпринят анализ рождения новой научной парадигмы - нарратива как ответа на ключевые вопросы современности о способах получения человеком исчерпывающей информации о самом себе и поиске новых подходов к решению фундаментальных философско-антропологических проблем бытия с созданием особого нарративно-текстового поля с органичным включением в него эпистолярного дискурса, что усугубляет проблему классификационно-категориальной градации и интерпретационного моделирования.
В диссертации обосновывается положение, что эпистолярный дискурс обладает масштабными онто-гносеологическими потенциями как на уровне эпистолярно-историософского комментария событийного прошлого, способного вновь ожить посредством «эпистолярно-текстового бытования», так и вычленения его философско-антропологической самости как самостоятельного дискурса, а не аппликационно-дискурсивного скола-подвида (Й.Брокмейер, Р.Харре) с его материальным «телом письма», «эхом» и «тенью письма», оригинальностью дискурсивно-функциональной компоненты и абстрагированием в конечном итоге даже от самого автора (в контексте постмодерна обозначенного Р.Бартом как «смерть автора»).
Это нередко ведет к перерастанию не только рамок авторского замысла, но приобретению письмом нового смыслового и метафизического статуса - «философского текста» как своеобразной текстовой «бифуркации» - точки перехода в новое качество мышления - философское. Оно способно адаптировать результаты «экзистенциально-эпистолярной» деятельности-поведения посредством их переложения на язык философии и приобретения неофитом опыта философствования, т.е. освоения им элементов общефилософской культуры. Тем самым эпистолярный дискурс выкристаллизовывается в особую форму своеобразного «метазнания», циркуляция смыслов которого в разных нарративно--текстовых частях и разных нарративах позволяет рассматривать само данное понятие в качестве определенной историософско-антропологической и метафизической практик, сливающихся в эпистолярно-дискурсивную универсалию. Выявление имплицитных историософско-антропологических, психолого-речевых, структурно-семантических и иных параметров позволяет вести речь не просто о письме или дискурсивно-эксплицитных его характеристиках, но текстово-эпистолярном шифр-коде авторского голоса его носителя и, наконец, - визуализации условий возможности «вывода» знаний и теорий по данному вопросу в концептуальное целое, т.е. то, что названо у М.Фуко «археологией знания», сводимых в философско-антропологический эпистолярно-экзистенциальный генетический феномен «человека во времени».
Подчеркивается, что эпистолярный текст-нарратив как раз и запечатлевает момент интерпретационно-смыслового рождения-смерти самого эпистолярного дискурса с выходом на первый план эпистемологических и антропологических резервов в момент созревания «историософско-антропологического импульс-борения» - метафизического «предчувствия» собственной дискурсивной значимости. Продолжение разговора на тему «Что делает нарратив историей?» вылилось в новое направление: «Что делает нарратив философией?» Это предполагает конверсионный уровень тек-стово-рефлексионной самоидентификации личности через расширительный ракурс понятия «философский текст» и классически упорядоченный - «философское письмо». Эпистолярный нарратив с его историософско-смысловым перетеканием в данном случае вводит новое эпистемологическое сопряжение понятиям «философский текст», «психо-нарратив», «хронотоп минувшего» и т.д. Текст, создаваемый для адресата, изначально содержит интерсубъективную перцепционно-«зеркальную» подоснову, где отраженным, а значит, уже находящимся на стадии проявленной самоактуализации и аккомодации, является не только «Я»-«Мы»-«человеколичность», но и так называемая «безликая» (многоликая) толпа, принимающие на себя в XIX в. и авторство, и адресность, и его индульгирование. Эпистолярный дискурс обнаруживает
поразительное свойство не только отражать, но моделировать макро (внешний) и микро (внутренний) миры, высвечивая сокровенные тайны человеческой психики, неизбежно проговариваясь о самом потаенном между строк.
Являя собой уникальный, ни на что не похожий вариант рефлексии особого рода, письма позволяют лучше разглядеть физиономию времени через живой мыслительный процесс слившихся с ним поколений. Органично сопряженной оказывается тема коммуникации как один из способов познания, межличностного общения и поведения: исторический опыт ее эпистолярной разновидности, формируя определенную традицию общения, вырабатывает и специфичный ее эпистолярный стиль. Это проявляется в особенности эпистолярной коммуникации не просто поддерживать общение на расстоянии, но формировать и «оформлять» эпистолярную мысль, дисциплинируя мышление посредством постановки перед адресатами (в том числе, коллективными) задач на «понимание»
Обнаружены общесубстанциональные резервы структурно-классификационных параметров эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпи-столярного «арбитра», разрешающего мотивационные противоречия между подсознательно-глубинными и демонстративно-эпатажными формами «эпистолярного» поведения не только человека, но и самого нарративного текста в разных его регуля-тивно-проекционных отражениях. Тем самым, с одной стороны, сложность и многомерность его текстовой организации превращают письма в центральный объект исследований смежных дисциплин - от литературоведения и философии до истории и психолингвистики с последующей интеграцией научных данных. С другой, именно письма, прошедшие свой путь «созревания формы и духа», как одни из самых распространенных и не до конца изученных дискурсивных форм, приближают нас к пониманию «человека во времени», а также природы самого эпистолярного дискурса. Они нередко перерастают не только жанровые стандарты, но, превращаясь то в «credo», а то в «доказательство от противного», в конечном итоге претерпевают масштабную трансформацию в качестве метаэпистолярия, подвергаясь реконструкцион-но-эпистемологическим экспериментам, не исключая проявления себя как интриги (П.Рикер), или смысловой провокации для создания историософско-антропологического прецедента (П.Я.Чаадаев, М.СЛунин).
Начиная с уровня классификационно-категориального разведения сопряженных с письмом понятий и уточнения градации источниковых групп, возрастают гносеологические трудности, сопровождающиеся разрастанием эпистемологических очагов сопротивления онтологическому вторжению на «территорию эпистолярного дискурса». На важность именно «естественной классификации» источников (с опорой на связи и отношения внутри классифицируемых объектов, сложившихся в ходе исторического развития знаний о них) традиционно обращалось самое серьезное внимание исследователей. Личные, родственно-интимные, любовные, женские, семейные, скандальные (в т.ч доносы и пасквили), педагогические, дружеские, автобиографиче-ские,дневниково-«путешествующие», политические, философические идажехозяй-ственно-деловые и служебные письма явились поистине универсально-полифоничной формой эпистолярно-экзистенциальной презентации человека и репрезентации самого эпистолярного дискурса. Его проявленность как философско-антропологического феномена стала "возможной в результате мощного концептуально-
эпистемологического прорыва конца Х1Х-ХХ вв. с резко обострившей грани методологического вызова-противостояния дискуссией о традициях и современности. Это породило споры 1970-х гг., названные в литературе «постмодернистским вызовом», которые велись вокруг принципов получения информации об исторической реальности, с продолжением разговора на уровне возвращения на «интерпретационно-герменевтический круг».
Текст — специфическое отражение в «материале» неоднородной по фактуре речевой деятельности. Эпистолярный нарратив становится относительно самостоятельной бытийной данностью со сложным переплетением смыслов и подтекстов, а в целом - важнейшей стороной человеческой рациональности. Но понять и интерпретировать - это совершить по существу разные герменевтические операции, степень сложности которых возрастает, учитывая специфику жанра с его минутностью настроения или, напротив, тщательной шлифовкой смысловых акцентов, что актуализирует анализ «авторского намерения». Понимание связано с осмыслением текста по содержащимся в нем компонентам. Интерпретация есть переход на более глубокий уровень понимания и реконструкции смыслов, конспиративно заложенных в авторском замысле, хотя само понятие подчеркивает «изначальность» вариабельности макетов исследования. В отличие от понимания, происходящего в опоре на знание языка, интерпретация текста осуществляется в контексте познавательной и оценочной деятельности человека, т.е. путем совмещения понятого в языковом отношении текста со знаниями о мире и о ДРУГОМ, как о самом себе. Подчеркивается, что процесс создания «текстосмыслов» предполагает и определенное «дирижирование» потоками сознания - не только авторского, но и интерпретационного. Признание того, что интерпретируя «чужой» текст, мы тем не менее создаем «свой» (параллельно меняя свою собственную природу), с неизбежностью подводит к логическому выводу: не мы выбираем текст, а текст выбирает нас, что делает сам процесс изучения эпистолярного дикурса по самой своей природе бесконечно онтологичным.
Во второй главе «Эпистолярий как письмо в режиме философствования» предложена онтологическая парадигма - структурная трансформация смыслов эпистолярного дискурса (и его историософско-антропологической проекции - русского эпистолярного наследия XIX в.) как особо привлекательного для философской рефлексии объекта в эволюционном диапазоне его саморазвития. Главный акцент делается не на письме вообще или алфавитной записи, обладающей специфичной коммуникативной самостью, а их саморастворении друг в друге с последующим оформлением в органичный субстрат-слияние на базе философии, психоистории, культуры.
Подобное эпистолярное «оплавление» эпистолярного дискурса — дополнительные фон и фонд «накопления смыслов». Вполне логичным в нашем случае видится начало изучения философии письма как практики записи, придающей в отдельных случаях бытийному аспекту иной эпистемно-экзистенциальный подтекст, что особенно актуально в тех эпистолярных раритетах, где проявляет себя, с одной стороны, феномен так называемого социокультурного конструирования чувства идентичности («сопричастности»), а с другой — идентификации уникального авторского голоса, перерастающего рамки «своего» времени настолько, что, не исключено, именно ему и позволено будет стать голосом эпохи. Письмо тем самым приобретает символический характер, а текст вбирает новое для себя символическое качество. Наиболее класси-
ческим примером этого становятся так называемое «философическое письмо» XIX в., сумевшее перерасти условность логос-форм, механистичность алфавитного и метафизического их сопряжения, и, как оказалось, относительность земного несовершенства человека. Не будучи философами в классическом смысле этого слова и превозмогая собственную земную ограниченность авторы писем, как например, Г.-Ф.Паррот, М.М.Сперанский, К.П.Победоносцев, Н.В.Гоголь, М.С.Лунин, Н.В.Станкевич, П.Я.Чаадаев нашли способ прикоснуться к «небесному знанию» -философии через эпистолярный диалог с современниками, не просто создав традицию, но заложив особый философско-генетический стержень в основание понимания сути российского прошлого и исключительной трагедийности действенно-активного присутствия в нем личности, «делающей» себя по типу «исторической».
Подчеркнуто: эпистолярный дискурс плавно перешагнул грань «философии без философии», состоявшись в главном - как зеркальное отражение духовной субстанции самого человека, следовательно, первоосновы процесса познания себя. В нем оказались зашифрованы «духовная организация» самой эпистолярной практики, творческий замысел и авторский потенциал, лингвистико-языковые коды, «эхо речи» с его «закадровой» жизнью слова, «тень письма» как смысловое служение эпистолярной формы автору, адресату и исследователю, «тело письма» как системно-продуктивный материальный его план, поддерживающий в эпистолярии циркуляцию жизни «земной и последующей».
В диссертации актуализировано внимание на востребованности эпистолярной универсалии литературой и философией с целью более глубинного осмысления исторической практики в ее субстанциональном и интенциальном измерениях на протяжении всей истории развития человечества. Как предмет философских исследований, в XX веке письмо уверенно переместилось с периферии в центр научных интересов, тесно переплетаясь с онтологической и гносеологической проблематикой. Как дефиниция и предметное поле, письмо «созревало» в процессе собственного метафизического становления. Хотя его понятийный абрис как процесса до сего дня весьма расплывчат, а само толкование варьируется в достаточно широких пределах, коммуникативная характеристика является базовой для всей системы функционирования письма. Графическое нанесение знаков в контексте определенной культурно-исторической традиции, апелляция к созерцанию, а значит, и рефлексии, индивидуально присущие письму коммуникативные ресурсы возможного переброса в иные каналы связи (нелегальное распространение и печать, тиражирование, коллекционирование, фальсификация) при сохранении линейного порядка письменных знаков, придавали эпистолярию характер динамичной жанровой универсалии, как в случае с эпистолярным дискурсом XIX в.
Как самостоятельное проблемное поле, письмо изучается сравнительно новым научным направлением - философской грамматологией, которая по-своему препарировала понятие «письмо» через придание системности взаимной коммуникации с помощью условно примененных знаков (И.Гельб, И.Фридрих, М.Фуко, Ж.Деррида, А.Эккарт, Н.М. и М.М.Бахтины, А.Волков). У истоков этих концептуальных построений находится розановский метод письма с его почти платоновскими «интонациями» слияния письма и смысла и превращением практики записи в основной научный метод собственно философской рефлексии. Генезис эпистолярного дискурса вы-
светил несколько смысловых пластов: письмо как язык, письмо как слово; как знак; как символ; как жанр; как раритет; как культурное наследие - и в конечном итоге -как проявление Божественного через человеческое. Т.е. всё то, что оказалось мен-талъно-генетически прочерчено в эпистолярном дискурсе с его ступенями диалектического созревания: коммуникативная проявленность желания самовыразиться, невзирая на расстояние; собственно акт рукописания в качестве условия усвоения человеческого опыта как один из «трансмиссионных» способов его аккомодации; перформативно-исторический характер передачи информации. В XIX в. эпистолярная разновидность этого процесса приобрела черты особой ритуализации, вобрав в себя поведенческо-бытовые и экзистенциально-феноменологические институты, став особой дискурсивной практикой с ее магией «оживления» бумажного текста, мета-форизацией эпистолярных образов, «высушиванием» в отдельных случаях эмоционально-психологического фона, а порой, напротив, «наращиванием» сценарного динамизма.
Проявленность самости эпистолярия усиливается четко заявленным предпочтением эпистолярной коммуникации перед любой другой, например, записками, мемуарами, либо, напротив, демонстративным отказом от нее. Метафоризация и антро-пологизация эпистолярных образов, эпистолярное «экранирование» суточного ритма («почтовый день, «эпистолярный миг и час», «письменная жила», «чернила как кровь», «перо как орудие»), способы кодирования информации на эпистолярном уровне позволяют осуществить переход эпистолярия на уровень метаэпистолярия с его возможным взаимозамещением дискретных составляющих таких дефиниций, как «общественное сознание», «общественное мнение» и пр. У эпистолярного дискурса есть и уникально-специфические иллоккутивные (с установкой на внимание) резервы воздействия на автора, читателя-адресата и исследователя при попытках интерпретационного его прочтения. Но это еще и особая форма экономической циркуляции и обмена: «манускриптность», рукописность придают особую ему цену, выставляемую также на продажу и тем превращая в товар (через придание письму экспертной самости и ценности раритета).
Делается вывод о том, что, являя собой оригинальный дискурсивный синтез философского, исторического и психо-лингвистического начал, эпистолярный дискурс XIX в. состоялся в культурологической, экзистенциальной и гуманитарно-антропологической проекциях, став больше, чем просто «лист с начерченными на нем письменами». Он приобрел собственное «тело письма», смог отразиться как его «эпистолярное эхо», незримой «тенью» сопровождая путь человека в эпистолярно-историософское «воспоминание о будущем».
В третьей главе «Эпистолярный комментарий эпохи «предсмертного смешения» анализируется степень метафизического сопряжения-проявленности («друг-через-друга») понятийного ряда «личность - культура - время - эпистолярный стиль -эпистолярный жанр - традиция «малых рукописных форм» - эпистолярная литература» XIX в. В это основание закладываются историософско-антропологические, временные и коммуникативные ориентиры, позволяющие максимально полно самовыразиться личности, оперирующей набором самых доступных ей средств на уровне обыденных социокультурных параметров, в частности, эпистолярного дискурса, аккумулирующего в себе напластование страт: письма как текста, в том числе фило-
софского, письма как нарратива, письма как «звучащей и говорящей плоти» в переломный период «предсмертного смешения». Он оказался способным не только удерживать прошлое, спрессовывая временные оси координат и создавая тем самым эффект «эпистолярной эхолокации». Через него время и культура зеркально отразились друг в друге, позволяя освидетельствовать личностный уровень присутствия в них человека.
Ставшая почти хрестоматийной для России ситуация синтеза разноуровневых социокультурных «сколов» (от утопии и мессианства до «хождения в народ» и культурного ренессанса XIX в. с его «эпохами-слитками» - золотым и серебряным веками) с особой остротой заявила проблему духовного учительства, сопряженную с созданием культурного семиозиса с интериоризацией в общественную среду идей и ценностей, носителями которых провозглашались реальные и мнимые «властители дум». Эпистолярный жанр стал визитной карточкой эпохи, продемонстрировав необъяснимый с позиций сегодняшнего дня уникальный пример латентного соавторства писателя и читателя с расширением границ самого терминологического поля эпистолярного дискурса. Феномен загадочного литературного «сообщничества» подобной степени доверительности и узнавания в другом своего, больше, пожалуй, не проявил себя в русской истории столь неожиданным способом. Каждое опубликованное слово расценивалось как лично обращенное, получая дальнейшее своё развитие и вторгаясь в жизнь не только среднего обывателя, но и царственных особ.
Став периодом экзистенциального вакуума и породив «лишних» людей, непомерные литературные, педагогические и политические амбиции и поразительную незащищенность русской души, какой бы государственной броней она ни была прикрыта, в XIX в. открылись уникальные возможности вписать себя в удивительные хитросплетения российской истории, тем самым трансформируя «homo sapiens» в «homo historicos», а затем «homo faber-epistoljaricos». Расширение практики рукописных текстов совпало с появлением «культур личностного типа», на скрещении которых и вырос «человек пишуще-философствующий». Установлено, что эписто-лярно-жанровая универсалия, языковое совершенствование, перевод биографического контекста в метафизический подтекст превращают письма XIX в. в экзистенциально-генетический вариант эпистолярного творчества и философской рефлексии, оказавшийся способным становиться в России судьбой, особым предначертанием и даже роком для их авторов.
Подчеркивается, что живой обмен константно-инвариантной информацией и декодирование текста адресатом трансформируют эпистолярный дискурс в генератор новых смыслов и в систему «перераспределения» смыслового напряжения в тексте и в жизни. В XIX в. заявила о себе и полифункциональная культурологическая модель эпистолярного поведения, в рамках которой оказались возможны оригинальные эпи-столярно-рефлектирующие формы яркого присутствия «человека во времени», чем бы он ни занимался: управлял империей или жандармским Отделением, был чиновником по особым поручениям или заговорщиком-бомбометателем, сочинителем романов или прокламаций, композитором или министром. Порой именно письма, демонстрируя либеральные и демократические симпатии их авторов, подводили некий итог «опрокидыванию» «символов веры» в реальную повседневность с ее жесткой корректурой умозрительных построений, как это случилось в судьбе Л.Н.Толстого.
Формирование традиций рукописного творчества становилось зеркальным отражением той общей высокой книжной культуры XIX в., которая приучала людей мыслить «вторым зрением» с его умением видеть то, что реально скрыто от глаз, с чем, собственно, и связано рождение русской философии того времени. По мере раскручивания машины российского деспотизма у эпистолярного дискурса стала проявляться и специфичная функциональная заданность — потребность найти не просто слушателя, а понимающего единомышленника, обретая тем самым определенную психологическую защиту.
Слова раскололи и даже раскалили XIX в., подтолкнув просвещенную Западом русскую мысль к выводу, что не все действительное в России разумно, что и стало началом нового взгляда на историю России, которая подсознательно разбивалась на «правильную» и «неправильную». На этом фоне развертывались великие идейно-философские баталии и не менее грандиозные сражения в «войне за прошлое». История и настоящее оказались органично слиты, а на все русское общество было наложено философическое «проклятье». В ницшеанском тупике страна оказалась много раньше остальной Европы, следствием чего становилось отсутствие середины в отношениях между полюсами, размытость граней мировосприятия и поведения простых подданных российской империи и ее первых царственных особ, явив феномен «загадки русской души» с постоянным редуцированием нигилистического отрицания на всех уровнях, не исключая самых радикальных и опасных. Для демонстрации этого была избрана эпистолярная форма, в том числе открытые письма к первым лицам государства, в частности Александру II, Александру III и рождение новых «эписто-лярно-массовочных» коллективных обращений, требовавших присутствия постановщика-сценографа, способного дирижировать крепнущим «коллективным бессознательным».
Резюмируется, что эпистолярная «звучащая и говорящая плоть», облеченная в различные формы своего бытийно-экзистенциального присутствия, с одной стороны, стала органичной и неотъемлемой частью общекультурного процесса в целом. С другой — эволюция эпистолярного дискурса напрямую влияла на динамику общеисторических процессов, являясь их индикатором и звуковым кодом. Но этот процесс «взаимозамещения» сопровождался своим «диалектически-зазеркальным» отражением - тем изломом, который фактически разделил Россию, привнеся иррационализм в мышление и поведение ВСЕХ живших тогда с их «логикой» крайностей, иллюзией мессианского рукотворного историзма, и поставил страну на грань торжественно объявленной гражданской войны с ее «кровью по совести». Письму в подобной ситуации выпадала весьма непростая роль стать голосом эпохи, расставляя эпистоляр-но-смысловые акценты в ее социокультурном pro et contra.
Глава четвертая «Авторский голос в эпистолярном «диалоге с отсутствующим»: «У царей друзей не бывает» посвящена изучению феномена авторского голоса как самореализующего себя в письме элемента саморепрезентации, разрушающего искусственность присутствия человека в этом мире через наделение его оригинальным личностно-звуковым кодом и подтверждая справедливость наблюдения: не-выговоренное бытие - непрозрачно для сознания. По представлению М.Вартофского, внешние репрезентации, основывающиеся на первичной деятельности по воспроиз-
водству жизни, выступают предпосылкой для внутренней репрезентации, т.е. рефлексивной деятельности, воображения, мышления, как эволюционизирующие особенности познания в целом. Возникающие в результате модели - эвристические конструкции становятся не просто хранилищем опыта и мышления, но и вариантами описания мира вне и внутри себя. Поэтому они могут репрезентовать человека как познающего субъекта, став базой для реконструкции самого субъекта. В этом смысле все формы репрезентации (в первую очередь, эпистолярно-дискурсивные) могут быть формами самопознания.
Установлено, что авторский голос, воспроизводя, интерпретируя, транслируя «открываемые им» смыслы, способен становиться частью исторической и общефилософской культуры, идентифицируя ее, поскольку «универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению». Кроме жанрово присущих тексту черт коммуникативной презумпции — передачи «лежащей на поверхности» константной информации, он обладает специфической особенность создавать смысловые «воронки», превращая эпистолярный дискурс в генератор новых смыслов и новых жанров с разведением «жизни мысли» и «жизнь сердца» (П.А.Вяземский). При создании эпистолярного текста устанавливается вербальный контакт автора в эпистолярном «диалоге с отсутствующим» не только с адресатом, но прежде всего с самим собой, тем, кого еще нет в «проявленном присутствии». Этим рушатся или, наоборот, возводятся барьеры на пути к взаимопониманию с современниками и временем, а саму личность становится возможным уподобить тексту высокой сложности с встроенной иерархией индивидуализированных кодов (Ю.М.Лотман).
Но только в социуме человек приобретает статус социального существа как совокупности ролей, мест, функций. Через социальные языки кодирования транспонируются социальные формы жизнедеятельности для перевода их на уровень социальной стратификации. Это позволяет увидеть то, что «просто увидеть» сложно - личностную самость в ее борении с обстоятельствами жизни. К.-Г.Юнг выделяет в развитии личности структурную индивидуализацию как расширение сферы сознания и выделение личности из коллективных основ собственной психики - лживых покровов персоны (социальной роли-маски) и диктата бессознательного, что, собственно, и становится актом приобретения человеком полноты и целостности своего бытия. Переход к «прегнальным» (т.е. структурированным, осмысленным, собственно ин-, теллектуальным) гештальт-образованиям сознания, по Л.С.Выготскому, определяется усвоением человеком системы культурных знаков (в частности, речи), что приводит к перестройке психики и появлению подлинно осознанного, произвольного и социального поведения. Подчеркивается, что именно подобный концепт солирует в эпистолярном дискурсе, раздвигая его границы и превращая то в литературу, то в историю, то в психонарратив, то в философию. Но открывшись миру, человек исчезает: он раздваивается, одномоментно оказываясь вне и внутри эпистолярной формы. В зависимости от принятой на себя и исполненной социальной роли тональность авторского голоса манифестирует «акт воплощения» или «развоплощения».
Коллекция эпистолярных раритетов XIX в. - от хозяйственно-бытового и любовного до пропагандистско-компроматного и философского, позволяет через прямую речь «живых» носителей авторского голоса (а он мог ломаться, фальшивить, или, напротив, быть предельно искренним и откровенным, оправдывающимся, на-
ставляющим на «путь истинный» или рефлексионно проецирующим на последующие поколения извечные «русские вопросы») приблизиться к пониманию многоцветного и разноголосого, равно как и необычайно противоречивого исторического социума XIX в. При всех условиях и оговорках подобный психо-нарративный слепок общественных настроений дает исключительно ценную информацию для наполнения смыслом таких категорий, как «диспозиция личности», «динамичный образец поведения», «проявленное душевное состояние». Исходя из такого видения предмета исследования следует признать правомерность притязаний эпистолярного дискурса на роль пластичного нарративного индикатора, в большинстве случаев достаточно репрезентативно раскрывающего сам дух эпохи и, не исключено, ее историософскую логику
Манифестируется, что у письма есть явная и тайная власть над пишущим его и потенциально отвечающим автору: адресат выступает своеобразным отражательным экраном, на который проецируется эпистолярное задание на понимание и возвращаемый ответ в новом информационно-психологическом его качестве. Введено новое понятие - эпистолярный интеракционизм, в рамках которого прослеживается действие механизма «эпистолярно-информационного онтогенеза» - специфичного информационного обмена между полюсами эпистемно-коммуникативной дуги (автор-адресат-исследователь) с возможным выявлением их информационно -психологической совместимости и даже «заражения», а также корреляционно-адаптивного ресурса самой переписки и возможности ее интерпретации без ущерба для смыслового ядра. Но эта сторона философско-смысловой наполненности эпистолярного дискурса до сего дня практически не изучена.
В данной теоретизированной схеме наиболее живым и значимым для исследователя звеном выступает авторский голос, расслышать который сегодня бывает много труднее, чем современникам. Но в некоторых диспозициях понимание его носителя возможно именно с отдаленно-временного интервала, дающего стереоскопические эффекты, как, например, в случае с перепиской тех, кто волею судьбы оказался в непосредственной близости от власти и смог озвучить диалог с ней посредством эпистолярного бытования. Этот интерактивный мост дает возможность проследить голосовые обертоны в ситуации крайне неравных и изначально жестко социально-заданных позиций, одновременно самим фактом наличия такого контакта почти уравнивая автора и адресата как некие игровые звенья эпистолярной цепи, когда каждое из их отвечает за свой участок коммуникации.
Эмоциональное состояние избирательно влияет на воспроизведение прошлого опыта. Без него нельзя «оживить» голоса истории. Тоталитарные формы резко сужают сферы проявления эмоционально-оценочных и аналитических характеристик, демонстрируя природную ограниченность собственных адаптационных резервов и формируя тем самым четко заданные социально-поведенческие стереотипы, внушенные и отрабатываемые личностью социальные роли, в т.ч. и первые. Индикатором «раздвоенности» может служить характер эпистолярных декламаций, изменение высоты их тона и уровень философско-фразеологической «морфологии» в зависимости, в том числе, от авторства-адресности. Подобная референтность создает эпистолярно-акустический эффект «живого» присутствия автора, речевую артикуляцию которого способен экспонировать эпистолярный дискурс посредством демонст-
рации своих возможностей на «испытательном стенде» предельного историософского смыслополагания в случае, когда «у царей друзей не бывает». Через подобное ситуационное напряжение прошли письма Ц.Ф.Лагарпа, А. А. Аракчеева, М.М.Сперанского, Г.-Ф.Паррота, А.Х.Бенкендорфа, А.С.Пушкина, ВАЖуковского. Их авторские голоса оказались способны не только выговориться, но и проговориться, не столько раздвоиться, сколько (пусть по-разному в разное время ) быть услышаны в Истории.
В частности, «функциональная метафизичность» ныне забытой парротовской переписки ярко проявлена на уровне индивидуализации отношений с миром, познание которого начиналось для ученого с личной причастности «святых тайн» - природы самой власти и судьбы России, «проживания» собственной жизни с ощущением «приходящего». Эта эпистолярно-экзистенциальная модуляция позднейшей теории М.Бубера («Я и Ты») как жизнь в соитии с миром, жизнь в новом, жизнь с постоянным к ней интересом, - не оставляет времени для саморазрушения. Его бытие оказалось информационно насыщенно «ожиданием нового», став способным принимать его. Тем самым Паррот выступил в роли того «приходящего», который открыт для диалога в любой системе (в том числе такой закрытой, как русский абсолютизм), подтверждая подлинность эпистолярной проявленности своего «Я» и гармоническую идентичность личности настолько, что власть в очередной раз «закрылась» от него, даже на уровне письма.
В диссертации подчеркнуто, что прецедент диалога интеллигенции с властью в XIX в. - это по существу попытка открыть сознание последней, сделав невозможное в тех исторических условиях. Неизбежный реверс самодержавия, вернувший все на круги своя — закономерность русской истории. Но эпистолярные голоса тех, кому было что сказать власти и кто не стал бледной тенью российского колосса, оставляли царственным слушателям альтернативные шансы для взвешенных и аналитически целесообразных выводов, цена которых - судьба России. Неслучайно эпистолярный дискурс XIX в. оказался органично вписан в российскую социокультурную и историософскую практику, оказывая прямое воздействие на формирование национального менталитета и общественного сознания с последующей синхронизацией жанрово-стилистической эволюции самого дискурса через динамично-проявленную эписто-лярно-личностную самость в сторону персонификации авторского голоса и колоссальной политизации внутренней жизни страны.
Часть вторая «Эпистолярный дискурс как историософско-антропологический феномен» манифестирует историсофско-антропологический режим существования эпистолярного дискурса, который задан в экзистенциальных параметрах творческого «первообраза» самости «пишущей письма» личности. В главах демонстрируются наиболее сущностные дискурсивные особенности на примерах эпистолярно-философских рефлексий тех, кто трансцендентно самовыразился в письмах по поводу исторической миссии России и духовной свободы личности; цены жизни и смерти, творчества и бессмертия; особого видения этического концепт-диалога с потомками через историософскую традицию и близость к власти.
В пятой главе «П.Я. Чаадаев об исторической миссии России: эпистолярно-философическое «безумие» представлена эпистолярно-философская реминисценция
«софизмов», взорвавшая русскую общественность и синицировавшая поиск ответов на «философически провокационный» демарш Чаадаева. Постулируется, что по самой своей природе философское письмо как жанр стремится уйти с внутреннего плана со-переживания на внешний план само-выражения личности с выявлением степени готовности личности к думанью посредством пера, развитой зрелости реф-лексионных потенций автора, умения перерабатывать общезначимый опыт философствования на уровне демонстрации символично-знаковых обобщений и выводов, делая всех участников «эпистолярно-философской» коммуникации сопричастными к прикосновению к «божественным откровениям». «Я»-рефлектирующее рождается в пространстве письма, усиливаясь тем, что философическое письмо демонстративно обращено к адресату, обладающему (либо имеющему склонность) определенным философским опытом-сомнением, задавая и доводя до предела множественность транспонируемых «я». Западно-европейская философская мысль, «имплантированная» в живую ткань отечественной истории, сумела то, о чем не догадывались даже на ее «родине»: она, по словам Е.К.Созиной, «проживалась» людьми 40-х гг, придерживавшимися разных идеологических ориентаций, что привело к временному примирению с «гнусной российской действительностью» славянофилов, западников и рождению идеи о мессианском предназначении России.
Неслучайно рождение философического письма в России, связанное с именем П.Я.Чаадаева (1794-1856), получило столь болезненно-шоковый резонанс, оказавшись весьма далеким от процесса академически строгого абстрактного мышления и онтологической созерцательности, причем, настолько, что было расценено как бред сумасшедшего. Вызывающе-отстраненный и холодно-безжалостный диагноз, поставленный русской истории, взорвав общественное мнение, породил не утихающие до сих пор споры и прецедент теоретически зрелого оформления взаимоисключающих, на первый взгляд, идейных течений — западничества и славянофильства. Поэтому эпистолярно-философическое наследие Чаадаева вписывается не просто в русскую философию, но в создание определенной «чаадаевской» традиции. Впоследствии она была продолжена как на подражательном жанрово-стилистическом, так и устойчиво - архетипическом уровнях - с осознанием новыми поколениями русских интеллигентов, действительно, имеющей место быть исторической непрозрачности божественного предначертания миссии России. Но Чаадаев стал прежде всего религиозным мыслителем, первым, кто создал в России уникальную концепцию христианской философии, ориентированную вначале не столько на православие, сколько на католичество, с креном в сторону т.н. «религиозного имманентизма» с его прагматической установкой достичь «неба на земле».
Его «Философическим Письмам» оказалась присуща идейно-структурная органика даже тогда, когда меняется их интонационный строй в «Апологии сумасшедшего», а жесткость характеристик утрачивает одномерность трактовок, открывая простор для творческого воображения, приглашая к диалогу и выстраивая новую философскую диспозицию. В первом письме заявлена тема пересмотра привычных исторических представлений и понятий и лишь очерчены контуры новой «русской идеи» с ее эсхатологическим прогнозом и весьма специфичным концом русской истории «как вещи в себе», которая, по логике Чаадаева, еще, собственно, и не начиналась, чтобы быть завершенной. Уже здесь просматриваются едва заметные контуры будущего
прообраза евразийства и космизма, которые угадываются по терминологическим сколам («татарщина», «хаотичное брожение предметов нравственного мира»), хотя первоначальный их вариант дан в негативной тональности. В последующих письмах им очерчена проблема доказательности фактического слияния настоящего, прошлого и будущего через проекции исторических образов-перевертышей с их трудноразличимыми причинно-следственными и антропологически ориентированными временными константами, размытыми «там, за облаками» в обратном потоке хроноса. За его порой пространными рассуждениями скрыты принципиально важные философско-мировоззренческие откровения о важности осознания человеком присущей ему силы, что равнозначно у автора самому действию, раскрытия путей постижения Истины через осознание глубинной, космической взаимосвязи материальной и духовной ее квинтэссенций: философии и религии, истории и математики, пространства и времени, разума и свободы, «звездной природы» человека и наличия нравственного закона (во избежание демонстрации, по выражению философа, «злого разума»). В области гносеологии он пытается синтезировать ряд идей, в том числе платонизма и кантианства, что до известной степени дает право считать его взгляды «эклектичной пластикой». При этом он заставил услышать голос из Некрополиса (особо, правда, не рассчитывая на понимание современников - иначе это бы был Витаполис) - города мертвых, выпавших из истории и заблудившихся на земле (к тому времени, когда голос Чаадаева услышат, он оживет?). Автором было продекларировано, что история России не укладывается в уже известные историософские модели, тем самым провоцируя поиск новых и неведомых еще пока истории.
Очевидно, что его философская концепция базируется на основательной перетряске всех устоявшихся в российском общественном сознании понятий и стереотипов. Чаадаев расщеплял устоявшиеся стереотипы русского общественного сознания, разводившие православно-религиозную и историческую мысль на разные уровни самовыражения и взаимоконтакта с современниками, расставлявшими идейные приоритеты не в пользу первой. «Письма» Чаадаева пытались устранить взаимное недоверие между обществом и церковью, доказательно отстаивая постулат, что «вне христианства нет цельной и осмысленной истории», конечное предначертание которой и есть, собственно, «возможно полное осуществление на земле христианского идеала». А потому «Да приидет Царствие Твое» - не просто рефрен в переписке, а универсальный научный метод-ключ. Обеспечить условия его «передачи» выпадает на долю исключительных, «вкусивших дара небесного» личностей, к которым он относит Пушкина и самого себя. Их «сверхзадача» - приобщиться к божественной истине и не дать прерваться великой цепи преемственности прогресса.
Он не понимал противопоставления философии и собственно истории. Но база, на которой ведется строительство историософской мысли, - у него какая-то иная, не вполне ясная даже сегодня. Характер его недоговоренностей дает понять, что у Чаадаева, возможно, были свидетельства о специфичных возможностях информативного обмена на уровне историософского знания как ключа к самому планетарному процессу онтогенеза. Институция гуманитарной мысли - это и есть проявленная энергетика междисциплинарных вспышек, в основании которых ВСЕГДА заложено (даже тогда, когда люди об этом не догадываются) философское знание, т.е. как раз то, что мы находим в качестве лишь намёка на образ у Чаадаева: личность, искушен-
пая познанием, набирает силы и энергию тем, что нередко, противопоставляя себя Природе и преследуя узко-эгоистичные цели, берет на себя функцию её завоевателя посредством Знания, которое само по себе есть мощнейшая сила и порой выходящая из-под контроля энергия. История как индикатор присутствия человека в мире, видимо, выполняет определенную защитно-природную функцию стабилизатора и генератора, осмыслить напряжение которых, корректируя степень риска от нерационального воления индивидуума, и призвана философия
В диссертации гипотетически раскрывается кредо и собственно научный метод Чаадаева - своеобразный историософско-христианский синтез погружения человека в мудрость, когда, «размышления наши о религии перешли в философское рассуждение, а оно вернуло нас снова к религиозной идее» и мы почувствовали, «что наша ветхая природа упраздняется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом...» Автор пророчествует: «Мы строим образы прошлого точно так же, как и образы будущего». И тут же - как крик боли: «Мы не похожи на остальных божьих тварей». Тогда в какой мере Россия и сам русский человек готовы к выполнению своей миссии - этот вопрос для Чаадаева открыт: его «страшная правда» о России в первом письме получает в дальнейшем историософское развитие, по мере чего, как видится, происходит эволюция не только всей философской концепции Чаадаева, но и самой его личности, мучительно ищущей контакт не просто с читателем, но, похоже, со временем и человеком в нем как проводником подлинных божественных истин.
Восьмое, последнее послание цикла, стало свидетельством рождения принципиально нового концептуального взгляда на мировой провиденциальный механизм завода пружины человеческой истории, а «Апология сумасшедшего» - не столько итог большого и откровенного разговора о России при помощи философии, сколько попытка напомнить о стоящих перед ней отсроченных цивилизационных задачах такой масштабно-исторической значимости, что принять их и приступить к реализации способен лишь ум, поистине универсально философски и научно подготовленный (значит, открытый для информационного обмена). Поэтому-то Чаадаев и обратился напрямую уже не к современникам, которым будет явно не дано вступить в контакт со «штурманом» зведного Разума, а к потомкам, специально оговорив, что они лучше информированы, а потому и могут услышать живой голос из ставшего к тому времени (?) уже мёртвым города.
В качестве вывода актуализируется мысль о том, что «Философические письма к даме*» П.Я.Чаадаева неожиданны проявленными и всё более непредсказуемо «не-расколдованными» своими гранями. Вот почему «не через родину, а через истину ведет путь на небо» и «дело не в недостатке фактов, а в недостатке размышления и ошибках в рассуждении», неизбежных для современников автора, страдавших историософской близорукостью с её кривизной исторической перспективы. На его вопрос о том, кто и когда услышит истинный контекст «Философических писем», обращенных не столько к даме, эпистолярно-философская форма его проявки и предметно-экспозиционный ракурс, озадачивая поколения исследователей своими парадоксами-софизмами, позволяют расслышать лишь вечное: «Рукописи не горят».
В шестой главе « Этическое через историческое: Н.В.Станкевич и его эпистолярное наследие» рассматривается специфическая особенность философско-
эпистолярных текстов как текстов культур отражать порой несанкционированный их авторами самопроизвольно спонтанный поведенческий стандарт, диагностируемый с помощью эпистолярного дискурса, как в случае с письмами Н.В.Станкевича. Здесь оказались совмещены стратегический и коммуникативный планы, создавая синтетический тип эпистолярного поведения-действия, в рамках которого произошло становление автора как оригинального философа-мыслителя и как носителя определенной национальной этико-культурологической традиции любви-действия. Через раскрытие чужих дарований он напрямую воздействовал на эпоху, формируя её историософский остов и стратегически выстраивая генеральную линию будущего, проходящую через особую этическую конструкцию личности, способной на любовь как активно действующую в истории созидающую силу. Тем самым можно говорить о своеобразном феномене «теневой активности» его социальной проявленности, т.е. наращения историософского потенциала самого времени, что и объясняет, собственно, причины столь глубинного влияния Станкевича на его современников.
Онтологический эпицентр его этической системы — «приоритет чувства над разумом и волей, которое обнаруживает себя как любовь, ... сердцевина всего, не исключая религию, «расставляющую» в земной жизни ... философско-этические акценты и превращающую их во внутренний свет верь». А потому жизнь человека есть концентрация всей жизни природы и только путем гармонизации взаимоотношений между людьми, приближения к «всеобщей жизни», полагал он, могут вызреть условия формирования совершенного человека, достойного совершенной истории.
Прокладывание «маршрутов» навстречу этому идеалу просматривается практически во всех его письмах: в каждом из них звучит индивидуально прочувствованное, обращенное только к тому единственному из адресатов, ставшему на данный момент для Станкевича исключительно Значимым Другим. Именно для него, проявленного через эпистолярный интерактивный мост-диалог, предназначены философские раздумья над вопросами, экзистенциально и трансцендентно актуализированные на уровне эпистолярной аутогерменевтики, когда «сердце человека исписано чернилами святого Духа». В подобном ракурсе его эпистолярные послания едва ли можно в строго научном смысле слова отнести к философским письмам по типу чаадаев-ских. В адресуемых конкретным живым людям посланиях автор не столько демонстрирует свои возможности как философский мыслитель, сколько, действительно, говоря словами М.Мамардашвили, посредством философии пытается узнавать о себе и о мире то, чего без философии узнать нельзя.
Будучи студентом Московского университета и руководителем литературно-философского кружка, Станкевич представал сыном своего времени, способным, хотя и вечно сомневающимся учеником немецких «титанов-искусителей» -Ф.Шеллинга, И.Фихте, И.Канта, Г.Гегеля, Л.Фейербаха, так основательно перевернувших, а затем сформировавших мировоззрение не одного поколения русской интеллигенции. Станкевич, собственно, и был одним из предтечей этого оригинального духовного института как прикладного первоядра «русской идеи», постигая смысл происходивших событий и принципиальную возможность, целесообразность и направленность воздействия на российскую действительность сквозь философическое «предметное стекло». Поиск конкретно-онтологической «живой истины» в той её национально-типической форме, которая расходится с бесстрастно теоретической или
почти стерильно хирургической «резекцией» мира, характерной для классической немецкой философии, означал уход от «чистого познания» с рождением знания особого рода (активно-волевым его поиском) и разрушением старых параксизмов и созиданием новых возможностей для историософской дешифровки понятийной катего-риальности, переводя её на иной, более высокий и потому более выразительный и понятный язык «единственности наличного бытия» - поэтический. Этико-философская мысль, переложенная «на партитуру» художественно-поэтических образов, не только не утрачивает в письмах Станкевича метафизичности своей природы, но демонстрирует естественную, возвращенную ей органику подобного синтеза. Философские откровения, в свою очередь, с неизбежностью выводят на глубины эти-ко-сравнительных аналогий и эстетических параллелей-символов как последовательно эйкуменистические этапы формирования самой метафизической культуры мышления.
Определяющими для него выступают безусловное «служение мысли» и вера в свое научное предопределение, чего он требует письмах и от своих друзей (Т.Грановского, В.Белинского, М.Бакунина, Я.Неверова и др.), запальчиво объясняя органическую, природную связь всех земных наук (в том числе истории), и сведение их в единый космический поток знания. Эпистемологическим ключом приближения к истинному познанию, убеждён Станкевич, является философия. Философские универсалии в сочетании с конкретно-историческим осмыслением путей человечества и подтолкнули Станкевича к созданию оригинальной этической теории с преклонением перед внутренним миром человека - или, по его собственному определению, «светлым храмом», особенно, если он сохранён неоскверненным. Силу личности придает умение уйти от внутреннего, разрушающего личность самокопания и уныния через осознание высокой красоты этого мира, которая гораздо выше наших амбиций и претензий к нему.
На этой основе им сформулирован метод собственного экзистенциально-метафизического самораскрытия через этико-проекционные параметры любви-действия: «Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, поэтому, узнав это, ...указать людям их достоинства и назначение» с известным пределом философствования - прикладным остовом постройки жизни. Тем самым философия у Станкевича приобретает качественно новый этико-проекционный параметр метафизически завершенного «сценарного динамизма» с его персонификационной «конкретикой-адресностью». В этом заключена у Станкевича принципиально важная методологическая посылка, требующая сильной волевой личности с ее «могуществом ума», но при обязательном условии - «одушевлении добрым чувством» к конкретному, а не абстрактному человеку.
Активно-созидающее начало у Станкевича предполагало особое отношение к русской истории, особенно ее «московскому периоду», где насыщенность красочной палитры способна дать истинное представление о степени самобытности и яркости в сравнении с европейской пресыщенностью и варварской непритязательностью. Для него самоочевидна ценность сохранности исторической памяти, в том числе, ее фольклорной специфики, которую нельзя осовременивать и ретушировать «под старину» - подобное подражательство губительно для национального чувства, а значит души самого человека. Да и слепых орудий в истории нет, поскольку нигде их нет,
был уверен Станкевич, усматривая в истории, вслед за Кантом, некий природно-генетический код, отвечающий за непрерывность и «чистоту воплощения» Высшего замысла. Кто бескорыстно ищет истины, полагал Станкевич, тот уже очищает душу и приготовляет ее к принятию божества: «Царство истины — царство божие; оно в мире, но не от мира».
Не будучи гедонистом, он гораздо глубже современников осознавал гармоническую взаимосвязь между нашими поступками и характером течения жизни: «Если жизнь не полна, если наслаждение бегло и непрочно - значит - мы не так живем». Но даже если человек не выдерживает экзистенциальный прессинг, то и тогда в «нарушенном балансе» Станкевич усматривает великую диалектико-гармоническую пластику Божественного творения, где всему отведено СВОЁ место, которое и диктует задачи реализации личности в разные её социометрических проекциях и осознания меры ответственности за свой выбор. Под этим понимались этические и нравственно-деятельные начала личности, не позволяющие ей развалить либо себя, либо мир рядом с собой: «Этот враждебный дух.....не рогат и без хвоста! Не бегает черным
пуделем и не берет кровавых расписок. Мы сами создаем себе демона-мучителя». Неудивительно, что при решении любой проблемы Станкевич неизменно выходил на вопросы познания природы самой личности, её метафизических, этических и эстетических проекций. Разнообразие форм, развивающих душу и потому напрямую выводящих на телеологические параллели, созидающие душевный горизонт, по представлению автора, поистине велико - это дружба и любовь, человеческое достоинство и самосовершенствование, счастье и вера. Но венчает эту пирамиду искусство, рождение и эпохи становления которого совпадают с этапами духовного взросления человечества, что становится своего рода катализатором науки, получая «мировое признание» и обеспечивая выход из состояния «бессмысленного оцепенения».
Правда, порой то, что казалось элементарно простым на уровне эпистолярной дидактики, не укладывалось в планы Судьбы - и Станкевич осознавал всю непрочность теоретически возводимых, в том числе и им самим, построений, особенно в момент самых сильных испытаний души - любовью. В письмах к родителям он определяет резервы роста личности, закладывающиеся только в семье, где есть заботливые и мудрые взрослые, через любовь которых и формируется остов судьбы их детей. Другая её разновидность - любовь к женщине расширяла границы и возможности самой философской трактовки проблемы места человека в мире через «зеркальность» отражения-осознания себя в другом настолько, что ради любви человек готов на самопожертвование, проявляясь максимально полно в том, что же он есть на самом деле. У Станкевича последнее стало итоговым жизненным испытанием, завершая метафизически земное строение его личности.
В седьмой главе «Эпистолярный эйдос реформатора М.М.Сперанского» рассматривается время ретроспекции человека как основание проекции его эйдического образа. В подобном метафизическом допущении уникальность эпистолярного дискурса в том, что его онтологическая проявленность визуализирована на уровне вызванной из небытия-забвения «звучащей и говорящей» о себе плоти, служащей эйдо-су-идее, эйдосу-лику. В подобный «эйдический» круг оказалась вписанной эпистолярная судьба реформатора М.М.Сперанского, которая состоялась через противостояние и преодоление не только устаревших традиций и предрассудков, но и несо-
вершенства собственной земной природы, вызревании «предчувствия» божественности прикосновения к ней «Высшего промысла», давшего силы на выполнение земного предначертания.
Эпистолярная артикуляция авторского голоса Сперанского (особенно периода трагической опалы, где «открытость-закрытость» слова и философский его подтекст оказались репродуктивно слиты) позволяет создать уникальный полисемантический синтез-эйдос образа реформатора. Его письма (друзьям - Х.И.Лазареву, П.Г.Массальскому, П.А.Словцову, А.А.Столыпину; дочери Елизавете Михайловне; императорам Александру1 и Николаю1; видным сановникам - А.А.Аракчееву, С.С.Уварову, С.Ф.Голицыну, В.Кочубею, министру финансов Канкрину, герцогу Бе-невентскому Талейрану), не ставшие пока предметом историософского анализа, несут на себе отпечаток его личностной и метафизической исключительности. Философский стиль трансформирует их в беседу, создавая «акустическое» пространство, где в тяжелые годы гонений критическое мышление политика-прагматика пластично уступает место метафизику, находящему отдушину в дружеском участии. И хотя эпистолярная стилистика писем со временем менялась, в них ощутимо присутствовали «горизонты потенциально публичного» человека, которого даже отставка и ссылка не могли сделать «частным» лицом. Но по сравнению с его деловым языком эпистолярная образность приглушена: здесь отсутствуют броские сравнения и эффектные авторские пассажи, как в письмах его более честолюбивых современников, т.к. цель его посланий иная - быть услышанным и понятым. Подобная эпистолярная установка сохранится до конца жизни, к рубежу которой он подойдет поразительно одиноким, хотя вновь таким же нужным России.
До известной опалы реформатор мог еще позволить себе непринужденную эпи-столярно-смысловую артикуляцию, как например, в письмах к П.Г.Массальскому или старинному знакомому С.В.Руссову, где он выступает не только натурой талантливой, но и философической, способной на афористические откровения. Восхождение Сперанского в историю стало серьезным испытанием для его ума, воли, способностей и гибкости поведения в среде, социально и личностно чуждой ему, не прощавшей, как оказалось впоследствии, ТАКИМ КАК ОН, выходцам не просто из низов, но низов духовного звания, никогда и ничего. В письме к П.А.Словцову, едва придя в себя от чудовищных наветов и оскорблений, он пытается восстановить свой душевный баланс обращением к великой целительнице - Философии, где на нескольких страницах рассуждает о нелинейности философических измерений жизни, противоречивости бытия. Послания к верному Х.И.Лазареву, не покинувшему его в самые тяжелые годы, стилистически иные: их интонационный строй приближен к бытовой разговорной речи, чуждой высоких философических откровений. Рассуждения автора в них носят характер спокойной констатации несовершенства человеческой природы, принимать которое Сперанский научился без каких-либо оговорок.
Эпистолярные обращения к дочери исключительны по своей значимости для понимания нами реформатора в критическую для него пору, когда рождался новый Сперанский - не тот, брызжущий энергией действия в светлый период его либеральных надежд и воспринимавший мир все-таки линейно. Или другой, почти потерявшийся в море окружавшей его в ссылке ненависти и желания любым способом унизить. Теперь он вполне отдает себе отчет о мере ответственности за возможное воз-
вращение в ту жизнь, где уготовано ему вновь попасть в круг общения с людьми, ставшими причиной его трагедии, но при этом не опуститься до обычной сановной логики поведения - мести. И философские в них аккорды оказались органично созвучными тем целям, которые встали перед реформатором в Сибирском крае с его величественными красотами природы. Это рождало осознание, что "дух человеческий есть великан, коему все тесно». Сибирь, по его глубокому убеждению, есть настоящая отчизна Дон-Кихотов.
В «неуслышанных» письмах к Александру I он просил сохранить его рабочие материалы и письма, не оставляя попыток обратиться к здравому смыслу государя и обосновать свою позицию: «...Вы слушали от меня кроме указаний на ДОСТОИНСТВО (выд.-М.С.) человеческой природы, на высокое ей предназначение, на знак всеобщей любви, яко единый источник бытия, порядка, счастия всего изящного и высокого». В дальнейшем его эпистолярный стиль становится суше, деловитей. Позже, возвращенный во власть реформатор продолжит свой диалог с нею. Приступая к грандиозному и поистине титаническому труду по кодификации права России, он напишет Николаю I благодарственное письмо (19 июня 1827 г.), словно испытывая признательность не за предстоящую каторжную деятельность, значимость которой для него очевидна, а за чудом свалившиеся на него царские щедроты, снимая последние сомнения власти!
Унизительные обстоятельства несвободы и издевательств, не могли не сказаться на авторском голосе, на который была наброшена смирительная рубашка, заставив в одних случаях декларативно подыгрывать власти, как, например, в письмах к Александру I, где присутствует даже его «похвальное слово» военным поселениям. В других - диссонантно смиренно и даже заискивающе звучать с назойливыми просьбами о помиловании и возвращении из ссылки, как в случае с эпистолярным циклом, обращенным к А.А.Аракчееву. Их стилистика затрудняет идентификацию «облагодетельствованного». За ней сложно увидеть М.М.Сперанского, вновь стартующего во власть. Между тем граф С.С.Уваров, литературную одаренность которого высоко ценил Сперанский, удостоил последнего, назначенного сибирским генерал-губернатором, письмом, где разделил историю Сибири «на две ... эпохи: первая — от Ермака до Пестеля, вторая - от Сперанского до XX века». Спустя полгода уваровская параллель (Ермак - Сперанский) получила прописку и в письме к дочери самого Сперанского.
Эпистолярный дискурс, выполнив совершено особую роль в судьбе Сперанского, позволяет достичь корреляционно-стереоскопического эффекта проекции личности, метафизически сложной и впечатлительной от природы, но сумевшей выстоять в смертельном вихре придворных амбиций и, используя оружие, какое применялось против нее самой, выйти победителем. Рационализм мышления, умение диалектиче-ски-шахматно выстраивать собственную диспозицию, организационно-государственный дар и вера в свое историческое предназначение не оставляли места эмоциям, которые разрушают, а не созидают личность. Особенно такую, как сам реформатор с его особым отношением к метафизической проявленности человека в природе и социуме, а также пониманием важности рефлексионных сомнений в том, что «я есмь»: человек, приобретающий мудрость опыта, осознает и присущие ему слабости и неизбежность компромиссов. Неслучайно эпистолярная трактовка поня-
тия «философия» у него напрямую выходит на онто-гносеологический уровень: нравственною философией Сперанским названа науку познавать человека. Возможно, он надеялся хотя бы в будущем быть, если не понятым, то услышанным, донеся с помощью писем свой голос до тех, кто (цитируя П Я.Чаадаева) «лучше информирован».
В главе восьмой «Эпистолярное акмэ консерватора К.П.Победоносцева» продолжен разговор о времени ретроспекции человека, «эпистолярное акмэ» которого явило собой имманентно-дискретную составляющую самой эпохи Эпистолярно-метафизическое его самораскрытие с почти «демиургической» уверенностью, что «дух совести» не ошибается никогда, на столетия предопределило предельный уровень противостояния этой личности и ею же возведенного в абсолют здания «личностной относительности» с «сочинением себя человеком историческим». Эпистолярный эйдос М.М.Сперанского и эпистолярное акмэ К.П.Победоносцева - это по сути два зеркально отраженных в эпистолярном зеркале истории типа не просто государственных чиновников самого высокого ранга, но два отношения к власти, человеку и жизни в целом. Хотя они и представляли собой выходцев из одного социального слоя, их эпистолярно-проекционные образы по большому счету программировали полярность модернизационных ликов России - либерального (не получившего своего разумного и научного развития) и консервативного (слившегося на долгие десятилетия с понятием «столп реакции»).
С именем К.П.Победоносцева связана целая историческая эпоха. Трагедия 1 марта 1881 г. повлекла за собой не только резкую смену государственного курса, но и фактическое доминирование в российской истории человека, за возвышение которого была уплачена такая цена. В письмах он был прежде всего политиком, партикулярным чиновником, пусть и самой «высокой пробы», «застегнутым на все форменные пуговицы». Поэтому «эпистолярное акмэ» К.П.Победоносцева не всегда бывает четко проявлено и порой прописывается не столько в авторском озвучивании, сколько в корреспондентском его отражении, позволяющим дешифровать отдельные, затенённые для современных исследователей характеристики этого коммуникативно-замкнутого человек. По словам Гераклита Темного, невидимая гармония прекраснее, чем видимая. «Осанна» Победоносцева проходила через демонстрацию как раз последнего - «видимого». Он всегда знал, эпистолярно визуализируя, «КАКНАДО», и бескомпромиссно, не отвлекаясь, шел в одном направлении, наставляя «в правильности» остальных, в том числе наследников престола и последних императоров, меняя, правда, высоту интонационного диктата. Как ни парадоксально, но ему явно не хватало аудитории, особенно в конце жизни. И, возможно, именно потому у него окрепло убеждение важности сохранения всего своего архива, в том числе эпистолярного. Русское же общество оказывалось глухо к словам Победоносцева даже тогда, когда правота этого человека была априори. Он и вошел в российскую историю с крайне противоречивыми, зачастую нелестными, репликами в свой адрес современников.
Природная органика и заданная им социальная роль «охранителя» приходили в жесткое сцепление, создавая эффект фрустрации, корректировавший поведенческий стереотип, гася и без того слабо выраженный эмоциональный фон проявления его истинного личностного «Я». Это дало основание священнику Г.Петрову провести не
столь уж и абсурдную аналогию в зарисовке «Страшный нигилист», а философу Н.И.Бердяеву увидеть поразительное совпадение с логикой поведения народников, демократов и даже Ленина, что просматривалось в душевной архитектонике Победоносцева, его неверии в человека и по существу атеистическом духе мировосприятия -религиозным у него было отношение к смерти, а не к жизни. Обер-прокурор, действительно, был противником абстрактно-умозрительного «принципа человечности». Его философская позиция базировалась на прикладных, просматриваемых на исторических параллелях-онтооснованиях, позволяющих не просто оперировать понятиями «всеобщее благо», «истинность знания», «ценность личности», «жизнь, возложенная на алтарь Отечества», а придавать им определенный историософско-ценностный контекст, визуализируя на уровне идейно-теоретических предпочтений и правительственных программ суть сформулированной им системно-охранительной общегосударственной Идеи, почему за Победоносцевым и закрепилось определение «охранителя - идеолога консерватизма». Отсюда его упорное неприятие царствования Александра II и особенно его морганатической супруги, вылившееся в жесткую формулу пророчества: «Как тянет это роковое царствование - тянет роковым падением в какую-то бездну».
Эпистолярный дискурс засвидетельствовал рождение особого «эпистолярно-гносеологического метода» «продавливания ситуации» в нужном для обер-прокурора ключе. Им стали - женский «фермент» воздействия; нахождение не просто рядом с властью, а установление «доверительного» контроля над первыми ее представителями через систему особой близости к ним; «органичная» связь с «народом», апелляция к «авторитетному» мнению которого становится в письмах постоянной; возможность прямого воздействия на царя через формирование СИСТЕМЫ назначения первых правительственных чиновников, используя некоторый опыт суггестии (внушения); точно «дозируемая» подготовка материалов для просмотра царем с заранее программируемой наставником общей итоговой картиной. Принципиально важным в этом плане становилось озвучивание его мыслей с помощью литературного гения Ф.М.Достоевского. Сидевший в Победоносцеве чиновник пытался по-своему использовать талант Достоевского, стремясь максимально возможно «корректировать» художественное бунтарство писателя, предлагая в одном из писем даже сжечь (как Гоголю?) некоторые «сомнительные» страницы «Братьев Карамазовых». К чести Победоносцева, он осознавал невозможность прямого диктата писателю подобного масштаба. Достоевский мучительно раздваивался, ежеминутно проходя через «горнило собственных сомнений», пытаясь восстановить баланс двух составляющих — примирить логику ума и крик сердца и приблизиться к «высшей гармонии духа». Он говорил о боли и грязи жизни - вся читающая Россия переводила его произведения на язык любви. Победоносцев менторски учил страну высшей ее форме - любви к Богу -его призыв оказался гласом вопиющего в пустыне, отвращая от него живых современников, усиливая непонимание и неприятие потомков, заставляя сомневаться и мучиться этими сомнениями последующие поколения. На страницах своего «Московского сборника» Победоносцев развернул поиск «настоящей» правды, противопоставив ее «лжи нашего времени» совсем в духе тех русских ходаков-странников и революционеров-народников, что сделали поход за «маткой-справедливостью» также смыслом своей жизни.
«Великий инквизитор», о котором невольно поведал России Достоевский в одноименной главе романа, стал не столько одиозной, сколько глубоко трагической фигурой отечественной истории, олицетворяя собой целое направление консервативно-охранительной русской мысли, проигравшей битву радикально-модернизационным программам. Именно на подобное «несоответствие» ожидаемого и реальной действительности в программных заявлениях и самой «логике генезиса» его души указывали протоиерей Г.Флоровский, философы Вл.Соловьев, Василий Розанов, историк В.О.Ключевский.
Но «упоение властью» не приносило обер-прокурору сладости всесилия, а лишь усиливало подозрительность, критиканство и, в принципе, одиночество. По-настоящему доверительные послания были адресованы Е.Ф.Тютчевой, с которой он мог поделиться «единственным материалом впечатлений» своей жизни, и И.С.Аксакову — славянофилу и однокашнику, издателю газеты «Русь». В «программном» к нему письме от 23 июля 1874 г.он затрагивает тяжелую для него проблему генезиса самодержавия, по существу которой не осмелился оставить суждений ни как юрист, ни как крупный общественный деятель, ни просто как человек, служа больше полстолетия государственному механизму, который не очертил даже понятийно! Он вообще вывел самодержавный институт из арсенала теоретико-философского и онтологического анализа, с течением времени закрыв вопрос о будущем эволюции самодержавия навсегда. Хотя в критике грехов парламентской системы Победоносцев обнаружил немалую проницательность, но его программа, словно настоянная на ле-онтьевском «эликсире» («Нужно подморозить Россию, чтобы она не гнила»), характеризовалась отсутствием созидательных потенций, в которых так нуждалась общественно-политическая жизнь страны, учитывая новый вектор исторического развития. Эпистолярный дискурс в данном случае создает особый метафизический фон подлинной, состоявшейся проявленности К.П.Победоносцева, во многом оказавшегося пророком в своем «консервативно-охранительном» скепсисе и оставшегося навсегда в российской истории ее главным обер-прокурором.
Девятая глава «Проблемы личности и духовной свободы в России в «Письмах из Сибири» декабриста М.СЛунина» конкретизирует тезис о том, что антропологическая ориентация русской философии является не столько общепризнанной национальной особенностью, сколько исторической судьбой страны. Темы внутренней свободы, трагизма личности, несовершенства бытия и иррациональности многих его начал в России прошли «историческую апробацию», начиная с восстания декабристов и став с середины XIX в., по существу, центральными.
Дубль «вживания в жизнь» путем иррационально-экстатического скачка с «переходом в противоположное» (С.Кьеркегор) и действительное «смыкание» проклятия и спасения в условиях «дисциплинарно-карательной анатомии» (М.Фуко) визуализировались в эпистолярную открытость судьбы декабриста М.С.Лунина, став экстремальной экзистенциально-историософской проекцией его «Писем из Сибири». Смысловая многомерность эпистолярного дискурса позволила вычленить «дисциплинарное тело» письма для демонстрации «предустановленной гармонии», превратив эпистолярный нарратив в историософский мост между прошлым, «закрывшимся» для декабристов, и тем будущим, в котором каждый из них надеялся занять свое место. Вопреки элементарной житейской логике М.С.Лунин пытался выстроить пирамиду
собственных смысловых универсалий - ценностей, находясь в условиях несвободы. В его положении они вполне могли оказаться ловушками. Согласно аксиологической шкале В.Франкла, иерархический ряд ценностей ОТНОШЕНИЙ и ценностей ПЕРЕЖИВАНИЙ завершают высшие - ТВОРЧЕСТВА. При этом внешний мир лишь позволяет в известных пределах реализовать себя индивидууму через осуществление некоторого смысла жизни. У Лунина последнее (внешний мир) оказалось заблокировано на линейном уровне. Он сконструировал проекцию, где представал не столько производным мира, выделяющего из себя индивидуума, сколько личностью, которая в силу неодолимых обстоятельств должна ВЫДЕЛИТЬ ИЗ СЕБЯ внешний мир и через САМ ЭТОТ ПРОЦЕСС состояться, придав своей собственной жизни не некоторый контекст, а очевидный смысл.
В письмах декабрист перерастает себя, ломая классификационный ряд эпистолярного дискурса, перемешивая типологические особенности писем и представления о степени внутренней автономности личности. Интенциальная, предметная направленность этого человека, творящего себя самого в процессе «свободной» деятельности в условиях несвободы, становилась связующим звеном между ним и миром, даже когда мир, казалось, отторгнут от него. Для Лунина СЛОВО и стало ЖИЗНЬЮ, СМЫСЛОМ и целым МИРОМ. Но тем он опровергал не только умозрительность рассуждений великого Р.Декарта, полагавшего, что человек, ставя под вопрос мир как реальность, как бы выводит и себя самого за пределы бытия вместе с нечто ускользнувшим от него и поэтому уже недостижимым.
Лунин, действительно, был «отделен, уединен» настолько, что, казалось, «отменил» открытые философами «законы естества»: он не только оказался лишен страха, но выработал собственную философско-генетическую концепцию личности, человеческого сознания и свободы, открыв транскреативные горизонты собственного существования и дирижируя его потоками. Это придавало ему энергию в неравной и потому, казалось, обреченной борьбе с русским Левиофаном.
Его эпистолярная рокировка с властью - не только привычное для боевого офицера ощущение игры с огнем, остроты риска, опасность соседства с сильным и мощным противником. В данном случае речь идет об особом варианте «метанойи по-лунински» с ее новым качеством прозрения и осмысления формы личной свободы в том, «что формы в России не имеет». Упрощением было бы усматривать в диспозиции его личности элементы нарочитого вызова - эпатажа или просто земную суету, от которой не уберегся ни один грешный смертный, скованный трагической ситуацией, наподобие лунинской. Как все романтики его поколения, он не был лишен честолюбивых, но и высоких помыслов, не позволяя себе (а значит, и другим) опускаться и тем самым оправдывать ожидания властей.
Именно на каторге у Лунина сформировалась вполне четкая жизненная, а не эгоцентричная потребность соответствовать античному образцу, в доступных в его положении формах с установлением новой планки - при всех условиях остаться не просто человеком в высоком, «перикловском» смысле слова, но в унизительных условиях каторги - человеком светским (т.е. не выпадающим из круга приличий и чтимых им ценностей прошлой жизни). Неожиданно для окружающих и властей у узника происходила столь мощная духовно-«тектоническая» перестройка, что проявлялся лик неизвестного ранее Лунина. В его письмах присутствует тоска по эстетически
цельному образу человека в духе античного антропологизма со взглядом на человека как высшее и совершеннейшее произведение природы, познание которого дает ключ к ее тайнам. В положении Лунина античная мудрость становилась не просто лекарством от одиночества, а методом освоения новых форм жизни, которая, как оказалось, не закончилась приговором и каторгой.
Его каторжно-несвободный статус после вступления в переписку с самим всемогущим Бенкендорфом и активизации «издательской» деятельности с момента запрета 15 сентября 1838 г. на переписку, начинает деформироваться настолько, что правительство пытается его усилить, назначив новое наказание и тем воспрепятствовать Лунину в его «зловредной» пропагандистской деятельности. Примечательно, что он постоянно проводит мысль о возможной альтернативе исторического и политического развития российской государственности по сравнению с той моделью, которая закрепилась в общественном сознании в качестве незыблемой и самовоспроизводящей себя абсолютной монархии, и последующим развитием событий, когда «чрез несколько лет те мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни». Хотя в последние годы жизни он явственно ощущал некую органичность, неслучайность российской социально-политической системы с ее наиболее уязвимыми (но и сильными!) сторонами.
Противоречивая «типичность» лунинского самосознания того времени с его проблемой морально-этического выбора явилась фоном религиозных настроений декабриста. С годами он все больше склонялся к тому, что противоречия духа могут быть преодолены на религиозно-этическом уровне. Даже философию он рассматривает под теолого-онтологическим углом зрения. Его не устраивала немецкая философская чопорность и прагматическая рафинированность, а собственные блуждания по бескрайнему «духовному Интернету» не позволили разглядеть колоссальную творческую энергию Православия, неотшлифованные грани которого Лунин принял за пус-топородную лаву. В этом его взгляды напоминают положения первого «Философического письма» Чаадаева. Он стал католиком, не упуская возможности каждый раз подчеркнуть преимущества католицизма перед православным христианством и приступить к разработке своей системы представлений о высоком эстетическом стандарте на уровне религиозно-нравственных откровений. Лунин эволюционизировал в сторону последовательного теизма, совмещавшегося с политическим радикализмом, «возвращаемым» вновь религии.
Подчеркивается, что в теме декабризма в целом и лунинской его страницы есть нечто, не вполне поддающееся логическому и вербальному просвечиванию даже сегодня: открывающиеся частности создают особо притягательное историческое поле, где оказались люди какой-то неизвестной нам сегодня природы и их присутствие освящало мир, делая его более смыслозначимым, в том числе для тех, кто оказался вблизи или связанным напрямую с «государственными преступниками». Имя сестры Лунина - Е.С.Уваровой в этом ряду занимает особое место. Через десять лет после вынесения приговора Екатерина Сергеевна в одном из писем к брату размышляет, не стало ли его наказание «пропуском» в историческую вечность и ей. В отношении смыслового подтекста писем, требующего дополнительного «внутреннего зрения», она «онтологически» замечает : «Я их (письма -Н.С.) читаю и перечитываю, я их ИСТОЛКОВЫВАЮ (выд.-Н.С.)».
«Письма из Сибири» стали главным трудом «несвободной» жизни, продемонстрировав дерзновенный полет вольной трансцендентной мысли российского эллина, научившегося обретать крылья вопреки любым обстоятельствам. Личности лунин-ского типа обречены на одиночество и непонимание - судьба им редко может позволить самовыразиться. В случае с «Письмами из Сибири» сквозь проекционную ретроспективу эпистолярного дискурса и рефлексивных переживаний по-юношески трепетного сердца и философически мудрого, трезвого разума, оказалось возможным в невозможных условиях узнику стать распорядителем своей земной судьбы и духовности Сформулированная и «прожитая» Луниным философско-генетическая концепция личности, сознания и свободы как явлений вселенского, космического порядка с расширением сферы личностной юрисдикции в историософии и мироощущении «дисциплинарного тела», открывающего транскреативные горизонты собственного бытия в условиях пенитенциарной системы, тем обретая крылья, являет собой беспрецедентную попытку дать ответ собственной судьбой (в том числе таинственной смертью) на вопрос о мере и границах свободы личности в России.
В десятой главе «Русский Танатос» Н.В.Гоголь в письмах о цене жизни, смерти и бессмертия» определены эпистолярно-дискурсивные уровни транспонирования «вечных» тем жизни, смерти и бессмертия на примере эпистолярного наследия Н.В.Гоголя. Скандальность публикаций его «Выбранных мест из переписки с друзьями», обнародованного «Завещания» «в рассрочку» на пять лет вперед до дня фактической смерти, фраза о призвании писателя («Нет равного ему в силе - он бог!») - ставили его в двусмысленное положение в обществе, привыкшего в подобных случаях рассматривать вопрос о вменяемости.
«Физиологизм» страданий писателя по поводу увиденной им трагичности судьбы России и безотлагательность сообщения об этом всем людям напрямую, неизбывная вина за несовершенство собственного земного воплощения, за «искареженную» вселенской болью душу, понять которую не могли даже самые близкие ему люди, за письма, читать которые следовало внутренним зрением неединожды - все это превращало писательство в кармическое наказание, а жизнь художника — в личную трагедию. Гоголь сломал в русской культуре заложенный А.Пушкиным хрупкий гармонический ряд, введя диссонантно звучавшие аккорды с их отнюдь не лингвистическими пассажами, заставлявшими СОГЛАСИТЬСЯ, что не все действительное в России не только не так уж и разумно, но порой и безобразно-отвратительно.
Буквальность восприятия гоголевского текста, не только литературного, но и эпистолярного, станет в дальнейшем причиной мучительных отношений писателя не только с массовой читающей Россией, но и с самыми близкими ему людьми. Его феерически талантливая литературная судьба как бы обрывается «Перепиской...», где предпринята обратная попытка по сравнению с той, о которой он говорил ранее в своих письмах - примирить увиденные мерзости бытия «Мертвых душ» с христиан-ско-философским их осмыслением через доверительно-эпистолярный диалог, обращенный ко всей России. Но та отворачивается от Н.Гоголя. А у него речь фактически шла о уже начинавшем прорисовываться «нерациональном волении» человека с его, как он провидел задолго до «Бесов» Достоевского, бунтарско-разрушающими край-
ностями. И писатель ставит диагноз: «Гордый ум XIX века...». Этот подтекст сразу не прочитывался. Угадываться он стал много позднее.
«Выбранные места...» не только не совсем книга, а совсем даже НЕ КНИГА. С одной стороны, это культурно-лингвистический феномен, исчерпавший, а потому переросший возможные жанровые стандарты эпохи романтизма. С другой - религиозно-духовное явление, где религиозным оказался контакт с Небом и Услышанная Благая Весть, напугавшая Гоголя своими пророчествами. Читателю предлагалась не милая сердцу литература, а зашифрованное в эпистолярную переписку обращение к обществу как к СВОЕМУ, обязанному понять автора в том, до чего оно просто еще не доросло.
Буквальное текстовое прочтение, действительно, убивает смысл писем Гоголя. Намного раньше В.Розанова он употребил столь странно прозвучавший в XIX в. фразеологизм — «думанье рукой», «разговоренное» философами XX столетия в целое научное направление - грамматологию. Особую трепетность Гоголь испытывал не только к самому тексту, но «слову-коду», проникнув в те уровни жизни, «пограничные» со смертью, куда вход простым смертным разрешен лишь в исключительных случаях - и не выдержал: земная пуповина мешала двигаться дальше. Святым он, вопреки предположению С.Т.Аксакова, возможно, так и не стал. Но и пути назад для него практически не существовало.
В качестве итога констатируется, что природа максимально самовыразилась в Гоголе - с его инфантильно-архаическими страхами, искренностью слога, предельным эпистолярно-лингвистическим напряжением поиска самого себя во имя торжества божественного в человеке и, наконец, естественной логичностью сценарной завершенности трагической судьбы русского «Танатоса». Эпистолярно-дискурсивные уровни транспонирования писателем «вечных» тем жизни, смерти и бессмертия в имманентно-дискретные формы разговора с Россией напрямую посредством эпистолярного дискурса стали новым этапом не только для его творчества и понимания писательского предназначения и долга. Эпистолярный дискурс оказал самое прямое и неоднозначное влияние на жизнь и смерть этого человека, через слово-код и текст-приговор допустив его к сакральным тайнам истории и бытия «живых» и «мертвых» душ. Прикоснувшись к ним и осознав относительную условность границ между ними, Н.В.Гоголю, как он и сам это признавал, уже незачем оказывалось жить - он узнал о жизни всё. Осталось узнать о смерти. Но эту тайну он унес с собой, оставив живые письма живым.
В Заключении формулируются основные выводы исследования, выдвигаются основные положения, определяющие его научную новизну, и выносимые на защиту.
Основныерезультаты исследования, определяющие его новизну и выносимые на защиту.
Научная новизна диссертации в целом заключается в междисциплинарно-системном анализе философско-антропологической природы эпистолярного дискурса, модусная специфика которой рассмотрена на материалах русского эпистолярного наследия XIX в. с выявлением незамеченных исследователями ранее «спящими ос-
татками смыслов», а также обнаружением историософских потенций письма как философского текста. Так, в частности:
1 На базе междисциплинарного подхода разработана целостная фи-лософско-антропологическая концепция эпистолярного дискурса как философского нарратива, с одной стороны, и историософско-антропологического «ноумена», с другой. В рамках данной концептуальной схемы конкретизированы исходно-интенциальные генетические параметры философско-антропологической проекции эпистолярного дискурса, «апробированного» на оригинальных полифункциональных источниках - письмах XIX в.
2. Концептуальное ядро выстроено на материалах, полученных в результате углубленной источниковедческой работы автора по отысканию в крупнейших архивохранилищах и в исторических журналах-публикаторах (после более чем столетнего забвения) неизвестных ранее текстов, их публикации и приданию эпистолярным раритетам нового метафизического статуса в связи с изменением мето-дико-исследовательского ракурса зрения.
3. Реализован новый методологический подход к изучению философ-ско-антропологической природы эпистолярного дискурса — так называемая «ломаная асимметрия», «асинхронизация» как возможный эпистемологический «резерв-со-положенность» с использованием специфичного проекционно-асинхронного метода «контраст-диалога» со сведением в единую эпистолярно-дискурсивную плоскость историософских проекций писем «безумствующего философа» П.Я. Чаадаева и «интеллектуала-гуру» Н.В. Станкевича, реформатора М.М. Сперанского и консерватора-«охранителя» К.П. Победоносцева, декабриста-бунтовщика М.С. Лунина и писателя-моралиста русского Танатоса Н.В. Гоголя, академика-романтика Г.-Ф. Паррота и «придворного поэта» В.А. Жуковского.
4. На основе анализа предложенной автором онтологической парадигмы - структурной трансформации смыслов эпистолярного дискурса и его историософско-антропологической модели в оригинальном хронотопе - XIX в. как особо привлекательного объекта в эволюционном диапазоне его саморазвития, - доказано, что эпистолярный дискурс обладает масштабными онто-гносеологическими потенциями. В частности, приобретение письмом нового метафизического статуса - метаэпистолярия или философского текста как своеобразной формы нарративно-текстовой бифуркации с её переходом в новое качество мышления - философское, даже когда автор письма не являлся философом по роду своих занятий.
5. Выявлены онтологические резервы процесса эпистолярно-рефлексиониой самоидентификации личности через расширитель-
ный ракурс понятий «философский текст» и «философское письмо». Показано, что эпистолярный дискурс, плавно перешагнув грань «философии без философии», состоялся в главном - как зеркальное отражение онтологической первоосновы процесса познания в целом - духовной субстанции самого человека и общественного сознания русского общества XIX в. с его мифологическими установками и иррационально-политизированными тенденциями деформации системы смысложизненных ценностей и саморазрушения личности.
6. Проанализирована степень метафизического сопряжения-проявленности категориально - понятийного ряда «человек - личность - культура - время - эпистолярий как письмо - эпистолярный стиль - эпистолярный жанр - эпистолярная литература», сини-циировавшие превращение эпистолярного дискурса в генератор новых смыслов и систем «перераспределения» смыслового напряжения в тексте и в жизни. Установлено, что эпистолярно-жанровая универсализация, языковое совершенствование, перевод биографического контекста в метафизический подтекст способствуют трансформации письма XIX в. в экзистенциально-генетический вариант эпистолярного творчества и философской рефлексии, оказавшийся способным становиться в России судьбой, особым предначертанием и даже роком для их авторов.
7. Эпистолярное «оплавление» дискурсивной практики расширяет смысловые горизонты проявленности эпистолярно-ментальных образов, информационно-текстового, коммуникативно-смыслового, психо-лингвистического кодирования мысли, пластично «растворенной» в имманентной потребности человека к полноте бытия и расширяющей возможности самой реализации личности в философ-ско-антропологической проекции эпистолярно-дискурсивной формы. Прослежена особенность эпистолярной коммуникации не только поддерживать общение на расстоянии, но формировать и «оформлять» эпистолярную мысль, дисциплинируя мышление посредством постановки перед адресатами (в том числе, коллективными) задач на «понимание» Это послужило основанием для расширения практики малых рукописных форм и выработки специфично «русского» вида латентного эпистолярно-литературного «сотрудничества-сообщничества» не только авторов-адресатов, но и писателей-читателей, содействуя процессу становления русского общественного сознания XIX в.
8. Обнаружены общесубстанциональные резервы структурно-классификационных параметров эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпистолярного «арбитра», разрешающего мотивационные противоречия между подсознательно-глубинными и демонстративно-эпатажными формами «эписто-
лярного» поведения не только человека, но и самого нарративного текста в разных его регулятивно-проекционных отражениях. Тем самым эпистолярный дискурс выкристаллизовывается в особую форму своеобразного «метазнания», циркуляция смыслов которого в разных текстовых частях и разных нарративах позволяет рассматривать само данное понятие в качестве определенной историософ-ско-антропологической и метафизической практик, сводимых в фи-лософско-антропологический эпистолярно-экзистенциальный генетический феномен «человека во времени», который также может быть рассмотрен как текст повышенной сложности.
9. В рамках полифункциональной культурологической модели «эпистолярного поведения» XIX в. выяснены и прослежены оригинальные эпистолярно-рефлектирующие формы яркого присутствия личности в истории и культуре, в том числе на грани баланса между трагедией и гротеском, утопией и мифом, реальностью и иррациональностью, индивидуальным и массовым, уникально-единичным и растиражированным коллективным бессознательным. Показано, что эпистолярный дискурс в данном случае выступает как онтологическая форма, вбирающая в себя как макросы, так и микросы парадигмального освоения мира, помогая человечеству взрослеть через «размышляющее общение». С другой стороны, он превращается в специфичный функционально-смысловой отражатель личности, ее идентификационно-временной код.
10. Установлено, что авторский голос как самореализующий себя в письме элемент саморепрезентации, воспроизводя, манифестируя, интерпретируя «открываемые им смыслы», способен становиться частью исторической и общефилософской культуры, разрушая тем самым искусственность присутствия человека в мире.
//. Выдвинуто положение, что кроме жанрово присущих тексту черт коммуникативной презумпции - передачи «лежащей на поверхности» константной информации, авторский голос обладает специфической особенностью создавать смысловые «воронки». Они выводят на новые грани речевой деятельности человека, синтезирующие устную, письменную и внутреннюю (со скрытой артикуляцией речевых звуков) речь и обнаруживающие новые интерпретационно-смысловые уровни эпистолярно-дискурсивной проявленности человеческого «Я» с разведением «жизни сердца» и «жизни мысли». Но рассказывание жизни и ее проживание в эпистолярном дискурсе сливаются порой настолько, что именно в письме человек творит свою настоящую судьбу талантливее и ярче, нежели в собственном экзистенциальном «дубле».
12. Введено новое понятие - «эпистолярный интеракционизм», в рамках которого прослеживается действие механизма «эпистолярно-информационного онтогенеза» - специфичного информационного
обмена между полюсами эпистемно-коммуникативной дуги (автор-адресат-исследователь) с возможным выявлением их информационно-психологической совместимости и даже «заражения», а также корреляционно-адаптивного ресурса самой переписки и возможности ее интерпретации без ущерба для смыслового ядра, особенно в ситуациях эпистолярно-смыслового напряжения, когда «у царей друзей не бывает».
13. Через способность философско-эпистолярных текстов как текстов культур отражать несанкционированный их авторами самопроизвольно-спонтанный поведенческий стандарт, диагностируемый с помощью эпистолярного дискурса, гипотетически раскрыты кредо и собственно методы научного постижения мира П.Я. Чаадаевым (своеобразный историософско-христианский синтез погружения человека в мудрость с принципиально новым концептуальным взглядом на мировой привиденциальный процесс и выходом на информационно-космический онтогенез); Н.В. Станкевичем (этико-проекционные параметры любви-действия с формулированием метода собственного экзистенциально-метафизического самораскрытияЛ; М.С. Луниным (философско-генетическая концепция личности, сознания и свободы как явлений вселенского, космического порядка с расширением сферы личностной юрисдикции в историософии и мироощущении «дисциплинарного тела», открывающего транскреативные горизонты собственного бытия в условиях пенитенциарной системы и тем обретая крылья); Н.В. Гоголем (эпистолярно-дискурсивные уровни транспонирования «вечных» тем жизни, смерти и бессмертия в имманентно-дискретные формы разговора с Россией посредством эпистолярного дискурса напрямую о новом понимании писательского предназначения и долга).
14. Поскольку интерпретационные акты - это всегда выход за пределы эпистолярного текста как непосредственной данности, в рамках которой человек остается при обыденном осмыслении высказывания и текста, интерпретируя «чужой» текст, мы тем не менее создаем «свой», «творя» и некий смысл, который позволяет эпистолярному дискурсу пережить акт своего собственного Возрождения. Показано, что процесс создания «текстосмыслов» предполагает и определенное «дирижирование» потоками сознания — не только авторского, но и интерпретационного, создавая дополнительные информационно-категориальные планы и реминисценции, параллельно меняя природу самого интерпретатора, поднимая его на новую, более высокую эволюционно-исследовательскую ступень развития.
Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:
Реферируемые издания
1. Эпистолярный дискурс как письмо в эволюционном диапазоне его саморазвития // Вестник Тюменского государственного университета. 2004. N22.-1.0n л.
2. «Авторский голос» как элемент эпистолярно-историософской репрезентации личности (на материалах XIX в.) К постановке вопроса // Известия УрГУ. 2005. №33. Вып.17. Серия: Проблемы образования, наук и культуры. - 0,9 п.л.
Монография
3. Эпистолярный дискурс как социокультурный феномен: Россия - век XIX-й. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2003. -16,9 п.л.
Статьи
4. Урок на послезавтра, или мысли вслух о «подводных камнях» великой российской истории // Новое в исторической науке: В помощь преподавателю истории. Сб.науч.-метод.трудов. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 1996. - 0,8 п.л.
5. Пушкинская тема в истории российской государственности // Западная Сибирь: история и современность. Краеведческие записки. Вып. III. Екатеринбург: Средне-Урал. кн. изд-во,2000. - 0,4 п.л.
6. Русский анекдот в поисках смысла // Новое в исторической науке. В помощь преподавателю истории. Сб.науч.-метод. тр. Вып. 2. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2001. -0,8 п.л.
7. Русский Танатос Гоголь в письмах о жизни, смерти и бессмертии // Мировоззрение и культура. Сб. статей. Под общ. ред. проф. В.В. Кима. Екатеринбург: Изд-во «Банк культурной информации», 2002. -1, 0п.л.
8. «Прошлое еще впереди» (субъективные заметки по поводу общеметодологических проблем изучения русского эпистолярного наследия XIX в.) // Россия и страны Запада. Проблемы истории и филологии. Сб. науч. тр. Ч. 1. Серия «История и филология». Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2002. -1,5 п.л.
9. «У царей друзей не бывает (К истории забытого эпистолярного наследия Г.-Ф. Паррота)» // Общество и власть. Вып.З. Сб. науч. трудов РГИ СПбГУ. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.-0,4 п.л.
10. Эпистолярная персонификация социокультурного пространства России XIX в. // Десять лет высшего исторического образования в ХМАО. Материалы межрегиональной науч. конф. 17 апреля 2003 г. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2003. - 0,8 п.л.
11. Проблемы православия, общество и личность в эпистолярно-историософской реминисценции XIX в. // Малоизученные и дискуссионные проблемы отечественной истории. Вып. 1. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2004. - 0,6 п.л.
12. Эпистолярное экмэ» К.П. Победоносцева: обер-прокурор в письмах к современникам // Тюменский исторический сборник. Вып. 7. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2004. -0,9 п л
13. К вопросу о категориально-гносеологическом структурировании эпистолярного дискурса (на материалах XIX в.) // Проблемы истории культуры. Вып.2. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2004. -1,2 пл
14 «Мы вовсе не врачи, мы - боль: П.Я. Чаадаев - эпистолярно-философическое «безумие» // Северные регионы. Проблемы философии и культурологии. 2004. № 2. -1,0пл
15. «Эпистолярный эйдос М.М. Сперанского» // Человек и Вселенная. 2004. № 5 (38). - 0,9 пл
16. К проблеме общеэпистемологических оснований «звучащей и говорящей плоти» - русского эпистолярного наследия XIX века // Материалы Второй международной научной конференции «Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия» (Нижневартовск, 22-24 дек. 2004). Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2004. - 0,5 п.л.
Материалы научных конференций, научные доклады
17 «Микромир» анекдота в устной истории // Историческая наука на пороге третьего тысячелетия. Тез. докл. Всеросс. науч. конф., 27-28 апреля 2000 г. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2000. -0,2 п л
18 Нарративная повествовательная история и русская эпистолярная мысль XIX в. // Западная Сибирь: проблемы истории и историографии. Тез. докл. и сообщ. региональной науч. конф. 28-29 ноября 2000 г. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2000. - 0,3 пл.
19. Эпистолярная форма дискурса в нарративной повествовательной истории России XIX в. // Теоретико-методологические проблемы исторического познания. Материалы международной науч. конф. 1-2 февраля 2001 г. Минск: РИВШ БГУ, 2000. Т.1. -0,3 пл
20. О некоторых проблемах исторического образования и формирования историка-профессионала // Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. тез. в честь Е.И. Каменцевой. М.: Изд-во РГГУ, 2001. - 0,2 п л
21. «Мир раскололся пополам и трещина прошла через мое сердце» (К вопросу об историософии «Писем из Сибири» декабриста М.М. Лунина) // Мира не узнаешь, не зная края своего. Материалы 5-х краеведческих чтений 27 апреля 2001 г. Нижневартовск: Изд-во «Приобье», 2001. — 0,3 пл
22 «Времена года» российского самодержавия и русская эпистолярная мысль XIX в. «своих» и «чужих» // «Наши» и «чужие» в российском историческом сознании. Международная науч. конф. 24-25 мая 2001 г. СПб.: Нестор, 2001 -0,3 пл
23 Время «поповичей» в русской истории (М.М. Сперанский, К.П. Победоносцев, В.О. Ключевский). К постановке вопроса // Центр и провинция. Историко-психологические проблемы. Материалы Всеросс. науч. конф. 6-7 декабря 2001 г. СПб.: Нестор, 2001. - 0,3 пл
24 «Я» и «МЫ»: эпистолярное «Зазеркалье» России XIX в.» // «Я» и «Мы». Ма
риалы Всеросс. науч. конф. 30-31 мая 2002 г. СПб.: Нестор, 2002. -0,4пл
25. «Хочу, чтобы рука писала от сердца» (К вопросу об эпистолярном наследии ВА. Жуковского) // В.А. Жуковский и русская культура. Материалы Всеросс. науч. конф. Мойка, 12. 25-27 апреля 2002 г. СПб., 2003. -0,3 п л
26. «Эпистолярный интеракционизм»: К.П. Победоносцев - Ф.М. Достоевский // Исторические персоналии: мотивировка и мотивация поступков. Материалы Всеросс. науч. конф. СПб.: Нестор, 2003. - 0,3 п.л
27. К истории переписки В.А. Жуковского и великого князя Константина Николаевича Романова // Материалы Второй международной научно-практической конференции «Плехановские чтения». М., 2004 - 0,2 п.л.
Материалы научных конференций, выступления
28. Смысл и назначение истории: накануне третьего тысячелетия // Вторые Соколо-ские чтения. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 1999. - 0,2пл.
29. Крестьянский и аграрный вопрос в истории России // Философия и образование. Третьи Соколовские чтения. Тез. науч.-практич. конф. 17-19 мая 2000 г. Нижневартовск: Изд-во НГПИ, 2000. -0,2 пл.
30.Музей третьего тысячелетия: очеловечить культуру? // Тез. докл. и сообщ. ГУ-й региональной музейной науч.-практич. конф. Нижневартовск: Изд-во «При-обье», 2001.-0,2 и.л.
31. «Малая» история и проблемы исторического образования // Воспитание и обу чение. Традиции, инновации, результативность. Материалы областной научно-практич. конф. ПОИПКРО 21-24 ноября 2000 г. Псков: Изд-во ПОИПКРО, 2002. -0,3 п.л.
32. Проблема духовного учительства в России XIX в. Тезисы выступления на конференции «Русское православие и культура» // Русская литература». 2002. № 4. -0,1 п.л.
33. Интеллигенция и власть: к истории забытых имен (Ф.-Ц. Лагарп, Г.-Ф. Паррот) // Толерантность и власть: судьбы российской интеллигенции. Тез. международной конф., посвященной 80-летию «философского парохода». 4-6 октября 2002 г. Пермь-Чусовая. Екатеринбург, 2002. - 0,2 пл.
34. О новых проекциях исторического образования: формы сотрудничества с муниципальным учреждением «Этнографический музейный комплекс» // Русские в Сибири. Тез. докл. и сообщ. V региональной науч.-практич. конф. Нижневартовск: Изд-во «Приобье», 2003. - 0,1 п.л.
35. К вопросу об интегративно-гуманитарных проекциях исторического образовании в педагогическом вузе // Сб.материалов августовского совещания педагогических работников ХМАО -ЮГРЫ «Итоги I этапа и задачи II этапа российского образования на период до 2010 года» образовательной сферы ХМАО-ЮГРЫ. Ханты-Мансийск.24-25 августа 2004г.-0,2п.л.
36. Историческая наука и интегративно-эпистемологическией горизонты русской эпистолярно-дискурсивной практики XIX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. тезисов XVII научной конференции кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ. М, 2004. - 0,2 п.л.
I Годписано в печать 20 12 2004 Формат 60x84/16 Ьума1а для множите н иы\ аппаратов Гарнитура Тайме Уст печ лисгстЗОО Тираж 100 экз Заказ 95
Отпечатано в ИлУатечьстве Нижневартоьского педагогического института 62Ч6!5 ¡юмеиская обшеть г Нижнее,артоса 1 / ^Ьсржинского /3 ¡е 1 /фикс (3466) 43-75-73 С-тси! п^р/рис и т си юл \к 1! \пс I ги
2058
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора философских наук Сапожникова, Наталия Васильевна
ВВЕДЕНИЕ.
ЧАСТЬ I. ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ФИЛОСОФСКИЙ
НАРРАТИВ.
ГЛАВА 1. «Прошлое еще впереди»: общеэпистемологические аспекты звучащей и говорящей плоти».
ГЛАВА 2. Эпистолярий как письмо в режиме философствования.
ГЛАВА 3. Эпистолярный комментарий эпохи «предсмертного смешения».
ГЛАВА 4. Авторский голос в эпистолярном «диалоге с отсутствующим»: «У царей друзей не бывает».
ЧАСТЬ И. ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ИСТОРИОСОФСКО
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.
ГЛАВА 5. П.Я.Чаадаев об исторической миссии России: эпистолярнофилософическое «безумие».
ГЛАВА 6. Этическое через историческое: Н.В.Станкевич и его эпистолярное наследие.
ГЛАВА 7. Эпистолярный эйдос реформатора М.М.Сперанского.
ГЛАВА 8. Эпистолярное акмэ адепта самодержавия, консерватора
К.П.Победоносцева.
ГЛАВА 9. Проблемы личности и духовной свободы в России в «Письмах из Сибири» декабриста М.С.Лунина.
ГЛАВА 10. «Русский Танатос» Н.В.Гоголь в письмах о цене жизни, смерти и бессмертия.
Введение диссертации2004 год, автореферат по философии, Сапожникова, Наталия Васильевна
Актуальность темы исследования. Современный этап смены не веков -тысячелетий с их напряжённо - драматической конвергенцией настоящего в «живую» историю заставляет рассматривать последнюю как непосредственное переживание человеком историчности его бытия, в том числе в виде проекта реализации самого человека, «перемещённого» в прошлое. Личность третьего тысячелетия просматривается сквозь призму Феноменологии Духа с аккумуляцией энергопотоков на мировом перекрестке исторических сквозняков, создавших абсурдную ситуацию смыслоутраты и одновременно тоски по полифонично яркому жизненному миру, выступающему как пласт опыта. В среде философов развернуты дискуссии вокруг заявленных фаталистических проектов антропологической катастрофы и той деструкции человеческой природы, которая в последние годы принимает угрожающе зримые очертания. Но слышны голоса и тех, кто пытается постичь суть тайны человека, творческая проявленность присутствия которого в мире также самоочевидна.
Закономерная актуализация проблем историософско-антропологического, психо-лингвистического и нарративно-повествовательного звучания разновеликих сюжетов и тем связана также со всё более громко заявляющей о своем праве быть услышанной тенденцией гуманитаризации научного знания в целом и исключительной перспективности интегративных его форм, в частности. С постмодернистской «подачи» стираются некогда жесткие междисциплинарные рамки с преодолением узкоспециализированных предпочтений, расширяется ракурс обзора и совершенствуется концептуально-методический инструментарий. Согласно Ж.Ф.Лиотару, с изменением самого «статуса знания» меняется и роль исследователя: на смену «авторитетному эксперту» приходит «философ», который задает вопросы, адресуя их той реальности, которая всего лишь одна из множеств возможных описаний мира, ставящая под сомнение привычную для нас гарантированную однозначность.
Выход на новые эвристические возможности осмысления предельных вопросов бытия, а именно: специфики человеческого существования, предназначения человека и умения этим предназначением распорядиться -предполагает изучение не только феноменологии конструирования мира, но и самого феномена Человека в нём с расширяющимся поиском антропологических оснований различных, в том числе и не вполне традиционных для философской рефлексии модусов. К примеру таких, как удивительно пластичная и смыслоёмкая философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса, впервые заявленного как предмет и объект философского анализа. В подобном контексте перспективна тема дуализма формирования выразительной личности XIX века через рассмотрение противоречивости процесса динамики смысложизненных ориентиров и ценностей в диапазоне индивидуального и социального, уникального и универсального с разрушением в конечном итоге целостности её мировосприятия. Это представляется сегодня необычайно симптоматичным и значимым, прежде всего, учитывая состояние современного российского общественного сознания, задача гармонизации структур которого настоятельно диктует важность осмысления опыта прошлого с позиций философско-антропологической проекции формирования личности и получения ответа на вопрос о способах ее самоактуализации и самовыражения сквозь призму «истинности» и «ложности» бытия, индикатором чего и стал в XIX веке рассматриваемый эпистолярный дискурс.
По степени самораскрытия личности и исключительности влияния на общество он вполне может претендовать на самостоятельную роль не только в качестве «занятного, хотя и крайне специфичного» литературно-экзистенциального прецедента. Письма той поры перерастают отведенные им многовековой историей рамки, свидетельствуя, с одной стороны, о рождении оригинальной исповедальной традиции. С другой - демонстрируют поразительно талантливую открытость личности навстречу миру с её способностью прочитывать человеческие смыслы реальной, невыдуманной действительности, переводя информацию на язык философический с помощью эпистолярных средств «повседневного бытования». Человек стремился преодолеть ограниченность своего индивидуального бытия путем постижения собственной экзистенциальной аутентичности, очерчивая в который раз феномен своего Ф присутствия в этом мире, но уже посредством эпистолярного дискурса, метафизичность природы которого до сих пор не изучена.
Между тем в XIX в. он проявил себя как тончайший индикатор, засвидетельствовав начало процесса деформации всей системы смысложизненных ценностей с их теориями «крови по совести», «героя и толпы», «прикладной», почти ницшеанской вседозволенности «исключительной личности», крушившей разделительную полосу между анархией и свободой. Обнаруживая явные кризисные признаки и в самом рабочем механизме власти, с ф его «подачи» был создан прецедент «русских Гамлетов» и «русских королей Лиров». Увидеть подобную дихотомию и осмыслить её на историософском уровне мог лишь поистине универсальный разум, объявший своим взором «абсолютное совершенство» и «недостижимое благо». Первым это предложил сделать в своем эпистолярно-философическом цикле П.Я.Чаадаев, почему тогда и складывается формула «русский - синоним философствующий» как свидетельство особой широты русской души. Она и в дальнейшем оказалась неприкаянной, требуя своей многомерно антропологической проекции в Ф историософской, психо-лингвистической и социокультурной практиках, сводимых в единый эпистолярно-дискурсивный план.
Анализ всепроникающей метафизической универсализации эпистолярного дискурса позволяет осознать масштабы философского творчества XIX в. на уровне конструирования микромира письма как своего рода элемента Сотворения мира, когда человечество предстает в едином качестве - Творца, Философа, Мыслителя, Личности, а сам процесс понимания этих миров - описать как эпистолярно-антропологический модус бытия. Исходя из реалий сегодняшнего дня, мы вполне способны оценить степень значимости Ф эпистолярного жанра, сумевшего продемонстрировать удивительные конверсионные возможности эпистолярно-рефлексивной самоидентификации личности и ее творческого самораскрытия, в том числе на уровне превращения эпистолярия в философский текст и философское письмо. И хотя эпистолярный жанр в классическом его варианте, видимо, ушел в прошлое, учитывая эвристически методологическую функцию принципа отражения противоположностей в решении проблемы повторного отрицания в процессах развития (первоначально существующее качество, отрицаясь и переходя в свою противоположность, со временем вновь восстанавливается на новой основе) и присущую письму коммуникативную универсализацию транспонирования смыслов, надежда на возможное возрождение, пусть и в новой структурно-композиционной форме, все-таки остается. Основанием к этому служит тысячелетняя история его развития, органично вписавшаяся в эволюцию цивилизации и философской мысли, не только сопровождая человечество в его историческом пути, но во многих позициях меняя векторы направления этого процесса. Говоря словами М.М.Бахтина, «огромные . массы забытых смыслов .в определенные моменты дальнейшего развития диалога . вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого смысла будет свой праздник обновления»1.
Степень разработанности проблемы и теоретическая база исследования. Предложенная к рассмотрению тема появилась как результат цившизационных, следовательно, научно-параднгмачьных трансформаций с их уходом от универсализации исторических схем. Сам факт «опредмечивания» эпистолярного дискурса феноменален и связан с процессом деобъективизации мира истории, с одной стороны, и обнаружения нестандарности приемов работы с текстами на уровне расширения онто-эпистемологических резервов (М.Фуко, Х.-Г.Гадамер, М.Хайдеггер, М.де Серто, Ж.Деррида, П.Рикер и др.), с другой.
Хотя тема диссертации в заявленной автором редакции пока в философской литературе не ставилась, она опирается в своей основе на более чем солидный научный «актив», позволивший определить предмет и объект исследования, сформулировать его задачи. Тем самым предполагается синтезирование
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. - М., 1986. С. 393. философско-антропологического и историософско-социокультурного подходов, отразивших в себе напластование разнородного круга источников по различным уровням социально-гуманитарного спектра знаний, сведенных в единую эпистолярно-дискурсивную ось в её оригинальном хронотопе - «русском» Х1Х-м веке.
Изучение философско-антропологической природы эпистолярного дискурса базируется на тематических наработках предшествующих эпох, прежде всего русской философской мысли и философской антропологии. Труды основателей последней - Л.Фейербаха, М.Шелера, Г.Плеснера, де Шардена придали современной, в том числе отечественной философской антропологии, впечаляюще масштабный онто-гносеологический статус, синициировав взрывной интерес к антропологизации всей системы представлений о человеке как «познаваемо-познающем» объекте (М.Вебер, Н.Гартман, А.Ф.Лосев, С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Б.В.Вышеславцев, И.А.Бутенко, Г.С.Батищев и др.) и свёртыванием абстрактно-умозрительного подхода к разрешению связанных с этим метафизических проблем («синтетическая концепция» А.Гелена, «культурная антропология» Э.Кассирера, «философия жизни» Ф.Ницше и Э.Гуссерля, «научная феноменология» де Шардена, «новый рационализм благоговения перед жизнью» А.Швейцера).
Поиск ключа «метаантропологического онтогенеза» «неявного, имплицитного» позволил проявиться на удивление пластичному эпистолярному дискурсу. Его рождение стало результатом институции общегуманитарной мысли (Э.Гуссерль, Х.Уайт, Э.Штрёкер, Т.Кун, К.Хукер, М.М. и Н.М.Бахтины, Ю.М.Лотман), обнаружившей и в новом тысячелетии пароксизм и остроту проявленных еще философской традицией ХУШ-Х1Х вв. вопросов в части сопряжения духовных оснований антропологическому пониманию истории. Особенное место и роль в этом плане отведены русской философской мысли Х1Х-начала XX вв., которой изначально были присущи историософско-антропологическая направленность, глубинный онтологизм, духовность, нравственный максимализм, сращивание идеи и личной судьбы, персонифицированного микрокосма с макрокосмом, стремление вписать в мировой процесс жизнь каждого народа и отдельного человека, почему во многих случаях именно в России и были предвосхищены многие позднейшие психософские озарения (В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, Н.Я.Данилевский, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, Н.А.Рожков, В.М.Хвостов, Г.Г.Шпет, Н.И.Кареев, А.С.Лаппо-Данилевский, А.Ф.Лосев, С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, Л.Шестов и др.) Хотя основополагающие историософско-антропологические внетеоретические концептуальные уровни вызревали в малых повседневно-экзистенциальных и литературных формах, становившихся судьбой их авторов и судьбой России. Так, как это случилось с «Письмами к даме*» П.Я.Чаадаева, заложившими методологический каркас собственно русской философской традиции и общественно-политической мысли XIX в.; перепиской Н.В.Станкевича, немало содействовавшей зрелому оформлению русской литературной критики; письмами Н.В.Гоголя, предвосхитившими теоретические инициации В.Розанова и современных психософов и грамматологов.
Избранное автором «философско-эпистолярное целеполагание» потребовало обращения к широкому кругу источников по философии и методологии истории, психологии и лингвистики, культурологии и философской антропологии. Современный уровень состояния последней является предметом углубленного анализа в работах П.С.Гуревича, Б.Т.Григорьяна, В.А.Подороги, К.Н.Любутина, В.С.Степина, В.И.Плотникова, Л.А.Мясниковой, А.В.Перцева, Е.Г.Трубиной,
B.С.Невелевой и др. В условиях кризисной симптоматики, заявившей о себе в сфере философской антропологии, очевидны онтологические резервы, не раскрытые до сих пор в полной мере. Между тем как они имеют давние традиции своего метафизического «приложения» в трудах Августина Блаженного,
C.Кьеркегора, К.Г.Юнга, а также критических инициациях М.Хайдеггера и особенно философских парадоксах Ф.Ницше. В работах «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) и «Сумерки кумиров, или как философствуют молотом»
1888) он поднял исторический процесс на уровень творчества отдельных личностей, указав при этом на принципиальную непознаваемость истории, понимаемую им как особое «поле» личности и ее времени. Вопреки логике Ницше это как раз и предопределило эпистемологическое напряжение и оказалось поразительно созвучно с общефилософским и содержательно-смысловым концепт-модусом эпистолярного дискурса как органики слияния феномена жизни и времени человеческого бытия, судьбы и психологизма личности, истории и философии, культурно-исторической символики и языково-коммуникативных оснований мышления и общения. Подобная проблематика заявлена в работах Х.Ортега-и-Гассета, Э.Фромма, К.Лоренца, Ю.М.Лотмана, И.С.Кона, В.В.Кима, Н.В.Блажевича, Н.Н.Трубникова, Б.С.Успенского, Л.А.Когана, Г.А.Чупиной, Ю.И.Мирошникова и др.
Вызревание» эпистемного поля эпистолярного дискурса происходило путем существенной «корректировки» сциентистски устоявшихся представлений о философских обоснованиях исторического процесса в целом (Л.Февр, Р.Дж.Коллингвуд, И.С.Кон, К.Поппер, К.Ясперс, А.Ахиезер, Е.Б.Рашковский), текстово-нормативной и текстово-диалогической организации мира (Н.Хомский, Л.Витгенштейн, М.де Серто, П.Рикер, И.Дройзен, М.А.Барг, В.В.Розанов, Н.О.Лосский, Ю.М.Лотман, Б.Дубин, А.И.Рейнблат, К.А.Андреева), а также расширения историософско-культурологического концепт-диалога прошлого и настоящего, выступающего к тому же по отношению к первому в качестве «состоявшегося» будущего (М.М.Бахтин, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, Б.С.Успенский, А.Я.Гуревич, Ф.И.Гиренок), что высвечивало дополнительные семантические и онто-гносеологические связи и проблемные уровни.
Традиционализму противопоставлялись различные «реконструкционные дубли» прошлого, на основе которых (с созданием собственных верификационно-онтологических систем) философы приступили к разговору о проблемах современности (Х.-Г.Гадамер, Ю.Хабермас, Х.Ортега-и-Гассет, М.Хайдеггер, П.С.Гуревич), способах презентации человека во времени, в том числе посредством «археологического» и «стратиграфического» «расчленения-поиска» (Э.Гуссерль, Ж.-П.Сартр, М.Мерло-Понти, П.Рикер, М.Фуко, М.К.Мамардашвили, А.В.Гулыга, В.А.Подорога, Н.Н.Трубников, И.М.Савельева,
А.В.Полетаев, Ю.А.Левада), нелинейности и личностном измерения истории (В.С.Библер, М.Я.Гефтер, И.Я.Лойфман, Б.В.Емельянов, В.И.Копалов), а также онто-методологических основаниях разноуровнего постижения смыслового ^ измерения бытия (В.Франкл, Н.А.Бердяев, А.С.Ахиезер, Л.С.Выготский, М.М.Бахтин, С.Л.Рубинштейн, В.С.Библер, Г.Л.Тульчинский, В.В.Ким и др.), в том числе психоаналитической и «психософской» деструктивности сознания и поведения (Н.М.Михайловский, Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, Э.Дюркгейм, М.Вебер, А.Маслоу, Дж.Шлиен, А.А.Гусейнов, Ю.А.Арутюнян, А.В.Курпатов, А.Н.Алёхин), включая удивительно тонкие наблюдения Л.Фейербаха, по существу, предвосхитившие в некоторых позициях более поздние концептуальные проекции психоаналитики.
Опора на вышеперечисленные научные направления позволила очертить метафизические рамки эпистолярного дискурса как базиса для разработки его концептуальной схемы. В её предметное поле было внедрено понятие «традиция» за счет углубления исторической доминанты, неизбежно глобализируя не только сам факт присутствия человека в «историческом режиме» освидетельствования эпохи (в том числе, в микроэпистолярных срезах), но поднимая глубинные пласты психодинамики проявления исключительных, никогда более не повторяющихся личностных качеств и свойств, нестандартно ^ заявляющих о себе в философско-аптропологическом и историософском планах через человек-принцип. Поэтому исключительную значимость в изучении природы эпистолярного дискурса приобрели центральные гносеологические проблемы философской антропологии и культуры, философии истории и психологии, выходящие на смысл истории и феномен присутствия человека в ней, сущность коммуникативного конституирования личности, в том числе посредством психологизации диалога (не исключая власти), идентификации и самореферирования (Х.-Г.Гадамер, Э.Фромм, Б.Д.Парыгин, А.Ахиезер, Ю.Хабермас, И.А.Ильин, М.М.Бахтин, В.С.Библер и др.), концептуального # видения «Я»-личности, эволюции сознания и дискурсивной опосредованности самопонимания человека на уровне философской культуры, в том числе текстовой (М.Бубер, И.С.Кон, И.Я.Лойфман, М.К.Мамардашвили, Э.В.Ильенков, Е.Г.Трубина, И.В.Цветкова и др.), что существенно проясняло суть предметно-синтезирующего ядра эпистолярного ракурса.
Вместе с тем решающим звеном в инициации заявки на эпистолярный дискурс стало рождение новой парадигмы, получившей в ряде гуманитарных наук название дискурсивно-нарративного, т.е. повествовательно - текстового поворота со «смешением горизонта текста и горизонта читателя» и морфологического растворения их в философии нарратива (Х.Арендт, П.Рикер, Д.Карр, Й.Брокмейер, Р.Харре, Х.-Г.Гадамер, И.В.Янков) и междисциплинарной нарратологии (Г.Уайт, Р.Шафер и др.) Этот поворот был резко усилен антропологической доминантой, что позволило в конце XX в. говорить о «философско-антропологическом ренессансе» с его обращением к нарративной истории, в канву которой оказались органично вплетены микросюжетные композиции с использованием, в том числе метода «эпистолярного стоп-кадра».
В рамках заявленных направлений философской мысли происходило вызревание структурно-логических оснований для предметного разговора о статусе нарративно-эпистолярных текстов не только как источников личного происхождения и уникальных исторических свидетельств-характеристик уровня развития культуры той или иной эпохи в целом2. При определенных условиях они могли выступать как специфичные текстовые «проекции-опыт» философского освоения мира с выходом на уровень «философских текстов» (И.В.Цветкова), демонстрируя, с одной стороны, собственные онто-гносеологические резервы «философствования без философии», с другой, -идентифицируя «истину философии» в «истине человеческого присутствия» (М.Хайдеггер).
Приближают к осмыслению природы эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпистолярия, исследования проблем философской проекции письма как особого грамматологического процесса-олерш/ш/ написания с его верификационно-смысловыми и «конструкционно-деконструкционными»
2 См., напр.: Наивное письмо: Опыт лингво-социологического чтения. М., 1996. возможностями, в том числе на уровне «телесной практики», что нашло свое отражение в работах М.Фуко, Э Гуссерля, Ж.Деррида, В.В.Розанова, И.Гельба, А.Волкова, А.Кондратьева, В.А.Подороги, В.Е.Дмитриева; трансформации формы бытия и сознания в литературе, частично в эпистолярно-смысловом их отражении - Е.К.Созиной; стратегии письма с переходом в поле культуры на уровень опредмечивания дискурсивной практики - Ю.Л.Троицкого и Ю.В.Шатина, фиксирования текстово-культурологического её «следа» -Ю.М.Лотмана, Т.В.Лохиной, Е.Ю.Наумова.
Актуальность историософско - антропологического ракурса темы предопределила её близость к исторической антропологии, где, в свою очередь, также было предложено ломающее традиционное видение проблем исторического прошлого и эпистемно-философского их сопряжения через принципиально новые подходы, синтезирующие культурно-антропологические ряды («школа Анналов» - Л.Февр, М.Блок, Ж.Дюби, Р.Шартье, Ж.Ле Гофф), конструкционно-парадигмальные заявки в духе «новой исторической науки» и «интеллектуальной истории» (Л.Госсмэн, Л.Шайнер, Л.Орр) и - вновь обращение к анналам как непререкаемым авторитетам. Приоритетными стали направления изучения человека как субъекта в его историософско-антропологической и социокультурной обусловленности, когда, говоря словами Л.Февра, «существует только одна история - история Человека. в самом широком смысле слова». Непривычно новаторские методы получения информации принципиально нового качества (макро и микротематические срезы и практики, в том числе эпистолярные) позволили говорить о рождении новой методологии изучения прошлого - истории ментальности и в России (А.Я.Гуревич, А.И.Бегунова, Е.С.Лямина, Н.В.Старовер и др.) что нашло свое приложение и в источниковедческих наработках, посвященных изучению эпистолярного наследия. Главным онтологическим акцентом исторической антропологии, основоположником которой считается Марк Блок, стала инаковость чужой культуры (автора - интерпретатора), создавая коммуникативный диалог культур, размещенных в пространстве и времени.
Сама постановка изучаемой проблемы в той ее редакции, как это отражено в названии данной работы, стала заявлять о себе лишь в самые последние годы, вслед за нарративным всплеском открыв резервы смыслообразований в областях, которые ранее были зарезервированы за так называемыми традиционалистами и источнико ведами. Еще с XIX в. предпринимались первые шаги по историографической разработке «неизданных источников», в том числе на базе биографических исследований. Но лишь в 20-30-х гг. XX столетия подобный источниковый блок был резко актуализирован в онто-гносеологическом и методическом планах (Н.Л.Степанов, Л.П.Гроссман, Б.В.Казанский, Ю.В. Готье, Н.Н.Фирсов, А.Леднев и др.), расширив тематический ракурс до масштабов «психологической прозы» (П.К.Губер, в 70-е гг. Л.Я.Гинзбург) и создав прецедент трансформации «банального» в канал зрелого литературоведения и психоистории.
Исключительный вклад в осмысление рассматриваемой проблемы на историософском уровне, не исключая общетеоретических проблем эпистолографии, культуры письма, его функциональной стратегии «порождения экзистенциального смысла» с позиций семиотики и семантики, был внесен московско-тартусской школой, возглавленной Ю.М.Лотманом, получив логическое продолжение в глубоких, тематически и стилистически разноплановых исследованиях Б.А.Успенского, В.М.Живого, И.А.Паперно, И.Н.Данилевского, А.Л.Юрганова, А.Я.Гуревича, Н.Л.Пушкаревой. В трудах историков, филологов, философов, искусствоведов, психологов и даже юристов, нередко на стыке научных интересов, полностью или частично затрагивались разновеликие пласты жизни эпистолярных форм, послужив основанием научного разговора о специфике эпистолярного жанра с его семантико-стилистическими и лексикологическими особенностями. Чрезвычайный интерес в этом плане представляют цикл работ историка Н.Я.Эйдельмана о декабристе М.Лунине, А.С.Пушкине, А.И.Герцене, исследование Е.Н.Марасиновой («Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века». М., 1999), труды западных русистов -Тодда III У.М. («Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху». СПб, 1994), И.Паперно («Семиотика поведения: Николай Чернышевский - человек эпохи реализма». М., 1996), Е.Н.Дрыжаковой («Герцен на Западе. В лабиринте надежд, славы и отречений. СПб, 1999).
Вторжение на территорию нарративно-исторического повествования эпистолярного дискурса, превращающегося в объект историософско-антропологического своего перерождения, стало научным фактом, требующим серьезного внимания с позиций изучения природы подобной репрезентации как самого жанра, так и «человека пишущего во времени», специфики метафизической проявленности эпистолярно-ментальных образов, а также оригинальности информационно-текстового, коммуникативного-смыслового, психо-лингвистического их кодирования на уровне эпистолярно-философской мысли (а не только писем как конструкционно-организующей ее формы), пластично «растворенной» в имманентной потребности человека к полноте бытия и расширяющей возможности самой ее интерпретации в философско-антропологической проекции специфичной эпистолярно-отсроченной формы.
Эпистолярный дискурс в силу указанных особенностей междисциплинарного своего звучания имеет различные модусы. Главным и определяющим в контексте нашей темы является философско-антропологический, позволяющий выявить субстанциональные параметры природы самого данного феномена как экрана, на котором оказался проявленным лик человека XIX в. В свою очередь, последний предельно (и даже запредельно) ярко эпистолярно визуализировал собственные антропологические и гуманитарно-трансцендентальные потенции, раскрыв в письме колоссальный резерв смыслообразований (в том числе и такой, как проблема ложного сознания) и обнаружив дополнительный источник саморазвития как homo faber-epistoljaricos (человек эпистолярно-творческий), homo ludens (человек играющий), а также, несмотря на все оговорки Э.Кассирера, homo symboliens (человек символический), homo historíeos и даже - как предтеча ницшеанского сверхчеловека.
Тем самым обзор состояния изученности проблемы позволяет констатировать известную степень готовности философской науки к предметному разговору о имманентно-содержательной наполненности эпистолярно-дискурсивного феномена, что свидетельствует, с одной стороны, о закономерном и устойчивом интересе к объекту исследования; с другой - о наличии серьезных исследовательских пробелов в его изучении, прежде всего на уровне комплексного философского, историософско-психологического, эмпирического и трансцендентно-антропологического синтеза начал проекции той великой Гуманистической Науки о Человеке, которая, по представлению Э.Фромма, есть основа Прикладной Науки и Прикладного Искусства Социальной Реконструкции. Как видится, её основания и должны стать базовыми при изучении эпистолярного дискурса XIX в. как философско-антропологического, историософского и социокультурного феномена, продуцируя многообразие методических приемов и средств его исследования, многоплановость сюжетной орнаменталистики и нетривиальность разговора о «человеке во времени».
Объект и предмет исследования. Объектом данного диссертационного исследования является эпистолярный дискурс XIX в. как философский нарратив, с одной стороны, и синтез массового и индивидуального, типического и особенного, историософско-антропологического, социокультурного и психологического, с другой. Предметом - природа философско-антропологической трансформации интерсубъективных смыслов «рефлексионно-эпистолярного бытования» на уровне самоидентификации личности через репрезентативно-эпистолярный «звуковой код», позволяющий вычленить способы и методы взаимодействия с историческим опытом, пониманием как прошлое, того человека XIX в., который посредством письма ответил па своем уровне на основополагающие вопросы философского бытия. Обнаружение предметно-онтологического поля стало результатом кропотливой исследовательской деятельности автора в крупнейших архивохранилищах, большой выборочной работы по отысканию колоссальной по объему, уникальной по содержанию и ныне практически забытой переписки, опубликованной в исторических журналах-публикаторах XIX - нач.ХХ вв., а также приданию эпистолярным раритетам нового метафизического статуса в связи с изменением методико-исследовательского ракурса зрения.
Цель и задачи исследования. Учитывая то, что за категориально-рецепционным уровнем понятия «природа эпистолярного дискурса» просматривается «сущность» и «режим существования» феномена, целью диссертационного исследования видится построение целостной философско-антропологической концепции эпистолярного дискурса как философского нарратива, с одной стороны, и историософско-антропологического «ноумена», с другой.
В качестве исследовательских задач автор выделил следующие:
-рассмотреть сущностные особенности и онтологическую специфику проявленности философской природы эпистолярного дискурса через нарративно-эпистолярную практику XIX в.;
-определить способы трансформации эпистолярных нарративов в философские тексты, выявив их философско-антропологические потенции;
-установить общесубстанциональные резервы структурно-классификационных параметров эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпистолярия, дав авторскую его интепретацию ;
-предложить вариант трансформации-сопряженности индивидуального и социального, уникального и универсального в истории России XIX в. и в духовных исканиях современников через эпистолярно-коммуникативный канал озвучивания вопросов: о феномене личности и пределах её духовной свободы, цели и смысле бытия, цене жизни и смерти в России, месте российской истории и предназначении русского человека в ней;
-проанализировать отдельные звенья грамматологического процесса-оперсщии написания с его верификационно-смысловыми и конструкционными планами;
-выявить органику и специфику проявления эпистолярно-ментальных образов личности, оригинальности информационно-текстового, коммуникативного-смыслового, психо-лингвистического кодирования эпистолярно-философской мысли, пластично «растворенной» в имманентной потребности человека к полноте бытия и расширяющей возможности самой ее реализации в философско-антропологической проекции специфичной эпистолярно-дискурсивной формы.
Методологические основания исследования. Эпистемология проблемы эпистолярного дискурса как философско-антропологического феномена основывается на выводах отечественных и зарубежных авторов, раскрывающих отдельные составляющие самого онтологического процесса познания и частных его аспектов через рефлексию по поводу собственной методологии, не исключая элементов позитивистской, постпозитивистской, постмодернистской традиций, «школы Анналов», тартуской школы семиотики, экзистенциально-герменевтических наработок, прежде всего ученых УрГУ, а также РГГУ, Воронежского, Белорусского госуниверситетов.
Смысловое поле работы задается оппозициями философской антропологии и культуры «я - другой», «эпистолярный текст - философский нарратив», «культура эпохи - культура текста», «время - хронотоп», «ментальность - реальность», «рациональное - иррациональное», «архетип - хронотип - метатип» и т.д. Наш замысел в том, чтобы концептуально связать их в единую панорамно-проекционную картину проявления природы эпистолярного дискурса на уровне самораскрытия его сущности и режима «проявленности» существования в историософско-антропологическом и социокультурном ключе с опорой на «осевой» временной параметр - Х1Х-Й век. Поэтому для конкретизации общетеоретических положений и выводов закономерным в нашем случае стало обращение к поистине колоссальному эпистолярному наследию, текстам русских философов, документам и материалам по истории России, дневникам и воспоминаниям, историко-биографическому фактажу, что обеспечивает предметно-экспозионный ракурс эволюции эпистолярного дискурса.
Исходным концептуальным основанием является антропологический принцип, понимаемый нами как противоречиво-диалектическое единство уникального и универсального, индивидуального и социального, проявленное в феноменальной природе эпистолярного дискурса как концепта. Этот синтез позволяет выявить творческий потенциал событийной и экзистенциальной жизни людей, отправляющихся на поиски смысла и создание своей собственной истории через строительство «эпистолярно-бытийной конституции» современной им эпохи. То есть, говоря словами Гадамера, истина становится историческим процессом раскрытия, который происходит и который определяет нас или уже давно определил.
Эпистолярный дискурс рассматривается в работе как базовый феномен, вычленение онтологических резервов которого возможно на основе метода феноменальной редукции с опосредованием уникального и универсального через «философско-антропологическую экзистенцию» эпистолярного текста как проекции подлинного и неподлинного существования философски мыслящего человека, не являющегося философом по роду своих занятий. С этих позиций данный метод становится средством конструирования миров-феноменов - мира письма (как феноменологического способа презентации личности; самого процесса написания; визуально-телесного опыта, когда можно «думать» и рукой) и мира человека в условиях интерсубъективной обусловленности (не только пишущего, но читающего и интерпретирующего письмо) - сводимых в мир-феномен эпистолярного дискурса.
Принимая во внимание идеи фундаментальной онтологии об эпохах забвения и хранения бытия при изучении эпистолярного дискурса использован метод двойной интерпретации - текстовой и социокультурной, в сочетании со структурно-генетическим подходом. В последнем случае структурная сторона проявлена предметностью эпистолярно-философской мысли, а генетическая -индивидуальной оригинальностью авторов писем и реверсионными потенциями самих нарративных текстов как «отражательного экрана» «истинно-ложного» состоявшегося авторского «Я». Это позволяет интерпретировать сам антропологический принцип как противоречивое «взаимопрорастание-единство» личностного и историософского, уникального и универсального, слившегося в эпистолярном дискурсе в диалектико-опосредованный синтез жизни людей и жизни текста, когда рассказывание бытия и его «проживание» становятся одним и тем же по своей сущности феноменом, порой взаимозамещая друг друга.
Преломленная в эпистолярном дискурсе запредельность человеческого существования через синтез микро и макрокосма текста и языка, личности и социума, личной судьбы и исторической судьбы России как непрерывного процесса продуцирования значений и смыслов - требует использование элементов методов философской и аполитической герменевтики (в оригинальных версиях Г.Г.Шпета, А.С.Лаппо-Данилевского, И.Н.Данилевского, Х.-Г.Гадамера, П.Рикера, Р.Дж.Коллингвуда). Проблема понимания и интерпретации осуществима на базе философско-антропологического единства грамматологической, психоисторической и социокультурной их составляющих с привлечением историко-биографической реконструкции в случаях важности воссоздания бытийных аспектов и мыслей, вырастающих через эпистолярный дискурс до уровня философски значимых обобщений.
Учитывая междисциплинарный характер работы и значительный объем привлеченных источниковых материалов, естественным становится обращение к методу историзма как особой форме историософского сознания, оперирующей аргументацией по поводу того, что всякий акт познания, даже духовное бытие -ставшее, а личность - индикатор и катализатор всех исторических процессов. Это осознается на базе историко-логического, системно-концептуального принципов, в том числе, экстраполяции с соответствующими рефлексионными их потенциями. Предложенный А.В.Перцевым вариант типологического подхода к нравственному сознанию в виде метафилософского построения предельно обобщенных типов жизненной позиции, установок сознания и этосов умозрения имеет основания стать «рабочим» при анализе типажа жизненных позиций и диспозиций, речевых интенций-«проговариваний», вариабельности образа личности в её соотнесенности с вопросом о смысле бытия, а значит, жизни и смерти. В подобном контексте историко-психологический метод в редакции А.Л.Вассоевича, звучащий как предположение о том, что системно описать образ мышления людей, живших много веков тому назад и говоривших на определенном языке, можно лишь изучая господствовавшие в соответствующее историческое время психологические ориентации, органично дополняет предлагаемую конструкцию3.
Несомненно перспективен метод текстовой деконструкции - изучения авторского намерения (Фоккема) на основе сравнительно-типологического анализа эпистолярных полиисточников и того, что в момент написания текста было «за кадром» и даже самим автором не могло быть вполне осознаваемо (Ю.М.Лотман) с совмещением идеального образа, выстроенного в сознании пишущего письмо, и той реально-биографической трансформации его судьбы, что оказалось «выписано» уже самой жизнью.
Апробирование приемов сравнительно недавно заявленной «зеркальной симметрии» как принцип просматривается и на уровне эпистолярного дискурса. Разделение симметрии и асимметрии на две пары - онтологическую (существующую в объективной реальности) и гносеологическую (обусловленную познанием) - есть, по сути, отражение основного вопроса философии в той его форме, что «предписывает» всякому объекту ту и другую форму единства первого и второго. Развитие научного знания может быть охарактеризовано как поиск симметрии (т.е. непротиворечивость, себятождественность). Вполне вероятно, что прогрессивная составляющая в материальном мире (прежде всего, конечно, истории) - это переход от симметрии к асимметрии, а в познании -наоборот, причем симметрия выступает каждый раз как промежуточная цепь каждого этапа.
Производные этого методического приема в контексте нашей темы -«ломаная» асимметрия, асинхронизация как возможный эпистемологический «резерв-соположенность», полагаем, имеют основания быть «принятыми во внимание» с использованием своего рода проекционно-асиихронного метода «контраст-диалога», как в случае со сведением в единую тематическую плоскость эпистолярно-дискурсивных проекций писем «безумствующего
3 См.: Перцев A.B. Типы методологий историко-философского исследования / A.B.Перцев. -Свердловск, 1991; Вассоевич А.Л. Духовный мир народов классического Востока (историко-типологический метод в историко-философском исследовании)/ А.Л.Вассоевич. - СПб., 1998.
20 философа» П.Я.Чаадаева и «интеллектуала-гуру» В.Н.Станкевича, реформатора М.М.Сперанского и консерватора К.П.Победоносцева, декабриста-бунтовщика М.С.Лунина и писателя Н.В.Гоголя. Эпистолярный «генофонд»» их наследия оказался необычайно перспективен для превентивно-философской по его поводу рефлексии. В развернутой недавно на страницах «Вопросов философии» дискуссии по поводу выхода «Новой философской энциклопедии» резонно прозвучал вопрос о том, почему в ряд великих русских писателей, названных современными энциклопедистами - философами (Л.Толстой, Ф.Достоевский), не попал, к примеру, Н.Гоголь4. Самой своей «эпистолярной судьбой» эти люди подтвердили подлинность своего историософского присутствия, отразив посредством писем некую «асимметричную запредельность» собственного экзистенциально-эпистолярного «бытования» и наметив ориентиры последующей трагической эволюции истории Отечества и философско-антропологического резерва самой «русской думы».
Принцип предпочтения в выборе того или иного метода, либо синтеза нескольких одновременно зависит от историософско-психологической «фактуры» самого текста, философско-культурологической наполненности и информационно-смысловой перспективы эпистолярия, органики его слияния или, напротив, диссонанса с личностью писавшего и адресата, интерпретационной «интриги» вокруг появления письма и его роли в формировании общественного сознания, способов доставки в руки конкретного адресата, а также целевой установки и «рабочей гипотезы» исследователя. Это позволяет получить ответы на принципиально важные онто-гносеологические вопросы философии. В том числе - рельефнее визуализировать структурную органику самого поля письма, или того, что сегодня названо имплицитным (и, не исключено, эпистолярным) актом cogito.
Научно-практическая значимость исследования. Учитывая, что исследование носит междисциплинарный характер, совмещая историософско-антропологический, психолингвистический, социокультурный и
4 См.: Обсуждение «Новой философской энциклопедии» (материалы заочного «Круглого стола») // Вопросы философии. 2003. № 2. С. 19 - 20. источниковедческий планы, разработанная философско-антропологическая концепция эпистолярного дискурса позволяет конкретизировать исходно-интенциальные генетические его параметры, существенно корректируя масштабы онто-гносеологических перспектив изучения «феномена человека» через «феномен письма» за счет расширения самого предметного поля и философско-антропологических его «маркеров».
Концептуальное ядро выстроено на материалах поисково-источниковедческой исследовательской деятельности автора в крупнейших архивохранилищах - ИРЛИ (Институт русской литературы - Пушкинский Дом); Рукописном отделе Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ); Российском государственном историческом архиве (РГИА); большой выборочной работы по отысканию колоссальной по объему, уникальной по содержанию и ныне практически забытой переписки, опубликованной в исторических журналах-публикаторах XIX - нач.XX вв. Это позволило выявить и впервые ввести в научный оборот ранее неиспользованные уникальные архивные материалы - личные бумаги
М.С.Лунина, Н.В.Гоголя), эпистолярные раритеты (Г.-Ф.ПарротаА в том числе, в полном объеме (М.М.Сперанского,Тапейрана) или использованные ранее частично (Ц.-Г.Лагарпа, В.А.Жуковского, Н.В.Станкевича, К.П.Победоносцева).
Поэтому материалы диссертации и публикаций по теме научного исследования могут быть использованы для разработки лекционных курсов по философии и методологии истории, философской антропологии и психоистории, источниковедению и социологии. Основные положения и выводы исследования нашли свое практическое применение в курсе лекций «Основы философии и методологии истории» и спецкурсе «Эпистолярный дискурс в историософии России», прочитанных автором студентам IV и V курсов исторического отделения гуманитарного факультета Нижневартовского государственного педагогического института и V курса исторического факультета Сургутского госуниверситета.
Апробация основных положений исследования. Основные идеи и положения диссертации представлены в монографии «Эпистолярный дискурс как социокультурный феномен: Россия - век ХГХ-й» (Екатеринбург, 2003) (16,9 п.л), в ряде научных тезисов и статей. Отдельные концептуальные фрагменты обсуждались на многих научных и научно-практических конференциях, в том числе международных - Москва (2000-2005), Минск (2001), Санкт-Петербург (2001-2002), Пермь (2002), Нижневартовск (2004); общероссийских - Москва (2000-2004), Санкт-Петербург (2001-2004), Екатеринбург (2002), Тюмень (20002004) и региональных - Псков (2000), Нижневартовск (1999 - 2004), Ханты-Мансийск (2004). Полученные результаты обсуждались на семинаре докторантов при ИППК при УрГУ им. А.М.Горького.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух частей, десяти глав, Заключения, библиографического списка. Содержание изложено на 337 страницах. Библиографический список включает в себя 440 наименований.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Философско-антропологическая природа эпистолярного дискурса"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из цели и задач исследования, в качестве итогов отметим его междисциплинарный характер. На стыке философской антропологии и культуры, источниковедения и психоистории, лингвистики и историософии был вычленен философско-антропологический модус эпистолярного дискурса. Изучение его интерсубъективной сущности и многофакторного существования в рамках эпистолярно-рефлексионной практики XIX в. позволило получить важный по уровню метафизического осмысления материал для характеристики способов и методов взаимодействия личности «философствующей» с историческим опытом, понимаемым как прошлое.
Учитывая категориально-рецепционный уровень понятия «природа эпистолярного дискурса», совмещающего «сущность» и «режим существования» феномена, в первой части работы разработана целостная философско-антропологическая концепция эпистолярного дискурса как философского нарратива с его специфичными аккомодационными параметрами (диалогичностью, жанровой трансмиссионностью, экзистенциальной трансисторичностью), с одной стороны, и историософско-антропологического «ноумена» как микрокосма философии и культуры через эпистолярный канал самоактуализации присутствия человека в истории, с другой. В подобном концептуальном срезе эпистолярный дискурс - это еще и персонифицированный социокультурный феномен конструирования времени посредством «опасного языка».
В рамках данной концептуальной схемы конкретизированы исходно-интенциальные генетические параметры философско-антропологической проекции эпистолярного дискурса, концептуальное ядро которого выстроено на оригинальном источниковом материале (эпистолярном наследии XIX в.), полученном в результате углубленной источниковедческой работы автора по отысканию в архивах неизвестных ранее текстов, введению в научный оборот
286 опубликованных в Х1Х-нач. XX вв., но основательно забытых писем, а также приданию эпистолярным раритетам нового метафизического статуса в связи с изменением методико-исследовательского ракурса зрения.
Предложенная философско-антропологическая концепция эпистолярного дискурса существенно расширяет эпистемологические перспективы изучения «феномена человека» через «феномен письма» за счет расширения самого предметного поля и философско-антропологических его «маркеров». Анализ всепроникающей метафизической универсализации эпистолярного дискурса позволяет осознать масштабы философского творчества XIX в. на уровне конструирования микромира письма с демонстрацией конверсионных возможностей трансформации эпистолярия в философский текст и философское письмо.
На основе анализа предложенной автором онтологической парадигмы -структурной трансформации смыслов эпистолярного дискурса и его историософско-антропологической модели в оригинальном хронотопе - XIX в. как особо привлекательного объекта в эволюционном диапазоне его саморазвития, - доказано, что эпистолярный дискурс обладает масштабными онто-гносеологическими потенциями. В частности, приобретение письмом нового метафизического статуса - метаэпистолярия или философского текста как своеобразной формы нарративно-текстовой бифуркации с её переходом в новое качество мышления - философское, даже когда автор письма не являлся философом по роду своих занятий, тем не менее, состоявшись в этом качестве через специфичную эпистолярно-рефлексивную самоидентификацию личности и творческое самораскрытие. Это позволяет говорить о процессе дискурсивного врастания в «нарративно-культурологический канон» эпохи с созданием особого метафизического напряжения эпистолярного пространства и рождением подлинно высокого философского контекста письма XIX в.
В диссертации выявлены онтологические резервы данного процесса через расширительный ракурс понятий «философский текст» и «философское письмо». Показано, что эпистолярный дискурс, плавно перешагнув грань философии без философии», состоялся в главном - как зеркальное отражение онтологической первоосновы процесса познания в целом - духовной субстанции самого человека и общественного сознания русского общества XIX в. с его мифологическими установками и иррационально-политизированными тенденциями деформации системы смысложизненных ценностей и саморазрушения личности с парадоксально-параллельным процессом созидания себя по типу личности исторической.
Комплексный подход к изучению рассматриваемого феномена позволяет регламентировать способы трансформации письма в философские тексты посредством универсализации жанровости; прессинга языкового и стилевого диктата; перевода биографического контекста в философский подтекст; генезиса идеи фундаментальной онтологии о существовании эпох забвения бытия и его хранения, а в целом - моделирования мира письма как одного из возможных вариантов его Со-Творения через Логос - Плоть - Человека - Личность -Мыслителя - Творца. Поэтому в хронотопно-эпистолярном ракурсе XIX века -«эпохи предсмертного смешения», проблема амбивалентной, полярно направленной природы человека с ее «логикой» выбора между добром и злом, относящаяся к одной из главных в философской антропологии, и получила свое особое, «русское» развитие. XIX-й век оказался для России рубежно-осевым. Письма современников приостановили процесс «склеротирования» исторической памяти, вернув нам голоса удивительно живого и поразительно интересного прошлого.
В ходе проведенного исследования обнаружены общесубстанциональные резервы структурно-классификационных параметров эпистолярного дискурса, способного к сублимации в качестве метаэпистолярного «арбитра», разрешающего мотивационные противоречия между подсознательно-глубинными и демонстративно-эпатажными формами «эпистолярного поведения» не только человека, но и самого нарративного текста в разных его регулятивно-проекционных отражениях. Тем самым эпистолярный дискурс выкристаллизовывается в особую форму своеобразного «метазнания», циркуляция смыслов которого в разных текстовых частях и разных нарративах позволяет рассматривать само данное понятие в качестве определенной историософско-антропологической и метафизической практик, сводимых в философско-антропологический эпистолярно-экзистенциальный генетический феномен «человека во времени», который также может быть рассмотрен как текст повышенной сложности.
Природа философско-антропологической трансформации смыслов «рефлексионно-эпистолярного бытования» с уникально-голосовым авторским регистром, озвучившим на своем уровне основополагающие вопросы философского бытия, позволяет говорить о генезисе самого эпистолярного дискурса. Он высветил многослойность смысловых пластов-страт: письмо как язык; как слово; речь; знак; символ; жанр; «думанье рукой»; раритет-манускрипт; культурное наследие - в конечном итоге проявление божественного через земное, - чем прочертил ступени ментально-диалектического созревания самого эпистолярного дискурса. Ими, в частности, стали коммуникативная проявленность желания самовыразиться, невзирая на расстояние; собственно акт рукопнсання в качестве условия усвоения человеческого опыта как один из «трансмиссионных» способов его передачи; перформативный акт передачи информации. В XIX в. эпистолярная разновидность данного процесса приобрела черты особой ритуализации, вобрав в себя поведенческо-бытовые и экзистенциально-феноменологические институты, став особой дискурсивной практикой с ее магией «оживления» бумажного текста, метафоризацией эпистолярных образов, «высушиванием» в отдельных случаях эмоционально-психологического фона, а порой, напротив, «наращиванием» сценарного динамизма. Метафоризация и антропологизация эпистолярных образов, эпистолярное «экранирование» суточного времени, способы кодирования информации на эпистолярном уровне позволяют осуществить переход эпистолярия на уровень метаэпистолярия с его возможным взаимозамещением дискретных составляющих таких дефиниций, как «общественное сознание», «общественное мнение» и пр. Являя собой оригинальный дискурсивный синтез философско-антропологического, историко-лингвистического и психологического начал, эпистолярный дискурс очертил собственное «тело письма», смог отразиться как его «эпистолярное эхо», незримой «тенью» сопровождая путь человека в эпистолярно-историософское «воспоминание о будущем».
Автором проанализирована степень метафизического сопряжения-проявленности категориально-понятийного ряда «человек» - «личность» -«культура» - «время» - «эпистолярий как письмо» - «эпистолярный стиль» -«эпистолярный жанр» - «эпистолярная литература», синициировавшие превращение эпистолярного дискурса в генератор новых смыслов и систем «перераспределения» смыслового напряжения в тексте и в жизни. Установлено, что эпистолярно-жанровая универсализация, языковое совершенствование, перевод биографического контекста в метафизический подтекст превращают письма XIX в. в экзистенциально-генетический вариант эпистолярного творчества и философской рефлексии, оказавшегося способным становиться в России судьбой, особым предначертанием и даже роком их авторов.
Эпистолярное «оплавление» дискурсивной практики расширяет смысловые горизонты проявленности эпистолярно-ментальных образов, информационно-текстового, коммуникативно-смыслового, психолингвистического кодирования мысли, пластично «растворенной» в имманентной потребности человека к полноте бытия и расширяющей возможности самой реализации личности в философско-антропологической проекции эпистолярно-дискурсивной формы. Дискурсивный анализ позволил проследить особенность эпистолярной коммуникации не только поддерживать общение на расстоянии, но формировать и «оформлять» эпистолярную мысль, дисциплинируя мышление посредством постановки перед адресатами (в том числе, коллективными) задач на «понимание». Это послужило основанием для расширения практики малых рукописных форм и выработки специфично «русского» вида латентного эпистолярно-литературного «сотрудничествасообщничества» не только авторов-адресатов, но и писателей-читателей, содействуя формированию русского общественного сознания XIX в.
В рамках полифункциональной культурологической модели «эпистолярного поведения» XIX в. выяснены и прослежены оригинальные эпистолярно-рефлектирующие формы яркого присутствия личности в истории и культуре, в том числе на грани баланса между трагедией и гротеском, утопией и мифом, реальностью и иррациональностью, индивидуальным и массовым, уникально-единичным и растиражированным «коллективным бессознательным». Показано, что эпистолярный дискурс в данном случае выступает как онтологическая форма, вбирающая в себя как макросы, так и микросы парадигмального освоения мира, помогая человечеству взрослеть через «размышляющее общение». С другой стороны, он превращается в специфичный функционально-смысловой отражатель личности, ее идентификационно-временной код.
Установлено, что авторский голос как самореализующий себя в письме элемент саморепрезентации, воспроизводя, манифестируя, интерпретируя «открываемые им смыслы», способен становиться частью исторической и общефилософской культуры, разрушая тем самым искусственность присутствия человека в мире. Выдвинуто положение, что кроме жанрово присущих тексту черт коммуникативной презумпции - передачи «лежащей на поверхности» константной информации, авторский голос обладает специфической особенностью создавать смысловые «воронки». Они выводят на новые грани речевой деятельности человека, синтезирующие устную, письменную и внутреннюю (со скрытой артикуляцией-проговариванием речевых звуков-образов) речь и обнаруживающие новые интерпретационно-смысловые грани эпистолярно-дискурсивной проявленности человеческого «Я» с разведением «жизни сердца» и «жизни мысли». Но рассказывание жизни и ее проживание в эпистолярном дискурсе могут слиться настолько, что порой именно в письме человек творит свою настоящую судьбу талантливее и ярче, нежели в собственном экзистенциально «дубле», особенно в пенитенциарных условиях, не столько «сочиняя» письма, сколько «взаимозамещая-творя» собственную судьбу.
В диссертации вводится новое понятие - «эпистолярный интеракционизм», в рамках которого прослеживается действие механизма «эпистолярно-информационного онтогенеза» - специфичного информационного обмена между полюсами эпистемно-коммуникативной дуги (автор-адресат-исследователь) с возможным выявлением информационно-психологической совместимости корреспондентов и даже их «заражения», а также корреляционно-адаптивного ресурса самой переписки и возможности ее интерпретации без ущерба для смыслового ядра. Трансформация-сопряженность индивидуального и социального, уникального и универсального через эпистолярно-коммуникативный канал озвучивания современниками вопросов: о феномене личности и пределах её духовной свободы, цели и смысле бытия, цене жизни и смерти в России, месте российской истории и предназначении русского человека в ней, - стали органичной и неотъемлемой частью общекультурного процесса в целом, напрямую влияя на динамику исторических процессов и являясь, по существу, их индикатором и кодом.
Тревожный поиск экзистенциального смысла стал доминантой общественных настроений, «пропитавших» событийность удивительного столетия, которое, «расчистив» историческое пространство, сделало русскую душу восприимчивой к разного рода духовным исканиям. Формирование традиций рукописного творчества становилось зеркальным отражением той общей высокой книжной культуры XIX в., которая приучала людей мыслить «вторым зрением», с чем, собственно, и связано рождение русской философии того времени. По мере раскручивания машины российского деспотизма у эпистолярного дискурса стала проявляться и специфичная функциональная заданность - потребность найти не просто слушателя, а понимающего единомышленника, обретая тем самым определенную психологическую защиту и аргументационный способ ведения идейно-философских баталий и грандиозных сражений в «войне за прошлое». Именно письма, прошедшие свой
292 путь «созревания формы и духа», как одни из самых распространённых и не до конца изученных дискурсивных форм, позволяют приблизиться к пониманию личности той эпохи и самого времени. Впрочем, и природы самого уникального источника, нередко перераставшего собственные жанровые стандарты, превращаясь то в «credo», а то в «доказательство от противного». Поэтому вторая часть работы и стала полем для демонстрации режима существования эпистолярно-дискурсивной практики XIX в. через «эпистолярные судьбы» его современников.
Философско-эпистолярная» рефлексия их писем отразила некую запредельность существования каждого из индивидуумов, продемонстрировав невиданную ранее степень открытости и искренней доверительности разговора с адресатом, коим могло стать все общество; беспрецедентное латентное сотрудничество автора и читателя; уникальность сочетания исповеди с проповедью; «наслоения» плана эпистолярного содержания и плана его текстового выражения. Письма П.Я.Чаадаева и Н.В.Станкевича, М.М.Сперанского и Г.-Ф.Паррота, А.А.Аракчеева и В.А.Жуковского,, К.П.Победоносцева и М.С.Лунина, Н.В.Гоголя и Ф.М.Достоевского, асинхронно объединенные рамками одной работы, на самом деле являются во многом ключевыми в понимании глубины тех процессов, историософско-экзистенциальная динамика которых позволяет приблизиться нам, живущим в совершенно иных временных средах, к осознанию главного: История - это не берущий, а Дающий. Дающий тому, кто «имеющий глаза да увидит», «имеющий уши да услышит», т.е. стремится познать, помня мудрое предостережение Ю.М.Лотмана: «Знать историю и понимать ее - вещи разные».
Прикладная демонстрация-проявленность онтологических возможностей эпистолярного дискурса XIX в. реализована посредством нового методологического подхода - так называемой «ломаной асимметрии», «асинхронизации» как возможного эпистемологического «резерва-со-положенности» с использованием специфичного проекционно-асинхронного метода «контраст-диалога» со сведением в единую эпистолярно-дискурсивную ось историософских проекции писем «безумствующего философа» П.Я. Чаадаева и «интеллектуала-гуру» Н.В. Станкевича, реформатора М.М. Сперанского и консерватора-«охранителя» К.П. Победоносцева, декабриста-бунтовщика М.С. Лунина и писателя-моралиста русского Танатоса Н.В. Гоголя, академика-романтика Г.-Ф. Паррота и «придворного поэта» В. А. Жуковского.
Подобная эпистемологическая референтность позволяет достичь эпистолярно-акустического эффекта «живого» присутствия автора, речевую артикуляцию которого способен экспонировать эпистолярный дискурс посредством демонстрации своих возможностей на «испытательном стенде» предельного историософского смыслополагания, особенно в ситуациях, когда «у царей друзей не бывает». Прецедент диалога интеллигенции с властью в XIX в. - это, по существу, попытка открыть сознание последней, делая невозможное в тех исторических условиях и оказывая прямое воздействие на формирование национального менталитета и общественного сознания с последующей синхронизацией жанрово-стилистической эволюции самого дискурса через динамично-проявленную эпистолярно-личностную самость в сторону персонификации авторского голоса в условиях обвальной политизации внутренней жизни страны. Неизбежный реверс самодержавия, вернувший все на круги своя - закономерность русской истории. Но эпистолярные голоса тех, кто выдержал и не стал бледной тенью российского колосса, явились своего рода камертоном новой жизненной практики с ее «философическим пробуждением» и появлением нового человеческого типажа с его умением либо использовать власть, как А.А.Аракчеев, А.Х.Бенкендорф, К.П.Победоносцев, либо «держать удар» даже ценой собственного благополучия, как М.М.Сперанский, П.Я.Чаадаев, М.С.Лунин.
При всей непохожести эпистолярного поведения и судьбы, эти люди всегда имели свой взгляд на характер происходивших в стране исторических перемен, будучи не просто в их эпицентре, но становясь инициаторами, как, например, М.Сперанский, или, напротив, активно формируя консервативный щит на их пути, как К.П.Победоносцев. Эпистолярный эйдос М.М.Сперанского и
294 эпистолярное акмэ К.П.Победоносцева - это по сути два зеркально отраженных в эпистолярном дискурсе типа не просто государственных чиновников самого высокого ранга, но два отношения к власти, человеку и жизни в целом. Их эпистолярно-проекционные образы, по большому счету, программировали полярность модернизационных ликов России - либерального (не получившего своего разумного и научного развития) и консервативного (слившегося с понятием «столп реакции»).
Через способность философско-эпистолярных текстов как текстов культур отражать несанкционированный их авторами самопроизвольный спонтанный поведенческий стандарт, диагностируемый с помощью эпистолярного дискурса, раскрыты кредо и собственно методы научного постижения мира П.Я. Чаадаевым (своеобразный историософско-христианский синтез погружения человека в мудрость с принципиально новым концептуальным взглядом на мировой привиденциальный процесс и выходом на информационно-космический онтогенез); Н.В. Станкевичем (этико-проекционные параметры любви-действия с формулированием метода собственного экзистенциально-метафизического самораскрытия); М.С. Луниным (философско-генетическая концепция личности, сознания и свободы как явлений вселенского, космического порядка с расширением сферы личностной юрисдикции в историософии и мироощущении «дисциплинарного тела», открывающего транскреативные горизонты собственного бытия в условиях пенитенциарной системы и тем обретая крылья); Н.В. Гоголем (эпистолярно-дискурсивные уровни транспонирования «вечных» тем жизни, смерти и бессмертия в имманентно-дискретные формы разговора с Россией посредством эпистолярного дискурса напрямую о новом понимании писательского предназначения и долга).
Роль Лунина в истории XIX в. оказалась «недописанной», хотя сквозь проекционную ретроспективу эпистолярного дискурса в пенитенциарных условиях ему удалось стать распорядителем своей земной судьбы и духовности. «Русский Танатос» Гоголь, похоже, выполнил свою миссию до
295 конца, заглянув в него и увидев относительность границ между живой и мертвой душами. «Экзистенциально-рефлектирующий дубль» эпистолярной самоактуализации Н.В.Станкевича с его этико-проекционным подходом к оценке творческих резервов личности и формированию интеллектуального каркаса российской истории стал удивительным рывком личности в «завтра» с ее умением параллельно состояться «здесь и сейчас». «Функциональная метафизичность» забытой ныне переписки и самой личности Г.-Ф.Паррота ярко проявлена на уровне индивидуализации отношений с миром, познание которого начиналось для ученого с личной причастности «святых тайн» - природы самой власти и судьбы России, «проживания» собственной жизни с ощущением «приходящего»: его бытие оказалось информационно насыщенно, и, ожидая нового, оно было способно принимать его. Тем самым Паррот выступил в роли того «приходящего», который открыт для диалога в любой системе (в том числе такой закрытой, как русский абсолютизм), подтверждая подлинность эпистолярной проявленности своего «Я» и гармоническую идентичность личности настолько, что власть в очередной раз «закрылась» от него, даже на уровне письма.
Без осмысления уникального эпистолярно-духовного наследия этих мыслителей панорама эволюции самосознания русского общества XIX в. будет явно неполной. Смысловая эпистолярно-дискурсивная многомерность-голограмма позволяет проследить процесс демонстрации «предустановленной гармонии» через превращение эпистолярного нарратива в философский текст и «онтологическое оформление» эпистолярного дискурса в целом, где присутствуют интерпретационные акты. А это - всегда выход за пределы эпистолярного текста как непосредственной данности, в рамках которой человек остается при обыденном осмыслении высказывания и текста. Интерпретируя «чужой» текст, мы неизбежно создаем «свой», «творя» некий смысл, который позволяет порой эпистолярному дискурсу пережить акт своего собственного Возрождения. В диссертации показано, что процесс создания «текстосмыслов» предполагает и определенное «дирижирование» потоками сознания - не только авторского, но и интерпретационного, создавая дополнительные информационно-категориальные планы и реминисценции, параллельно меняя природу самого интерпретатора, поднимая его на новую эволюционно-исследовательскую ступень развития. Тем самым эпистолярный дискурс оказался органично вписан в неожиданный смысловой горизонт, обнаруживая способность к персонификации времени через озвучивание ее авторскими голосами, словно в укор нам, сегодняшним. Письма, по словам Рейна Карасти, «средства связи в гигантском и прекрасном значении этого слова». «Они - не литература, а адресаты давно их прочли. Главное, что они у нас есть. Или мы у них»1. И хотя Заключение - это время подведения итогов, в нашем случае они носят предварительный характер, т.к. диссертация открывает разговор на заданную тему. Полагаем, что предложенная проблематика нуждается в продолжении исследования природы эпистолярного дискурса в целом и XIX века, в частности, с позиций его историософско-психолингвистической диагностики, изучения креативно-содержательной компоненты с выявлением степени кодирования-искажения личности автора в самом письменном тексте и в ответных посланиях адресатов в соотнесении с историческим контекстом эпохи и устоявшимися характеристиками живых образов «носителей истории». И это - новый ракурс исследования перспективных реверсионных возможностей эпистолярно-дискурсивной практики и неожиданных граней непознанного в ее метафизической проекции, сводимых в философско-антропологический эпистолярно-экзистенциальный генетический феномен «человека пишущего во времени» и адресующего письмо времени иному - времени интерпретации с его стремлением понять и принять состоявшееся как великий шанс узнать нечто новое и о себе самом, пытаясь грамотно постичь суть течения «реки времен».
1 Рейн Карасти. Письма заложникам / Рейн Карасти //Звезда.2002. № 1. С. 232.
Список научной литературыСапожникова, Наталия Васильевна, диссертация по теме "Философия и история религии, философская антропология, философия культуры"
1. НРЛН (ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПУШКИНСКИЙ ДОМ:1. ПД)
2. Ф.368 (М.С.Лунин).Оп.1.Д. 1;2;5;6;8;10; 16;18; 19;20.
3. Ф. 57 (С.Г. и М.Н.Волконские). Оп1.Д.ИО; 353;358; Оп.2.Д.123.
4. Ф. 652 (Н.В.Гоголь).Оп.2. Д.11; 28; 33;38; 55; 56;91;491;101 ;107;109;134; Ф. 652.3089.0п.2.Д.Ю9.1. Ф. 19.013 /CXXVII61. Д.1.
5. Ф.265 (Русская Старина).Оп.1.Д.2;Ю;38;66;
6. Оп.2.Д.Ю;56;64;68;72;73;81;122;132;153;351;2644;2646;2647.
7. Ф.339 (Д.Н.Бантыш-Каменский).Д. 1 ;9028;.
8. Ф.18 (П.И.Бартенев).Д. 18; Ф.21.220/СХЬУ1б.З.Д.1.1. Ф.3170.XIIC. 108.Д.1.
9. Ф.623 (Ф.В.Булгарин).Оп1.Д.З.
10. Ф.Р1.0п.5.Д.114;115;116;117;118; Оп.24.Д.11; Оп.25.Д.114-118. Ф. РШ.Оп1.Д.1938.
11. Ф.93 (Собрание П.Я.Дашкова).Оп.З.Д.1367;1369. Ф.61 (Василий Назарович Карамзин).Д.28. Ф.187 (Собрание Л.Б.Модзалевского).Д.60. Ф.604 (архив Бестужевых).Д.12.
12. РГИА ( РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ1. АРХИВ)
13. Ф.1584 (Дела VIII Департамента Сената, Министерстваюстиции и журналы Комитета министров о рассмотрении ипризнании недействительным завещание1. М.С.Лунина).Оп.З.Д.612.1. Ф. 1405. Оп.24. Д. 1544.1. Ф. 1263.0п.1.Д.503.1. Ф. 1280.0п.1.Д.6.
14. ОР РНБ (ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ1. БИБЛИОТЕКИ)
15. Ф.760 (Н.С.Таганцев).Д.386. Ф.423 (А.И.Лбовский).Д. 1565; Ф.777 (П.Н.Тиханов) Д.2813.Л.1, 5об; Оп.1.Д.3272. Ф.1004 (М.Е.Ковалевский).Д.32.
16. Ф.731 (М.М.Сперанский).Д.2185; Пост. 1966.49 Присоед. к Ф.731. Д.1836.
17. Ф.847 (Н.В.Шаховской). Ф.874. Оп.1.Д.16.; 25; 148;155. Ф.679 (П.И.Свиньин). Д. 131. Ф.246 (И.Я.Депман).Д.71;73. Ф.114 (В.П.Бурнашев). Д. 1. Ф.354 (Д.Ф.Кобеко).Д.99.2. ОПУБЛИКОВАННЫЕ
18. Александр III. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2001. 400 с.
19. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина: В 2-х кн./ П.В.Анненков.- М.: Современник, 1984.- 475 с.
20. Анненков П.В.Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография /П.В.Анненков.- М.: Тип. Каткова и К., 1857.252 с.
21. Аксаков Иван Сергеевич в его письмах. М.-Пб: Б/и., 1888.- 357 с.
22. Бакунин М.А. Избранные философские произведения и письма / М.А.Бакунин.- М.: Мысль, 1987. 374 с.
23. Белинский В.Г. Полн.собр.соч.: В 13-ти т. / В.Г.Белинский.- М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 10. 377 с.
24. Богданович А. Три последних самодержца / А.Богданович. М.: Новости, 1990.- 608 с.
25. Брюсов Валерий. Дневники, Письма. Автобиографическая проза. / В.Брюсов.- М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2002,- 415 с.
26. Булгаков С.Н. Соч.: В 2-х т. / С.Н.Булгаков.- М.: Наука, 1993.Т.2.-375 с.
27. Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 1849-1911 / С.Ю.Витте.-М.: Мысль,1991. 718 с.
28. Вяземский П.А. Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки / П.А.Вяземский. М.: Изд-во «Правда», 1988.- 480 с.
29. Записки очевидца: Воспоминания, дневники, письма. М.: Современник, 1990,- 719 с.
30. Гоголь Н.В. Собр.соч.: В 14-ти т./ Н.В.Гоголь.-М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т.6.-390 с.
31. Гоголь Н.В. Собр.соч: В 7-ми т./ Н.В.Гоголь.-М.: Художественная литература, 1986.Т.7.- 431 с.
32. Греч Н.И. Записки о моей жизни / Н.И.Греч.- М.: Книга, 1990.396 с.
33. Достоевский Ф.М., А.Г.Достоевская. Переписка / Ф.М.Достоевский, А.Г.Достоевская М.: Наука, 1979,- 314 с.
34. Дружеские письма гр. М.М. Сперанского к Массальскому П.Г., писанные с 1798 по 1819 гг. с историческими пояснениями, составленными К. Массальским и некоторыми сочинениями первой молодости графа М.М. Сперанского. СПб.: Б/и., 1862.- 144 с. с 16 с. прил.
35. Декабрист М.С.Лунин. Сочинения и письма (ред. и прил.С.Я.Штрайха). Труды Пушкинского Дома при Российской академии Наук. Петербург, 1923.- 131 с.
36. Декабристы. Библиографический справочник. Под ред. М.В.Нечкиной. М.: Наука, 1988,- 447 с.
37. Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М.- Пг.: Б/и., 1926.- 306 с.
38. Дашкова Е.Р. Записки. Письма сестер М. и К.Вильмот из России / Е.Р.Дашкова. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987.- 493 с.
39. Дмитриев С.С. Хрестоматия по истории СССР / С.С.Дмитриев.-М.: Учпедгиз, 1948. Т.З.- 792 с.
40. Жуковский В.А. Соч. / В.А.Жуковский. СПб.: Б/и., 1878. - 416 с.
41. Иларион. Слово о законе и благодати / Иларион // Златоструй (Древняя Русь X XIII вв.) - М.: ПИФ Столица, 1990. -512 с.
42. Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. Новосибирск: Наука, 1986.- 311 с.
43. Из русской думы: В 2-х тт. М.: Роман-газета, 1995. Т.1-255 е.; Т.2-256 с.
44. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: В 3-х т. М.: Политиздат, 1951. Т.З. -215 с.
45. Историческая переписка о судьбах православной церкви. М.: Б/и., 1912.-415 с.
46. Керн А. Воспоминания о Пушкине / А.Керн. М.: Советская Россия, 1988.- 415 с.
47. Ковалевская C.B. Воспоминания и письма / С.В.Ковалевская.-М.: Наука, 1961.-286 с.
48. Котляревский И. Гоголь Н.В. Очерк из истории русской повести и драмы / И.Котляревский.- (СПб), Пг.: Тип. Имп.АН., 1915. -167 с.
49. Кропоткин П. Записки революционера / П.Кропоткин.- М.: Мысль, 1990.- 527 с.
50. К.Р. Избранная переписка. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин»,1999.-528 с.
51. Ключевский В.О. Собр.соч.: В 9-ти т. / В.О.Ключевский. М., 1989. Т.9.-430 с.
52. Леонтьев К.Н. Избранные письма. 1854-1891 / К.Н.Леонтьев. -М.: Тесса, 1993.- 466 с.
53. Лунин М.С. Письма из Сибири / М.С.Лунин. М.: Наука,1987. 492 с.
54. Лунин М.С.Сочинения, письма, документы / М.С.Лунин. -Иркутск: Иркутское кн.изд-во, 1988.- 567 с.
55. Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия / де Кюстин Маркиз-М.: «Терра»-«Терра»,1990. 286 с.
56. Мемуары декабристов. Северное общество. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1981.- 399 с.
57. Мемуары декабристов. М.: Изд-во «Правда», 1988. 576 с.
58. Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.-Л.: Центрархив ГНЗ, 1925.-256 с.
59. Николай Первый и его время. Документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства современников и труды историков. /Сост., вступ.ст. и коммент.Б.Тарасова. М.: ОЛМА-ПРЕСС,2000.-448 с.
60. Одоевский В.Ф. Русские ночи: роман / В.Ф.Одоевский.- Л.: Наука, 1975.-496 с.
61. Переписка Н.В.Гоголя: В 2-х т. М.: Художественная литература, 1988. -320 с.
62. Переписка . Л.Н.Толстого с сестрой и братьями. М.: Художественная литература, 1990. 542 с.
63. Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. 1957 1861. М.: Терра, 1994. -384 с.
64. Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне (в замужестве Фроловой-Багреевой). М.: Тип. Грачева и К., 1869.-253 с.
65. Письма графа М.М.Сперанского к Х.Лазареву. СПб.'.Типография В.А.Рогальского и К.,1864.- 100 с.
66. Письма к Вольтеру. Л.: Наука, 1970.- 440 с.
67. Письма художников П.М.Третьякову. М.: Искусство, 1960.-457 с.
68. Победоносцев К.П. и его корреспонденты. Письма и записки. М.-Петроград: Госиздат, 1923. T.I. Novum regnum. Полутом 2-Й.-1145 с.
69. Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени /К.Победоносцев М.: Русская книга, 1993. - 637 с.
70. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Вотчинные права. 2-е изд. / К.П.Победоносцев.- СПб., 1873. Т.1. 217 с.
71. К.П.Победоносцев. Тайный правитель России: К.П.Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. 1866-1895. Статьи. Очерки. Воспоминания. М.: Русская книга, 2001.- 624 с.
72. Победоносцев К.П. Сочинения. / К.П.Победоносцев. СПб.: Наука, 1996. - 507 с.
73. Пушкин A.C. Полн.собр.соч.: В 16-ти т. / А.С.Пушкин.- M.-JI.: Изд-во АН СССР, 1949.Т.16. 370 с.
74. Пушкин A.C. Письма к жене / А.С.Пушкин.- JI.: «Наука», Ленинградское отд-е, 1986. 263 с.
75. Пушкин A.C. Письма последних лет. 1834-1837 / А.С.Пушкин. -Л.: «Наука», Ленингр.отд., 1969. 440 с.
76. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба с портретами его современников. СПб.: ТОО «Афина», 1993-318 с.
77. Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма /И.И.Пущин. М.: Изд-во «Правда», 1989. - 576 с.
78. Радищев А.Н. Избранные философские и общественно-политические произведения / А.Н.Радищев.- М.: Политиздат. 1952. -312 с.
79. Река времен. Государь. Государство. Государственная служба. Год первый. Кн.1. М.: Эллис лак, 1995.- 286 с. Кн.2 223 с.
80. Рукописные памятники. Вып.1. Публикации и исследования. СПб.: изд-во Российской национальной библиотеки, 1996.-245 с.
81. Русская старина. Литературно-исторический альманах. Вып.1. М., 1990. 236; Вып.2. М.: Профиздат, товарищество «Возрождение», 1992.- 240 с.
82. Русские мемуары. 1800-1825. М.: Изд-во «Правда», 1989. 624 с.
83. Русская философия права: Антология. СПб.: Алетейя, 1999-423 с.
84. Сочинения князя Курбского. СПб.: Б/и, 1914. Т. 1. 516 с.
85. Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Его Императорского Величества Канцелярии. 1876-1917. СПб.: Б/и., 1917. Т.1-5.-513 с.
86. Станкевич Н.В. Избранное / Н.В.Станкевич.- М.: Советская Россия, 1982. 256 с.
87. Степняк-Кравчинский С. Подпольная Россия / С.Степняк-Кравчинский. М.: Политиздат, 1971. -221 с.
88. Судьба России: взгляд русских мыслителей. М.: Луч,1993.-316 с.
89. Тарасенков В.А. Последние дни жизни Н.В.Гоголя / В.А.Тарасенков -. СПб.: Б/и., 1857.- 225 с.
90. Талейран. Мемуары /Талейран Екатеринбург: Изд-во УрГУД997.-416 с.
91. Фигнер В. Запечатленный труд. Воспоминания: В 2-х т. / В.Фигнер.- М.: Госизд-во, 1931. Т.1. -417 с.
92. Хрестоматия по истории СССР (1682-1856). 2-е изд. М.: Гос.учебно-педагогическое изд-во РСФСР, 1949. Т.2.- 958 с.
93. Чаадаев П.Я. Избранные произведения и письма / П.Я.Чаадаев.- М.: Мысль, 1991. 519 с.
94. П.Я.Чаадаев: pro et contra. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1998. 877 с.
95. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение / Л.А.Черейский.- Л.: «Наука», ленинградское отд-е, 1976. 544 с.
96. Чернышевский Н.Г. Полн.собр.соч: В 2-х тт. / Н.Г.Чернышевский. М., 1911. Т.2. - 516 с.
97. Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя / В.И.Шенрок.-СПб.: Тип.Мамонтова и К., 1892. Т.1. 385 е.; 1893. Т.2.-403 е.; 1894.
98. ЖУРНАЛЫ ПУБЛИКАТОРЫ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ XIXв.1. Былое 1924. №25.
99. Вестник Европы 1889. Кн. 11.
100. Исторический вестник Москвитянин Русский архив1. Русская старина
101. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
102. Ахманова О.С.Словарь лингвистических терминов.
103. О.С.Ахманова. М.: Русская литература, 1966. - 607 с.
104. Большой словарь русского языка. СПб.: «Советская энциклопедия», 2000. 2010 с.
105. Большая Советская энциклопедия. 3-е изд.М.: «Советская энциклопедия», 1978. Т. 30. 715 с.
106. Брокгауз Ф.А. (Лейпциг), Ефрон И.А.(СПб.) Энциклопедический словарь: В 82-х т. / Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.- СПб.: Типография Ефрона, Прачешный пер., 6,1897. T.XXII. 960 с.
107. Даль Вл. Толковый словарь / Вл.Даль. СПб.: «Университетский проект», 2000. - 1520 с.
108. Даль Вл. Большой толковый словарь / Вл.Даль. М.: «Советская энциклопедия», 1983.Т.21. -926 с.
109. Лингвистический энциклопедический словарь (Гл.ред В.Н.Ярцева). М.: «Советская энциклопедия», 1990. 685 с.
110. Мир русской культуры. Энциклопедический справочник (Энциклопедии. Справочники. Неумирающие книги). М.: Вече, 1997. 624 с.
111. Немцы в России: Энциклопедия. М.: ЭРИ, 1999. Т.1. 832 с.
112. Россия. Энциклопедический словарь, начатыйпроф.И.Е.Андреевским, продолжается под ред.К.К.Андреева и засл.проф.Ф.Ф.Петрушевскаго. Л.: Лениздат, 1991 (переиздание). 574 с.
113. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995.-615 с.
114. Советский энциклопедический словарь / Гл.ред.
115. А.М.Прохоров/. М.: Сов. Энциклопедия, 1985. - 1600 с.4. ЛИТЕРАТУРА
116. Августин А. О Граде Божьем. / А.Августин // Творения Блаженного Августина Епископа Гиппонийского: В 8 ч. -Киев, 1901-1915. Ч.З- 6. Кн. 1-22. 566 с.
117. Августин А. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонийского /Августин,- М.: Ренессанс, 1991. 470 с.
118. Агапов О.Д. Метод интерпретации в историческом познании. Автореф. дис. .канд. философ, наук / О.Д.Агапов О.Д. Казань, 2000. 26 с.
119. Адлер А. Наука жить /А.Адлер. Киев: Port - Royal, 1997. -288 с.
120. ACTIO NOVA 2000. Сб. статей. M.: Глобус, 2000. 542 с.
121. Юбилейное издание философского андеграунда /
122. Нейхоф// Звезда. 2002. №2. С. 117 129.4295. Немцы в России. Русско-немецкий диалог. СПб.: Изд-во