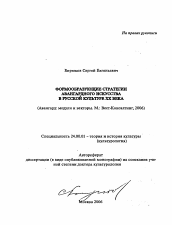автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01
диссертация на тему: Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре XX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре XX века"
На правах рукописи
Бирюков Сергей Евгеньевич
ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ АВАНГАРДНОГО ИСКУССТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА
(Авангард: модули и векторы. М.: Вест-Консалтинг, 2006)
Специальность 24.00.01 - теория и история культуры
(культурология)
Автореферат
диссертации (в виде опубликованной монографии) на соискание ученой степени доктора культурологии
Работа выполнена в секторе «Языки культур» Российского института культурологии
Научный консультант:
доктор философских наук, профессор Рабинович Вадим Львович
Официальные оппоненты:
доктор искусствоведения, профессор Гервер Лариса Львовна доктор философских наук, профессор Кантор Владимир Карлович доктор филологических наук, профессор Фатеева Наталья Александровна
Ведущая организация:
Российский государственный гуманитарный университет
Защита состоится 13 ноября 2006 г. в 17.00 часов на заседании диссертационного совета Д 210.015.01 в Российском институте культурологии по адресу: 119072, Москва, Берсеневская наб., 20.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского института культурологии.
Отзывы на автореферат можно присылать по адресу: 119072, Москва, Берсеневская набережная, д.18-20-22, стр.3.•
Автореферат разослан «
006 г.
Ученый секретарь ^——
диссертационного совета,
кандидат философских наук В.О. Чистякова
На основе многолетних соприкосновений с авангардными текстами мы приходим к определению авангарда как стилевого течения XX века, как системы напряженного авторского взаимоотношения с языком. Собственно речь идет об активном формостроительстве. Авангард оказал сильное влияние на русскую культуру в различных аспектах, и, прежде всего, в аспекте формообразования. Это касается как локальных моментов, так и общеструктурных.
Авторское Я в авангарде в наибольшей степени, чем когда бы то ни было, взаимодействует с языком (множеством знаковых систем) и в то же время авангард исходит из телесной природы носителя языка. В авангарде авторская природа подчеркнуто динамична. Именно поэтому здесь открывается и выдвигается на первый план значимость элементов, а также проявляется особый интерес к перемещению элементов внутри художественного текста (любого: литературного, изобразительного, музыкального, сценического). Таким образом, авангард можно определить как динамический процесс, который открывшись, не может завершиться, а может только совершенствоваться в своей динамике. Разумеется, любое крупное стилевое течение не исчерпывается до конца. Наиболее яркий пример -романтизм. Хотя, надо сказать, что это течение является в большей степени психологическим, чем стилистическим. Но авангарду удалось вобрать в себя наибольшее количество художественных и внехудожественных параметров. Именно авангардное искусство упрямо пересекает границы «художественного». И поскольку динамический процесс открыт, то вполне естественно, что идет его освоение. При этом открытие может быть вовсе и не названо. Так, сами авангардные авторы не именовали себя авангардистами и не всегда успевали отрефлексировать свои находки. Это касается не только первых волн авангарда - начала века, но даже и самой последней волны.
Авангардный процесс в XX веке затронул многие страны, но в разной степени. В СССР этот процесс был искусственно остановлен. Здесь выход на поверхность был долгие годы невозможен ни теоретически, ни практически (в сталинское время) или предельно затруднен (в хрущевские и брежневские годы). Подпольное существование искусства имеет, конечно, свои прелести. Например, независимость от диктата властных, идеологических, экономических структур, а также независимость от вкусов публики. Однако в случае с авангардным искусством такое существование почти невозможно. Дело в том, что авангардное произведение включает в себя сильный провокативный элемент - именно как элемент искусства, а не просто по расхожему определению, что каждый художник нуждается в отклике. Мы говорим «почти невозможно», потому что тем не менее авангардная линия в русской поэзии все-таки продолжалась и вдали от публики.
В последнее десятилетие XX века эта линия проявилась, хотя некоторая пунктирность все еще остается. Тем не менее, благодаря нескольким конференциям, прошедшим в России и за рубежом, выходу ряда коллективных и индивидуальных монографий, а также - и главное - публикации и републикации текстов самих авангардистов, общая картина начинает проясняться. Прежде всего, здесь надо отметить публикацию на родине трудов патриарха отечественного авангардоведения Н.И.Харджиева, новаторских работ о Велимире Хлебникове Р.ВДуганова и В.П.Григорьева, а также выход антологии «Мир Велимира Хлебникова» и работ В.Турчина, Д.Сарабьянова, АЛкимовича, посвященных изобразительному авангарду. В последние годы появились также новые работы ЕАрензона, Е.Бобрин-ской, А.Бубнова, И.Васильева, Л.Гервер, Л.Зубовой, И.Иванюшиной, Л.Кациса, А.Кобринского, А.Крусанова, И.Лощилова, М.Мейлаха, А.Ни-
юггаева, Т.Никольской, А.Парниса, Н.Перцовой, Н.Перцова, И.Сахно, С.Сигова, С.Старкиной, В.Терехиной, Е.Тырышкиной, Б.Шифрина, затрагивающие различные аспекты литературного авангарда, в ряде случаев на сопоставлении с визуальными искусствами (Бобринская, Сахно). И. Васильев в своей книге «Русский поэтический авангард XX века» предпринял интересную попытку описания авангардных явлений в поэзии второй половины XX века. Особо следует сказать о теоретических посылах, выдвинутых в работах Н.Фатеевой, К.Кедрова, Вл.Новикова, Ю.Орлицкого, В.Рабиновича, И.Смирнова, Ю.Степанова, М. Шапира. Мы учитываем также работы ряда молодых исследователей - Ю.Валеевой, Н.Сироткина, В.Фещенко, Т.Цвигун, А.Чернякова, И.Кукуя, Ф.Кувшинова.
Важную роль в исследовании русского авангарда играют труды зарубежных ученых. Это работы Н.Башмаковой, Х.Барана, В.Вестстейна, Г.Витте, Р.Вроона, Р.Гейро, Т.Гланца, Ш.Греве, М.Грыгара, Р.Грюбеля, Х.Гюнтера, Ж.-Ф.Жаккара, К.Ичин, М.Йовановича, Ж.-К.Ланна, Б.Ленн-квист, Л.Магоротто, М.Марцадури, Э.Метца, Т.Назаренко, Д.Ораич Толич, Л.Силард, К-Соливетти, Е.Фарыно, А.Флакера, Л.Флейшмана, А.Хансен-Леве, Х.Шмидт, ДжЛнечека. Между тем, остается, во-первых, немало белых пятен в общем знании об авторах и текстах, во-вторых, в описании и проработке целого ряда авангардных идей (начала, середины и конца XX века). Наконец, только сейчас вдет выработка таких подходов к авангарду, которые бы охватывали авангардную парадигму в междесциплинар-ном плане, в общекультурной перспективе. Монография, которая выносится на защиту, как раз находятся в этом русле.
Актуальность избранной темы мотивируется проблематичным и пока еще недостаточно проясненным положением стилевого течения, которым является авангард, его интенций и стратегий, особенно в области
формообразования, а также необходимостью соотнесения раннего «исторического» авангарда с новым, получившим развитие во второй половине века. Такое соотнесение через описание проективных теорий авангарда предпринимается автором работы впервые и находится на острие дискуссий о современном искусстве.
Цепи и задачи исследования
В нашем исследовании авангардное движение предстает в нескольких аспектах. Эти аспекты таковы.
1. Представление авангарда как единого движения. Выявление общих черт по ассоциативному принципу и выявление индивидуальных особенностей по принципу дополнительности.
2. Описание некоторых теоретических проектов русского авангарда в области формообразования, которые по тем или иным причинам не могли быть в полной мере осуществлены на практике, но используются в наше время. В частности, впервые описываются музыкально-поэтические теории, рассматриваются теоретические предпосылки и практика комбинаторной поэзии, а также проблемы выявления телесности в языке авангардной поэзии, различных поведенческих форм.
3. Прослеживание закономерностей в использовании различных форм поэзии, в том числе - переосмысление устоявшихся строгих форм, взаимодействие искусств в границах одного поэтического произведения. Культурологический смысл этих явлений.
4. Представление современных авангардных тенденций, наиболее ярко выраженных в творчестве Георгия Спешнева, Владимира Казакова, Дмитрия Лвалиани, Генриха Сапгира, Геннадия Айги, Анны Альчук, Александра Бабулевича, Ларисы Березовчук, Елены Кацюбы, Константи-
на Кедрова, Елизаветы Мнацакановой, Ры Никоновой, Александра Очере-тянского, Сергея Сигея, Александра Федулова, Валерия Шерстяного и некоторых других авторов.
Новизна исследования.
В работе предложен ряд новых подходов к анализу авангардных произведений. Введены в научный оборот произведения авторов, которые дотоле не попадали в поле зрения исследователей. В научный оборот введены также теоретические работы ранних и поздних авангардистов: Б.Куш-нера, Божидара, Л.Сабанеева. Ф.Платова, М.Малишевского, А.Квятков-ского. На междисциплинарной основе выработан комплексный метод анализа различных сложных авангардных построений, прежде всего музыкально-поэтических теорий. Установлена прямая зависимость разных этапов авангарда от символизма до сегодняшних дней, при этом показаны пути взаимодействия авторов в синхроническом и диахроническом планах.
Так, предложена оригинальная трактовка взаимодействия авторов внутри и вокруг футуристических групп. Рассмотрены общекультурные инварианты футуристических проектов. Впервые показана прямая связь современного авангарда с историческим, проведены исследования текстов на макро- и микро-уровнях. Выявлены ориентиры преемственности на примере творчества авторов 50-х-90-х годов: Г.Спешнева, Вл.Казакова, НЛадыги-на, Г.Сапгира, И.Холина, Д.Авалиани, Е.Мнацакановой, ПАйги, Ры Никоновой, С.Сигея, В.Шерстяного, Е.Кацюбы, К.Кедрова, А-Альчук и др.
Теоретическая значимость работы предстает в нескольких планах.
Во-первых, в плане построения модели авангардного движения и выработки общей теории авангарда. .. .
Во-вторых, в плане представления, развития и актуализации авангардных теоретических интенций, а также выявления их значимости в современном культурном процессе.
В-третьих, здесь вырабатываются модели реальных и возможных стратегий формообразующих инновационных движений в культуре, их практического функционирования.
При этом учитываются как диахронный, так и синхронный планы в их релевантных и нерелевантных позициях. Особое внимание обращается на теоретизирование практиков авангарда, выработку новых форм и методов теоретических построений. Наряду с этим построена модель приоритетов в использовании различных приемов и форм. Авангард представлен как постоянно меняющаяся сумма технологий искусства.
Практическая значимость исследования.
Полученные нами результаты используются в учебных курсах как автором исследования, так и другими учеными и педагогами в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Астрахани, Тамбова, Курска, Белграда, Быдгощи (Польша), Бохума, Галле (Германия), Лексингтона (США), Амстердама, Праги, Хельсинки и др.
Ряд иследователей русской литературы и культуры опирались на наши работы при подготовке магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Например, A.B.Бубнов, при подготовке кандидатской и докторской диссертаций по языку русского палиндрома, немецкая исследовательница Х.Шмидт при подготовке докторской диссертации, посвященной интермедиальности в русской поэзии, немецкий исследователь Б.За-мес, при подготовке диссертации о современной заумной поэзии (результаты суммированы в книге: Linie der Avantgarde in Russland. Transrationale Dichtkunst in der Akademija Zaumi. Hamburg, 2004), японский ученый
Акифуми Такеда, также при подготовке диссертационного сочинения. Чешские исследователи Томаш Гланц и Яна Кленьхова при подготовке «Lexikon'a ruskych avantgard» (Прага, 2005).
Результаты исследования используются также при подготовке собраний сочинений В.Хлебникова, А.Крученых, И.Зданевича и других авангардных авторов.
Результаты теоретических наработок нашли отражение в подготовленном нами специальном выпуске международного славистского журнала «Russian Literature», посвященном современному русскому авангарду (Амстердам, 2005).
На основе наших исследований нами написаны статьи для Школьного Пушкинского энциклопедического словаря (М.: Просвящение, 1999).
Ряд результатов данного исследования использован нами при чтении курса «Авангардная парадигма в русской культуре» в Тамбовском государственном университете, курса «Авангардные технологии» в Московском университете Натальи Нестеровой, курсов «Теория и практика русского авангарда», «Элитарное и массовое в русской культуре 20 века», «Языковые интервенции в русской литературе, философии и культуре 20 века» в университете им. Мартина Лютера (Галле, Германия), а также при чтении спецкурсов и лекций в университетах Астрахани, Санкт-Петербурга, Твери, Самары, Ростова-на-Дону, Бохума, Билефельда, Мюнстера, Хельсинки.
Методологически данная работа строится таким образом, чтобы максимально соответствовать объекту исследования. Ближайшие методологические ориентиры -
пионерские работы об авангарде В.Шкловского, Ю.Тынянова, Р.Якобсона, Н.Харджиева, Ю.Лотмана, Р.Дуганова, В.Григорьева, Ю.Степанова,
В.Топорова. Главное, что объединяет этих очень разных авторов - это максимальное вживание в объект исследования, стремление к представлению «объекта» не со стороны, а в значительной степени изнутри.
При обращении к авангардным текстам и самим фигурам авангардистов мы не могли не учитывать такие важные составляющие их творчества как транскультурность, симультанность, алеаторический и интеллектуальный монтаж, фрагментарность как прием, использование «наукообразных литературных жанров» или иначе -«конспективных теорий».
Здесь нам особенно важны были теоретические разработки В.Хлебникова, В.Маяковского, А.Крученых, И.Терентьева, К.Малевича, А.Н.Чичерина, А.Туфанова, А.Квятковского, М.Малишевского.
Более того, именно учет особенностей теоретизирования самих авангардистов позволяет, на наш взгляд, приблизиться к сущности их поиска и обретений, а также и неизбежных потерь.
Пушкинский завет - судить художника по законам, им самим созданным,- актуален и для новейшего времени.
В данном случае сам материал диктовал нам необходимость фрагментарности и монтажности, перехода дисциплинарных границ, использование принципа конспективности и эссеистичности, а в случае с нынешними авторами - жанра интервью.
Материалом исследования служат произведения В.Хлебникова, Е.Гу-ро, В.Маяковского, П.Филонова, А.Крученых, К.Малевича, МЛарионова, Н.Гончаровой, В.Каменского, Д.Бурлюка, В.Кандинского, Б.Лившица, И.Северянина, И.Игнатьева, В.Гнедова, Божидара, Неола Рубина, В.Шер-шеневича, Б.Пастернака, С.Боброва, С.Есенина, И.Терентьева, И.Зданеви-ча, А.Туфанова, А.Н.Чичерина, А.Квятковского, И.Сельвинского, С.Кирсанова, А.Введенского, Д. Хармса, Н.Заболоцкого, Г.Спешнева, Вл.Казако-
и
ва, Г.Сапгира, И.Холина, Д.Авалиани, Н.Ладыгина, Е.Мнацакановой, ГАйги, Ры Никоновой, А.Очеретянского, С.Сигея, В.Шерстяного, К.Кедрова, Е.Кацюбы, А.Альчук, А.Федулова, А.Горнона, Вл.Эрля и ряда других авангардных авторов. Наряду с этим в работе используются философские труды, мемуарные источники, прижизненные публикации, редкие книги, в том числе авторской работы, сделанные в единичных экземплярах, каталоги выставок, архивные материалы. В частности, впервые дается описание диссертации М.Малишевского, по материалам, обнаруженным нами в РГАЛИ. Ряд материалов по современному авангарду был обследован нами в Бременском архиве восточноевропейской истории и культуры. Были использованы также личные архивы современных авторов.
Апробация.
Основные положения работы были представлены в ввде докладов на ряде российских и зарубежных международных конференций, в том числе: международные Хлебниковские чтения (Астрахань, 1985 - 2000гг); Хлебниковские чтения (Ленинград, Музей А.Ахматовой, 1990); международная конференция «Поэтика русского авангарда» (Тамбов, 1993); серия международных междисциплинарных конференций «Слово» (Тамбов, 1993-1998); международная Хлебниковская конференция (Москва, ИМЛИ РАН, 1995); международная конференция, посвященная творчеству С.Есенина (Варшава, Польская Академия наук, 1995); международная конференция «Постсимволизм как явление культуры» (Москва, РГГУ, 1995); конференция «Визуальность в поэзии» (Москва, Музей В.Сидура, 1995); международный симпозиум «Елена Гуро и проблемы органического искусства» (Хельсинки-Йонсоу, 1996); международный симпозиум 100 лет Р.О.Якобсону (Москва, РГГУ, Институт славяноведения и балканистики РАН, 1996); международная конференция по современной эксперимен-
тальной поэзии (Канада, Университет Альберта, 1997); международная конференция «Журналистика в переходный период» (Москва, МГУ, 1997); международная конференция «Другое в русской литературе и искусстве» (Эрфурт, Германия, 1999); Kurperzeichen-zeichenkurper. Zu einer Physiologie der russischen und sowjetischen Kultur des 20. Jahrhudrterts. (Bochum, 2000); Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik. 5. Internationalen Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavisten-komitee. (Wittenberg, 20.-25. September 2001); международная конференция «Литературатурное произведение как литературное произведение» (Быд-гощ, Польша, 2001); международная Хлебниковская конференция (Амстердам, 2002); международная конференция «Поэтический язык рубежа 20-21 веков и современные литературные стратегии» (Москва, ИРЯз РАН,
2003); международная конференция «Философия Н.Ф.Федорова и русский космизм» (Белград, 2003); международный коллоквиум «Русская поэзия в мировом контексте» (Франкфурт на Майне, 2003); русско-немецкий колоквиум по проблемам авангарда (Самара-Саратов, 2004); немецко-русский коллоквиум по проблемам экспериментальной литературы (Берлин,
2004); международная конференция «Александр Введенский в контексте мирового авангарда» (Белград, 2004); международный конгресс «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, декабрь 2004), международная конференция «Художественный текст как динамическая система» к 80-летию профессора В.П.Григорьева (Москва, ИРЯз РАН, май
2005), международный конгресс по проблемам стран Восточной Европы и Азии (Берлин, июль 2005), Чтения в честь В.Хлебникова в рамках Международного фестиваля поэзии (Македония, Струга, август 2005); русско-немецкий коллоквиум по проблемам современного авангарда (Ростов-на-Дону, март 2006).
Кроме того, рад положений был изложен в книгах и статьях автора, которые активно обсуждались научной и литературной общественностью, в том числе в общей и специальной прессе, цитировались в различных научных исследованиях.
Основное содержание работы
Монография состоит из Вступления и трех частей. Во Вступлении дается общая характеристика проблемы. Первая часть посящена проективным теориям русского исторического авангарда, впервые исследованных автором. Вторая часть представляет футуризм как единое движение. Третья часть посвящена современному авангарду в его взаимодействии с авангардом историческим.
1. Проективные теории русского авангарда. "Фоническая музыка" и акустическое напряжение в авангардных поэтических системах.
Конец XIX века в лингвистике был ознаменован закреплением за термином «Фонема» воплощения «функционально единой звуковой сущности». Основная заслуга в этом принадлежит И.А. Бодуэну де Куртенэ. Полагая, что «фонема представляет собой не отдельные ноты, а аккорды, составленные из нескольких элементов», он выделяет эти элементы - кинемы и акусмы, и соединяет их в кинакемы. Кинему можно представить как артикуляционный вход, акусму - как акустический выход. В .Я. Плот-кин пишет по этому поводу: «...Бодуэн де Куртенэ признал кинемы и акусмы двумя реализациями одной и той же двусторонней артикуляционно-перцептивной работы и создал из этих двух терминов обобщенное название единицы такой работы — «кинакема». Однако на этой стадии кинаке-ма осталась в стороне и лишь в 30-е годы XX века получила более твердое обоснование у Е.Д. Поливанова, впрочем, оставшееся неизвестным почти до конца столетия.
В 1900-е годы само понятие «фонема» получает известность в России прежде всего благодаря статье С. Булича «Фонема» в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Ссылаясь на статью Бодуэна де Куртенэ «Fonema» в Большой польской энциклопедии, Булич пишет: «Фонема есть простейшая единица «внутреннего языка» отвечающая простейшей единице внешней звуковой речи - звуку (в смысле физиологическом и акустическом)».
Таким образом, фонема была обозначена как простейшая единица и начала свое «независимое движение». Наряду с известным к тому времени определением А.А. Потебни внутренней формы слова это открытие дало возможность увццеть движение внутри слова, подобно тому как были увццены движения атомов внутри молекул. Параллельно в том же направлении работали со словом поэты. Прежде всего Хлебников, уже в ранних прозаических и поэтических творениях которого внутренняя форма мутирует, благодаря решительной смене единиц «внутреннего языка», то есть фонем.
Раскрепощение фонемы у Хлебникова идет разными путями. Он находит новые способы обострения фонем, проявления их особенностей и выявления их соответствия букве. Он ставит фонемы в такие позиции, в которых с максимальной полнотой выявляются их глубинные возможности. Проработанность звукового ряда обостряет привычное звучание слов логического ряда, перестраивает слух.
Это и есть «слышимый результат правильного действия мускулов и нервов», как писал Бодуэн де Куртенэ. Радикальным образом сходный прорыв осуществил А Крученых в своем знаменитом «Дыр бул щыл» и ряде других вещей. Какие бы смысловые подкладки мы ни обнаруживали за этими текстами - ведущей здесь окажется фоническая музыка, возника-
тощая благодаря необычным позициям фонем. В целом футуристы определенно тяготели к научному обоснованию своих поисков, этим можно объяснить, например, попытку завязать контакты с Бодуэном де Куртенэ, которая кончилась выпадами ученого против поэтов. В 1914 году Бодуэн де Куртенэ опубликовал в газете «Отклики» подряд две статьи, в которых подверг заумь критике. В статье «Слово и "слово"» он писал: «В моем «Сборнике задач по введению в языковедение по преимуществу применительно к русскому языку» (Петербург, 1912) под № 39 и 44 можно найти «слова», вроде облюбованных «будетлянами»: «пермисат, мыргамать... пуркалбан... куртулбас». Поучая «будетлян» и не принимая их зауми, Бодуэн де Куртенэ подтвердил возможность самого существования заумного слова, выраженного прежде всего в звучании. Другое дело, что его понимание поэзии отличалось от будетлянского. В статье «К теории "слова как такового"» Бодуэн де Куртенэ определяет поэзию как воздействующую не звуковой стороной, а описанием. Поэзия тем самым сводится к отражению. Между тем, в той же статье языковед писал, что «настоящий поэт прежде всего создает произносительно-слуховое произведение». Видимо, для Бодуэна де Куртенэ не существовало никакого противоречия между двумя его высказываниями, а в понятие «произносительно-слуховое» он вкладывал лишь сугубо практический смысл, вроде того что поэт что-то сочиняет вслух, а затем записывает. Естественно, что такое понимание не могло устроить футуристов. И Бодуэн де Куртенэ для них и для нас остался Колумбом, не разглядевшим в футуристах новый материк. Но и сами футуристы были во многом колумбами (это имя, кстати, используется Хлебниковым и Маяковским). Не случайно Александр Туфанов, выступивший со своими исследованиями фонической музыки и функций согласных фонем уже после смерти Хлебникова и на фоне самоповторов Крученых, называл будетлян «становлянами». «Они становились, дела-
лись поэтами заумными, но не успели справиться с "накипями родного языка"», - писал А. Туфанов в книге «К зауми».
Именно Туфанов прямо обращается к опыту Бодуэна де Куртенэ, ссылаясь на его работу и используя введенные им понятия. «Материалом моего искусства, - пишет Туфанов, - служат произносительно-слуховые единицы языка, фонемы, состоящие из психически-живых элементов - кинем и акусм. «Звук» речи сам по себе есть движение кинем и акусм, с параллельным им движением акустического ощущения...». Туфанов вслед за Бодуэном де Куртенэ рассматривает фонему как аккорд и направляет свои усилия на «воскрешение функций фонем» (невольно напрашивается сравнение с заявлением раннего теоретика авангарда В. Шкловского о «воскрешении слова», с тех пор прошло чуть более десяти лет). «Воскрешение функций фонем», по мысли Туфанова, наиболее активно осуществляется в «процессе заумного творчества». Примеры Туфанов приводит из собственного творчества, называя созданные им «тексты» «музыкальными произведениями».
Эти звукосочетания Туфанов называет «простыми звуковыми комплексами», или «осколками английских, китайских, русских и др. слов», полагая, что «мы получаем дар говорить на всех языках». Вероятно, слово «говорить» понималось в данном случае не в бытовом, а в художественном значении.
Туфанов полагал, что таким образом, сохраняя членораздельность, можно создать особое «птичье пение». От «понятности» он переходит к «чувственности», к миру «ощущений» - с помощью уравнивания в правах создания произведения «фонем, красок, линий, тонов, шумов и движений». Эта особая музыка, по его мнению, будет нужна для создания особой культуры и «упразднения смерти».
Туфанов работает в ключе, близком хлебниковскому, но он уже специально обращается к другим языкам: английскому, китайскому, японскому, семитским. Он моделирует новый язык, пользуясь известными и пытаясь вывести некие общие закономерности (20 законов) для всех языков. Это оказалось проблематичным, однако своеобразную фоническую музыку создать ему удалось. И создана она по законам, близким к тем, которые мы видим на примере Хлебникова. В произведениях Туфанова отмечается необычное для русского языка напряжение речевого аппарата, обострение позиций фонем (при этом поэт-исследователь пользуется и транскрипцией). Можно отметить в рассуждениях Туфанова некоторый перебор символизма и невольное соположение с поэмой Белого «Глоссолалия», написанной в 1917 году и вышедшей в 1922 году в Берлине. Например, совпадает понимание звука как движения («звуковые жесты» у Туфанова и «звуки - древние жесты» у Белого. Белый опирался на современные ему языковедческие работы, но корректировал их соображениями Р. Штейнера и предупреждал: «Критиковать научно меня - совершенно бессмысленно». Туфанов же как раз стремился к научности. Он, в частности, предполагал в сотрудничестве с Игорем Терентьевым заняться исследованиями в области поэтической фонетики в Ленинградском ГИНХУКе, но деятельность этого уникального научно-исследовательского образования была пресечена.
Тяготение к научному обоснованию своих поисков обнаруживал и московский конструктивист Алексей Николаевич Чичерин, особенно активно выступавший в первой половине 20-х годов. В 1926 году он выпустил, немногими тогда оцененную, проективную работу «Кан-фун», в которой зафиксировал собственные находки и наметил линии будущих поисков. Чичерин предполагал создать особую систему фонограмм. Для этого
надо было раздробить алфавит, разложить звуки на составные звучания (речь идет по сути дела о кинакеме, но термин не называется), найти знаки для обозначения ритмических единиц, краткостей и долгот, тембров, темпов, тонаций, интонаций, призвуков...
Этот изобретатель «дифференциального исчисления бесконечно малых элементов словесного выражения» действительно предложил ряд новых знаков, которыми сам виртуозно пользовался при чтении своих и чужих произведений с эстрады. Чичерин сделал резкий шаг в сторону поэтической сонористики. Здесь с ним мог соперничать, вероятно, только Илья Зданевич, который уже в 1918 году предполагал осуществлять запись чтения с наложением.
Таким образом, в начале века возникли поэтические системы, сознательно или подсознательно ориентирующиеся на освобожденную фонему. Нарождалась сонорная, или саунд-поэзия. Казалось, еще немного, и волшебный камень заумной фонической музыки откроется всеми гранями. Но тогда этот поиск был прерван. И был продолжен значительно позже.
Современная заумная поэзия в России все больше тяготеет к фонетической или саунд-поэзии. Звучащая поэзия, все более отходящая от вер-бальности, на Западе завоевала прочные позиции: фестивали, издания, записи, критика. Это движение у нас долгое время оставалось неизвестным, хотя русские поэты-заумники уже шли в этом направлении, вполне естественным для зауми. Назовем здесь таких поэтов, как Ры Никоно-ва, Сергей Сигей, Владимир Эрль, Валерий Шерстяной, Дмитрий Булатов. Все они начинали как прямые продолжатели традиций футуристов и обэ-риутов, отчасти дадаистов, то есть с письменных заумных текстов, работая со свободными фонемами и морфемами. И в результате пришли к «фонической музыке».
В каждом языке заумь дает возможность свободного обращения с данным языком. Можно как бы выйти за язык, а потом опять войти в язык, увидеть его в ином ракурсе. H.H. Перцова в своем «Словаре неологизмов Велимира Хлебникова» приводит примеры разных типов медитации из «Ошо» - «божественная медитация», «медитация чепухи» и связывает эти древние приемы освобождения от вербализации с поисками Хлебникова.
Итак, создается новая поэзия. Если известный нам вариант поэзии использует главным образом письмо и настаивает на вербальности, привычном типе миметичности, то новая поэзия изменяет тип мимесиса и конвенции, отменяет вербальность и идет на прямой контакт с музыкой в ее разнообразных проявлениях. Этот контакт заметен уже в декламации обычных стихов, спор о том, что первично - проговаривание, чтение стихов или запись на бумаге, не окончен. Но в данном случае мы говорим о новой технологии создания произведения. Когда сама технология входит в максимальной степени в произведение. Если наборматывание, проговаривание стиха предшествовало записи на бумаге, то сейчас звучащие жесты речевого аппарата становятся самой поэзией, подобно тому, как в понятие музыки (имеется в виду звучащая музыка) входит и дизайн инструмента, и пластика музыканта.
2. Музыкально-поэтические теории.
К 1910-м годам идея синтеза искусств, развиваемая символистами в общефилософском плане, претерпевает значительный сдвиг в сторону технологичности. В это время, в частности, выдвигаются идеи музыкально-поэтического синтеза - как в анализе поэтического текста, так и в создании оного.
Первые опыты в этом направлении были предприняты в футуристических кругах и появились в печати в 1916-17 гг.
Работа Бориса Кушнера «О звуковой стороне поэтической речи», опубликованная в 1916 году, строится на классификации звуков стихов ворного материала, близкой к музыкальной. Кушнер привлекает к анализу только согласные звуки. Выстроив их по группам: тонирующие-детонирующие, сонирующие-десонирующие, автор подчеркивает различия в подходе к звуку в поэзии и музыке. Для поэзии он выделяет группы сони-рующих и десонирующих, где первые представляют собой однородный звуковой ряд, а вторые - смешение разных звуковых рядов. Кушнер исключает из поэзии тонирующие и детонирующие, то есть звуки, имеющие определенную высоту и поэтому, на его взгляд, более простые. При этом он допускает проникновение тонирующих и детонирующих в сложные сплетения сонирующих и десонирующих звуков. В анализе Кушнер опирается на музыкальные законы. Анализируя классические произведения (Пушкина, Лермонтова), выборкой определенных согласных он выстраивает линейные (как по горизонтали, так и по вертикали) аккорды и оперирует ими подобно музыкальным (аккорды в обращении). В результате проявляется гармония согласных. Во второй своей работе - «Сонирующие аккорды» - Кушнер рассматривает стихи Пушкина, в которых обнаруживает «строфные сонирующие аккорды» со звуко-буквой «р», но разграничивает их с музыкальными аккордами.
Статьи Кушнера находятся в русле опоязовских поисков в области звуковой природы поэзии и могут быть соотнесены со статьей О.М. Брика «Звуковые повторы», опубликованной во втором выпуске «Сборников по теории поэтического языка» и, возможно, известной Кушнеру ранее. От других работ кушнеровские статьи отличаются прямым использованием и переосмыслением музыкальных терминов и выходом на соположения и противопоставления технологических моментов музыки и стиха.
Иной подход к проблеме продемонстрировал Федор Платов в своей «Гамме гласных», перекликающейся с таблицей Елачича «Тональности гласных», опубликованной за два года до того в сборнике «Рыкающий Парнас». Платов, как и Елачич, выстраивает из набора гласных ряды, соответствующие музыкальным гаммам в разных тональностях, и тут же делает попытку обозначить высотные характеристики звуков через музыкальные интервалы. Отталкиваясь от опытов Гельмгольца и Щербы, он пытается доказать возможность перевода музыки в поэзию, поскольку музыка, по его мнению, родилась из слова. Сравнивая гласные звуки с интервалами в музыке, Платов формует из гласных мажорные, минорные и хроматические гаммы. Используя правила гармонии и контрапункта, он приходит к выводу о возможности сочинять стихи по этим правилам (так называемые «петы», от слова «петь»). Платовское слово «пета» дало название книгоиздательству и сборнику стихов, объединившему Асеева, Боброва, Большакова, Лопухина, Третьякова, Хлебникова, Чартова, Шиллинга и самого Платова. Называл он петами и свои стихи, которые следовало читать, применяя выработанные им «правила». Те же стихи - петы Платов именовал и OPUS-ами, как это делают композиторы, выносил в заголовки музыкальные определения, например, «PRELUDE Nq 2» или «POEME Nb I». В петах он не дает никаких обозначений. Обещание выпускать «фо-но-книги» с указанием произношения осуществить не удалось. Однако, если учитывать выстроенную им гамму:
УОЫЁАЭЯЮЕИ
(есть и другая, осложненная диезами), то есть помнить о повышении и понижении звуков в соответствии с физическими данными, подкрепленными данными экспериментальной фонетики, можно выстроить особый тип чтения. Разумеется, «гамма» должна помниться голосом, как это и есть у музыкантов, иначе чтец уподобится сороконожке.
Своеобразную теорию разработал Божидар. Его книга «Распевочное единство», хотя и не является в строгом смысле теоретической (скорее это «поэтическая теория»), почти на десятилетие опередила музыкально-поэтические искания 20-х годов. Так, Божидар писал о превращении хорея в ямб и ямба в хорей, амфибрахия в анапест и т. д.: «двудольный размер замещается трехдольным, трехдольный - четырехдольным. В связи с этим он обращается к музыкальной терминологии, переделывая ее на славянский лад в духе Хлебникова: «двоень» - дуоль, «троень» - триоль. Кроме того, Божидар вводит знак пресечения (паузы) «II», которым пользуется в собственных стихах. При этом он характеризует паузы как «перерывы голоса между словами», то есть воспринимает стих как звучащий. Он обнаруживает сдвиги, слияния предлогов, частиц со словами: «в брани, а на лавках».
Мысль о единстве размеров имеет дальнее устремление к охвату времени и космоса: «...Сказителю стих - всеща знак времени, черта одного измерения, непрерывное, как само время». И еще: «...Стих же - своеродная стопа некоего большего стиха - стишия, стихо-творения, то есть подчиненная единица, не независимая, как это чудится при взгляде на стих в печати». По мнению Божвдара, все размеры стремятся к единству ради совершенства. Сергей Бобров в «Примечаниях» вносит поправки в метрические схемы Божидара. Но суть «Распевочного единства» совсем не в этом, а в обретении нового пути поэзии, хотя бы и метафорического. В рецензии на книгу С. Боброва «Вертоградари над лозами» Божидар писал: «Поэзия, как элемент живого познания, сочится во всех искусствах, зацветая мертвенными бессмертниками в живописи, каменея среди геометризмов архитектуры, бледным призраком колеблясь в философских томах и ум и-
рая в музыке». Здесь Божидар, разбирая стихотворение Боброва «Фонарики», пользуется музыкальными терминами: «основная тема», «побочная тема», «обращенная», впрочем, не очень точно и обоснованно. В этом же выпуске «Центрифуги» С. Бобров в рецензии на книгу Божидара «Бубен» пишет, что он исследовал «словесные темы и был на дороге к созданию поэтического контрапункта». Как это мыслилось, Бобров не поясняет, но характерно само определение направления поиска. Пересечения музыки и поэзии уже происходили в эфире.
Во многом эти пересечения были заданы еще символистами: идеями синтеза Вяч. Иванова, своего рода «борьбой с музыкой» Блока (закончившейся ее приятием), и главное - многомерными и напряженными забросами в музыку ведущего символистского «композитора» Андрея Белого, считавшего музыкальное искусство «основным тоном» по отношению к другим искусствам.
Напряженный диалог между музыкой и поэзией, начатый символистами, был подхвачен следующим поколением. В этом диалоге постоянно возникали все новые и новые темы. Прежде всего произошло обострение звучания поэтического материала. Выступления Игоря Северянина, Владимира Маяковского, Василия Каменского, Алексея Крученых и Давида Бур-люка, других авторов, принадлежавших к различным футуристическим группировкам, стали новым этапом в завоевании эстрады и омузыкалива-нии слова. В то же время, как показывают исследования Л.Л. Гервер, Вели-мир Хлебников шел к музыке путем близким А. Белому. Это движение к музыке, обладающей качеством «симфонизма», то есть непрерывностью музыкального сознания, в силу которой ни один элемент не мыслится и не. воспринимается как независимый среди множества остальных...».
К началу 20-х годов критическая масса музыкально-поэтических идей вырастает настолько, что почти одновременно появляется целый ряд работ, в которых демонстрируются самые разные подходы к проблеме.
, Одним из тех, кто серьезно взялся за разработку этой темы, был композитор и музыковед Леонид Сабанеев. Наиболее отчетливо, хотя и очень сложно, он сформулировал свои идеи в книге «Музыка речи», вышедшей в 1923 году. Можно сказать, что эта книга явилась интервенцией музыки в область поэзии.
К моменту выхода своей книги Л. Сабанеев уже более десяти лет был занят проблемой звучания слова. Важную роль в этом сыграло общение с крупнейшим композитором Александром Скрябиным и его окружением. В скрябинском кругу одно время был выдающийся индийский музыкант и мистик суфий Хазрат Инайят Хан, который выступал в России с лекциями-концертами, в том числе трактуя суфийские понятия о «мистицизме звука». Разумеется, не стоит впрямую возводить работу Сабанеева к су-фийству, однако нельзя сбрасывать со счетов атмосферу, в которой зарождаются идеи. Книга Сабанеева заслуживает того, чтобы рассмотреть проблемы, затронутые в ней, подробнее.
Исходная посылка - вывести звук поэзии из небытия. Ведь «Слово-мысль доминировало над слово м-з в у к о м в неограниченной исторической перспективе человеческой культуры». В России «звуковой элемент слова был в еще большем загоне, чем где бы то ни было».
Далее еще более категорично: «Трагедия искусства слова крылась в недостаточном до сих пор осознании элементов искусства. Поэзия - «Речь богов», эстетический кристалл обычной речи - в этом отношении находилась в положении более печальном, чем иные искусства».
Далее Сабанеев сопоставляет поэзию и музыку и приходит к выводу,
что поэзия в отличие от музыки «не умножает ресурсов», «не развивается», а поэты демонстрируют «прямо ужасающие факты непостигания звуковой сущности речи и слова».
Автор настаивает на том, что искусство слова все же искусство звуковое. И наконец, уже в «Предисловии» приходит к главному: в противоположность композиторам поэты отдали всю звуковую область творчества декламатору и оставили себе... только «идеографию».
Само «Предисловие» с его глубокой констатацией равнодушия поэтов и исследователей к звуку воспринимается как мощный стимул к постижению звуковой природы поэзии. И Сабанеев последовательно вскрывает эту природу. Прежде всего он дает определение музыке речи: «Музыка речи - это звуковое бытие речи без отношения к символике образов и идей». Образы и идеи речи он относит к области идеографии (что приблизительно равняется «значению», «смыслу»). Не снимая вопроса о важности идеографии, Сабанеев утверждает, что музыка речи главнее, первичнее. В этом убеждают примеры как из далекой древности - «ангелолалия» древних религиозных экстатиков, так и современная заумная поэзия. Энергетика передается звуком. По его мнению, в поэзии «аура» распространяется только от «музыки речи».
В первой главе Сабанеев ставит вопрос о возможности записи звуковой основы поэтической речи. И затем переходит к элементам, к анализу звуков, которые он рассматривает с особой точки зрения. Вьщеляются «четыре координаты»:
1. С и л а з в у к а, то есть физически - амплитуда звукового колебания, физиологически - некоторая определенная функция энергии колебания.
2. Длительность звук а, то есть его временная протяженность, причем предполагается, что качества звука более рельефные... при этом остаются неизменными, сила же может меняться.
3.Высота звук а, которая физически есть число колебаний в единицу времени, а психологически представляет одно из наиболее сильных отличий звуков между собою.
4. Т е м б р, или звуковая окраска. Физически зависящая от соотношения верхних обертонов звука или от «формы» колебания (звуковой кривой).
Эти координаты объемлют разные области звуковых явлений:
1-я - динамические, 2-я - метрические («временная емкость»), 3-я - интонационные, 4-я - тембровые.
Сабанеев подробно рассматривает каждый план звукового выражения и предлагает возможные варианты письменной фиксации. Для динамического он предлагает график, фиксирующий силу звука относительно временной протяженности, музыкальные термины, характеризующие силу звука (creschendo— усиление, diminuendo— ослабление, forte - громко, piano — тихо). Особое внимание Сабанеев обращает на динамические центры» речи, на их смещения и перераспределения как в пределах группы слов, так и в пределах фразы или предложения.
Метрический план выражает длительность. Это очень существенный и сложный вопрос, так как звук, обозначаемый буквой или даже транскрипционным знаком, уже в следующий момент от начала произнесения не равен самому себе. Каков же выход? Тщательный анализ «неустойчивых интонаций».и «метрических акцентов» выводит автора на понятие темпа. Здесь Сабанеев предлагает также использовать музыкальные термины.
В интонационной области Сабанеев выделяет интонационные центры или акценты и отрицательные интонационные акценты (падение), обнаруживает совпадение интонационных и динамических кривых в гра-
фике. Запись он предлагает смешанную, наряду с трехлинейным нотоносцем (причем нотные кружки заменяются буквами) использовать линии, «систему диаграмм», подобие старинных невм, служивших обозначением звуковых высот. В обсуждении вопроса Сабанеев возвращается к своей теории ультрахроматизма, обоснованной им за десять лет до появления «Музыки речи», то есть промежуточным высотам. Здесь следует отметить, что использование различных графических элементов в композиторской технике записи стало обычным делом во второй половине XX века.
Тембровый план Сабанеев определяет как наиболее сложный. Он разделяет здесь две крупные группы тембров: с преобладанием музыкального колорита и шумового. Звуки, «сопровождаемые колебаниями связок», он именует «звучными элементами речи», все остальные (вне голосовых связок) - «шумовыми элементами речи». Он выделяет «центральные элементы тембров» и «случайные "побочные"» или «специфические».
За основу обозначений звуков берется алфавит, который уподобляется грубой «темперации». «Звучные» буквы снабжаются верхней черточкой, при этом принимается во внимание только реальное произнесение того или иного звука, следовательно, Сабанеев использует транскрипцию собственного изобретения, нигде не упоминая сам ого термина. При записи «нотно» автор добавляет к трем строкам нотоносца четвертую - «шепотную».
Кроме общего понятия тембра Сабанеев вводит понятие «гласности», как определение различных типов тембра и обозначение всей совокупности тех тембровых характеристик, которые обозначаются в речи буквами». Речь собственно идет об артикулировании того или иного звука, о принципах звукоизвлечения и самого звучания, что здесь и подтверждается Сабанеевым, когда он приводит примеры соответствия звуков различных
музыкальных инструментов речевым. А в главе «Дыхание в речи» он говорит даже о гласности пауз. Подлинное молчание возможно лишь на остановке дыхания!
В этой главе, помимо важных приемов постановки дыхания, Сабанеев рассматривает проблему «эмоциографии дыхания». Дыхание фактически является физиологическим, мускульным выразителем эмоции, а следовательно, важнейшим передатчиком психических процессов речи. Динамическая кривая дыхания, обозначенная формулой Ь =Г(Ч) (11 - запас воздуха по ординате; а Г- время), становится «уравнением эмоций».
Для разных типов дыхания Сабанеев предлагает особые обозначения, выделяет семь градаций глубины. Специальные знаки обозначают начала и концы вдыхания и выдыхания, последовательность, своего рода «дыхательная темперация». Произнесение «на одно дыхание» обозначается лигами, как в музыке. Лига, связывая воедино последовательность знаков, образует «дыхательную фразу».
Все эти знаки дают возможность более тонкой нюансировки, чем в музыке. Глава об «эмоциографии речи» имеет подзаголовок - «звуковая выразительность». Подзаголовок уточняет направленность автора на предмет исследования. Сабанеев четко разделяет экспрессию, «естественные эмоции речи», звуковую эвфонию и область звуковых «гармонических сочетаний». Эта область близка к «чистой музыке». Именно эмоции, выражаемые чистой музыкой речи, в центре внимания исследователя. В связи с этим он обращает особое внимание на поэтическое чтение. Поэты читают музыкально, их интонации далеки от так называемых естественных.
Таким образом, музыка речи переходит все более в область «невыразимого», а следовательно, сверхсложного для описания. Автор идет к
«эмоциографии» через установление «наиболее важных (обычных. - С. Б.) типов эмоций». Он дает ряд схем, для проверки которых предлагает снять идеографический элемент, сосредоточившись на чисто звуковом произнесении «с закрытым ртом». Отделяя филологическую проблему от музыкально-речевой, он приходит к «скелету эмоциональных ассоциаций», выстраивает эмоциографический алфавит. Выделяя типы гласностей, он стремится уйти от субъективного представления и выделяет наиболее объективные характеристики звучания.
Пожалуй, самая спорная глава в книге Сабанеева - шестая, посвященная речевой эвфонии. Полагая под эвфонией систему "благозвучия и неблагозвучия", автор выделяет элементы этой системы - «консоны и диссо-ны», а затем их анализирует. Он определяет консоны и диссоны в метрическом плане - долгота и смена элементов; в интонационном - высота ность, скачки; в гласностном - «приятные и неприятные», степень их сочетаемости. В сущности речь идет о некоей гармонической соразмерности, в которую уже не попадает, например, такая строка Бальмонта, как «чуждый чарам черный челн». Не попадают также такие стихи, в которых сильно ощущается дисфония, стремление к разрывам ритма. Эту тенденцию в поэзии Сабанеев справедливо сближает со сходными явлениями в современной ему музыке (Прокофьев, Стравинский, Лурье, Рихард Штраус, Шёнберг), которые также не принимает.
Ограниченность вкусовых пристрастий, вероятно, помешала автору более широко взглянуть на фоническую природу речи, а следовательно, на соотношения элементов, возможные сложные переплетения консонов и диссонов.
В установленных самим Сабанеевым эстетических пределах он безусловно, прав, говоря, что для Брюсова «эвфония гласностей обычно менее
типична», замечая вязкость, густоту стиля у Вяч. Иванова и «эвфоническую грязь» у Игоря Северянина, «эмоциографию и идеографию житейского, бытового типа» у Маяковского. Все эти приметы, однако, входят в эстетические системы названных поэтов. И в данном случае Сабанеев выступает уже в роли критика, предлагающего свою теорию в оценочном плане.
Интересно наблюдение над тембральной стороной эвфонии речи. Сабанеев выделяет четыре художественных типа тембра: 1) консонного, идеально-музыкального тона; 2) диссонного двоящегося; 3) диссонного хриплого и 4) сдавленного, ущемленного. Отдельно - полный шёпот и полушёпот.
Восьмая глава книги - «Поэтическая речь (структура и мелодия стиха)» - самая объемная, соединяющая все, что до сих пор звучало в книге. Две главы - «О содержании ритма» (самим автором определяемая как вставная) и «Мелодия прозаической речи» - затронем лишь косвенно.
Первая из них важна специфическим представлением ритма. По Сабанееву ритм - «это всеобъемлющее явление. Это то, что дает произведению целостность и красоту или красоту целостности. Если все элементы произведения ритмически претворены», значит оно прекрасно. Весьма отчетливо тут просматривается то явление, которое обычно именуется «композицией» произведения, его архитектоникой: форму произведения он напрямую соотносит с ритмом.
Все эти определения хорошо вписываются в дальнейшие рассуждения Сабанеева о поэтической речи. Поскольку поэзия - это речь богов и поскольку, по Сабанееву, это наиболее экономная речь, хотя бы и потенциально. «Хотя бы» здесь добавлено не случайно, ибо Сабанеев ведет постоянную критику поэтических приемов ритмизации как «простейших, первых приходящих на ум». Он выступает против «примитивного ритмичес-
кого восприятия», «простого периодизма». И утверждает, что «потенциально поэт - творец всей звуковой сущности стиха», в том числе интонации. Именно в интонационной области наибольший разброс исполнительской импровизации, что является признаком «малой осознанности элементов, мрюй дифференцированности самого искусства», признаком отсутствия «культуры техники» искусства. Называя поэтов «дилетантами-самоучками», Сабанеев говорит о необходимости для поэтов школы, подобной музыкальной (об этом не раз говорил ранее В. Брюсов, который и создал своеобразную школу - Литературно-Художественный Институт).
«...Чем поэзия более поэзия, тем она оторваннее от естест венной дикции, от естественных интонаций, диктуемых только смыслом. Поэт создает свой мир уже ритмически претворенных интонаций, которые только стоят в каком-то отношении к естественным, но с ними вовсе не желают совпадать». Это одно из самых радикальных положений стоит в ряду с манифестами о символе, о слове как таковом и о заумном языке.
Переходя к описанию элементов поэтической речи, Сабанеев выдвигает идею «счетности времени, для чего предлагает применить «счетные метродинамические группы» (МДГ), соответствующие тактам в музыке. МДГ, в отличие от стоп, охватывает группы большой слуховой протяженности, учитывает различение длины и силы, не зависит от совпадения со «слогом», а, напротив, учитывает неравенство слогов. МДГ определяется дольностью. Сабанеев выделяет МДГ с постоянной внутренней дольнос-тью, МДГ с переменной дольностью. Он показывает, как функционируют МДГ в реальном стихе, учитывая общий профиль мелодии, ее тематический облик, темп и тип истинной метрической "дельности". В доказательство обоснованности своего положения Сабанеев приводит йотированные
записи двух групп стихов (ямбических и хореических). Каждый стих, по его мнению, «способен быть «метрически» точно написанным тысячью разных способов». Но Сабанеев настаивает на желательности передачи авторского замысла. В рамках этой (авторской) записи можно импровизировать, как это и происходит у музыкантов-исполнителей, но в целом замысел произведения не подвергается такой коррозии, как при обычном письме. Сабанеев анализирует классический стих, в общем, конечно, более легкий для исполнения - в основном за счет достаточно ясной идеографии. Для различных форм стиха нового времени проблема записи стоит гораздо острее. В данном же случае Сабанеев проводит точечное обследование метродинамики отдельных и соположенных групп и приходит к выводу, форму стиха дает комплексное сочетание всех элементарных мет-родинамических форм.
Сабанеев, последовательно придерживаясь избранного музыкального подхода, делает очень важное признание, что поэзия работает в мелких формах и в ней нет таких развернутых и всеобъемлющих форм как в музыке, например, сонатная форма.
Стремление Сабанеева к гармоничности, к структурной вывереннос-ти проявилось в описании «области гласностей» в поэтической речи. Он сочувственно относится к исследованиям в области звуковых повторов, но и выражает некоторые сомнения, что такие повторы так уж закономерны. Однако закономерности возможны, если соблюдать определенные правила эвфонии и изометрии. Так, он выводит определенные правила чередования гласностей по схемам. При этом учитываются сильные позиции гласных. В то же время Сабанеев говорит, что комбинаций такого рода может быть множество, но при этом настаивает на соблюдении благозвучия. Те же требования он предъявляет к рифмам и ассонансам.
В этой главе Сабанеев возвращается и к проблеме эмоциографии речи. И здесь его наблюдения над эмоциональной нагрузкой звуков смыкаются с теми выводами, которые делали сами поэты начала века: Бальмонт, Белый, Хлебников, Туфанов, А.Н. Чичерин, тогда же и позднее лингвисты, а также с опытами по акустике речи, в том числе и художественной.
В главе «Поэтическая речь» автор подводит итог наблюдениям над интонацией и более детально прослеживает ее функционирование в поэзии. В поэтической речи происходит взаимодействие музыкальной и естественной интонации, вдущей от идеографии. Он намечает контуры общих принципов стиховой интонации: определяется фраза-тема, звуки подразделяются на разные типы по интонационному признаку, выявляется роль согласных. Система учитывает мельчайшие оттенки, в том числе «интонации разгона», с «затактом».
Он различает чисто слоговое мужское окончание и интонационное, иногда переходящее в женское. Интонации имеют свой «метр», более сложный и детализированный.
Особое место в этой главе занимает проблема лада в словесном искусстве.
В поисках речевой интервалики, аналогичной музыкальной, Сабанеев приходит к выводу (впрочем, осторожному), «что лад речевой мелодии есть как бы негатив лада музыкального». Рифмы, ассонансы, гласнос-тные аналоги он определяет как «ночные тени». Поэтому рифмы, например, гаснут в музыке, нужны «грубые» рифмы, чтобы они прозвучивали сквозь музыку (в качестве примера приводится Вагнер). Все это справедливо в случае прямого контакта классических форм стиха и музыки, синтетическое искусство нового времени дает совсем иные примеры. И все-таки наблюдения Сабанеева существенны и для новых явлений
Впрочем, рассматриваются и возможности тональных мелодий речи, но относятся они к будущему. Современная музыка речи другая г атональная, которая во времена Сабанеева уже появилась и заняла сильные позиции в музыкальном искусстве. Исследователь отметил факт приближения тональной музыки к стиховой мелодии, но подробно останавливаться на разборе проблемы не стал, в том числе и по причине неприятия нововенской композиторской школы, которая развивала атональность. При этом весьма любопытно, что ход наблюдений выводил исследователя фактически к проектированию новых явлений в поэтическом искусстве. А его констатирующие выводы могли послужить стимулом к поиску в области звучащей материи стиха.
Например, определения мелодической темы в ее специфической эвфонии могли бы подвигнуть к поиску в самих разных направлениях.
Сабанеев отмечает, что в зависимости от произнесения меняется тип эмоции.
На сегодняшний взгляд, когда уже несколько десятилетий существует саунд-поэзия и когда нам по-новому открываются некоторые опыты 10-20-х годов, это наблюдение кажется не более, чем констатацией факта. Однако для начала 20-х годов оно было существенным. Еще более важны и для нынешнего движения поэзии замечания о секвенциях: «повторения слов, почти повторения с сохранением смысла, ряды синтаксических гомологов». Сабанеев выделяет секвенции трех типов - повышающиеся, стоячие и понижающиеся, и приводит примеры секвенционности - простых повторов. Однако уже в те времена существовали более сложные секвенцион-ные построения Хлебникова, Каменского.
Далее следуют более сложные сопоставления, такие как проведение темы и ее обращение в интонационном плане; чередование высотности
тем (в том числе в акцентировании рифм, нахождении кульминационных моментов или точек золотого сечения). Очень важно здесь замечание о том, что «произведение поэзии не кончается с его последним звуком, не обрывается... заключительное молчание (пауза) принадлежит произведению как необходимая часть и имеет определенную длительность».
Подводя итог своим исследованиям закономерностей организации мелоса поэтической речи, Сабанеев высказывает «целевую установку», направленную на создание настоящей техники по созданию речевых мелодий, при этом не исключая импровизационных моментов, предполагая «дальнейшее развитие, усложнение, углубление и утончение безграничной области Музыки речи».
Последняя глава книги названа весьма характерно - «Возникающие проблемы». В ней Сабанеев не столько подводит итоги, сколько выстраивает перспективу преодоления разъединения «образа творения о т образа воспроизведения» и поиска возможности записи тонких нюансов. Поэт должен бьггь автором «всех деталей метра, д инамики иинтонаци и», - подчеркивает автор, полагая, что таким образом момент исполнения приобретает значительность художественной (то есть обусловленной) трактовки. При всей множественности и даже бесконечности решений возможен выход к «максимально-впечатляющей» трактовке. Детальная проработка текста, распределенная по этапам, должна привести к тому, что «поэты будущего» станут «композиторами своих мелоди».
Ссылаясь на опыты воплощения собственного стиха Бальмонтом (акценты на полугласных, согласных, интонирование одного звука), Сабанеев высказывает убеждение, что недалеко время, когда поэт станет обладателем полной техники и всех ресурсов своего искусства и тем откроет новые интуитивные горизонты.
Он предвидит создание новых размеров, в том числе многодольных, размеров со звуками минимальной длительности, синкопами, фиксации длительностей и темпа...
Несмотря на абсолютно «классицистический» по форме подход Сабанеева к переводу поэтических явлений в музыкальные, сама идея и ее детальная разработка оказывалась парадоксально проективной. Вскоре началось и частичное осуществление этого проекта, о чем будет сказано несколько позже. Во время работы над книгой Сабанеев не видел вокруг живых примеров и прямо писал, что «ни одно из так называемых «новых» направлений не совершило ничего нового в области музыки стиха». Футуристические поиски в этой области, видимо, его мало привлекали или показались чисто филологическими (так он прошел мимо работ Платова и Божидара), опыты заумников он оценил отрицательно.
Путь к созданию грандиозных, монументальных звуковых форм в поэзии лежит через «ставку на точность», то есть разработку системы (систем) записи, создание «науки о музыке стиха», первые камни которой положены этой книгой и предварявшими ее исследованиями других авторов». Из «других» Сабанеев, впрочем, выделяет только Б.М. Эйхенбаума с его «Мелодикой русского лирического стиха», которую определяет как прекрасный труд, но здесь же замечает, что в нем «под именем "Мелодики" речь идет о формах общих интонаций». Упоминается еще Всеволод-ский-Гернгросс (отрицательно), другие же проходят безымянно, можно лишь вычислять по тем или иным пассажам, о чем идет речь.
Несмотря на обилие терминологии, труд Сабанеева лишен всех признаков академизма. Это своего рода научное эссе, причем, без особой заботы о стиле. Сложность изложения материала стала одной из причин забвения пионерской книги Сабанеева, главная причина в том, что для рабо-
ты с этой книгой требуется элементарная музыкальная грамотность и в связи с этим некая перестройка установок.
Видимо, учитывая опыт предшественника, иначе построил свою книгу другой музыкально-поэтический теоретик - М.П. Малишевский. Его «Мет-ротоника. Краткое изложение основ метротонической междуязыкой стихологии. Часть 1. Метрика» - это своего рода практическое пособие, сделанное «по лекциям, читанным в 1921-25 гг. в Высшем Литературно-художественном Институте имени Валерия Брюсова, в Московском Институте Декламации проф. В.К. Сережникова и в Литературной Студии при Всероссийском Союзе Поэтов» - как обозначил сам автор на титульном листе.
Итак, выходу книги предшествовала активная преподавательская работа, а также, как следует из составленной нами по материалам РГАЛИ справки, - образовательная, исследовательская и поэтическая. Книга вышла в год поступления М. Малишевского в аспирантуру ГАХН (по двум секциям: литературной и музыкальной) и начала работы над диссертацией, обычно именуемой в документах «Материал поэзии, как искусства», но в одном случае имеющей тезисно-описательное заглавие: «Материал поэзии, как искусства. Состав, свойства, движение и значимости (эстетическая потребительская ценность) материала поэтического произведения. Введение в элементарную теорию поэзии. Принципиальное исследование физической и социальной природы элементов материала поэтического произведения».
Предполагалась, что диссертация будет защищена в 1928 г., но 23 апреля 1928 г. появляется документ за подписью Президента ГАХН П.С. Когана и зав. учебной частью П.Н. Сакулина в поддержу ходатайства Малишевского о продлении срока аспирантуры на один год. Документ заканчивается следующим выводом: «Так как есть все основания надеяться на хо-
рошие результаты от предпринятого т. Малишевским исследования в области стихологии, ГАХН просит продлить ему срок занятий и сохранить за ним стипендию, без чего его положение станет совершенно катастрофическим». Аспирантура была продлена, и 25 июня 1929 г. состоялась защита. Научный Руководитель Малишевского, известный теоретик искусства, действительный член ГАХН Э.К. Розенов писал в своем отзыве: «Диссертационная работа Малишевского «Материал поэзии, как искусства» имеет конечной целью выработать способ практически применимого се-мейографического обозначения авторами поэтических произведений, их требований к выразительной декламации, соответствующей их творческим замыслам». «Личные наблюдения Малишевского в области характерной интонации и мелодики поэтической речи педставляют значительную ценность», - заключил мэтр. Сам диссертант в своем «Вступительном слове» на защите высказывался более определенно и наступательно. Несколько радикальных фрагментов «Вступительного слова»: «Поэзия в самых существенных чертах не является ни словесным, ни языковым творчеством» (здесь и далее цитируется по материалам, хранящимся в РГАЛИ).
«Явилась необходимость признать существование особого искусственного «поэтического диалекта» по отношению к каждому из языков. Этим фактически давно положено начало отделению поэзии от языка, причем гораздо глубже, чем только по внешнему различию отдельных форм. В то время как литература естественно не может оторваться от языка, «поэтические вольности», начиная от «редких» и «необычных», затем намеренно искаженных словообразований и словоупотреблений до внеязыковых (заумных) слов, фраз, припевов и целых произведений включительно, подчеркивая свою поэтическую природу, неизбежно в каждом произведе-
нии в той или иной степени порывают с языком, подчас приближаясь к чистому вокальному искусству».
«То, что для языка и литературы является частным случаем, раритетом, исключением и отклонением от нормы, с точки зрения поэзии может оказаться, самой нормой».
«Поэтика не может считать текст адекватным самому произведению». «...Текст может быть лишь нотным листом».
«Язык в поэзии, речевые интонации в вокальной и инструментальной музыке, тело в живописи не суть подлинные язык, речь и тело, но значимости их». «Материалом произведений поэзии является внеязыковая акусмическая речь».
«Поэтика не может быть частью литературоведения; она должна быть независимой и целостной искусствоведческой наукой».
Наконец: «...Диссертант считает необходимым в дальнейшем подкрепить свои данные данными об элементах материала других искусств и прежде всего танца и изобразительных».
К этим резко заостренным положениям Малишевский пришел, очевидно, в последующие четыре года после выхода «Метротоники»
Но сама книга была уже достаточно радикальна и встретила неоднозначный прием, а затем была «забыта» до 60-70-х годов . Впрочем, настоящего открытия «Метротоники» так и не произошло.
Между тем Малишевский выдвигал свою «метротоническую междуя-зыкую стихологию как метод анализа произведений, «написанных по любой системе или без системы вовсе и на любом человеческом языке» .
Основой метода являются «физические законы музыки, которые не зависят от языковых границ». Вся система делится на 10 отделов, связанных попарно: Метрика и Ритмика, Эффония (з1с!-С. Б.) и Гармония, Син-
таксис и Мелодика, Семантика и Тематика, Контрапункт и Композиция.
Подвергнув вполне обоснованной критике «силлабическую путаницу» в современном ему стиховедении (исключение сделано лишь для «Распевочного единства» Божидара), Малишевский предпринимает попытку тотального пересмотра Метрики. Подобно мелодическому ключу в музыке, он вводит метрический ключ. В зависимости от этого ключа звуки меняют долготу и силу. В свою очередь, долгота и сила одного звука зависит от тех же параметров соседнего. Поэтому особое значение придается слогу, для которого он создает довольно простые законы: Закон долготы слога. Долгота слога рав няется сумме долгот звуков, составляющих этот слог.
Закон силы слога. Сила слога равна сумме сил звуков, составляющих этот слог.
Единицей долготы слога он называет мору (лат. тога - промежуток времени) и устанавливает «систему метротонических мор, подобную системе музыкальных нот». Система состоит из простых мор, увеличенных, больших, малых, уменьшенных, иррациональных. Соотношения между морами и нотами: увеличенная - целая нота, большая - полноты, простая - четверть, малая - восьмая, уменьшенная - шестнадцатая, иррациональная - тридцать вторая.
Для измерения силы слога вводится термин интенса. Самый слабый ударный слог - одна интенса, безударный - «свободный слог», от силы ударения зависит степень интенсы. В случае снятия ударности, атонирования применяется знак «атоны». Знак интенсы «/», знак атоны «V».
Малишевский создает довольно стройную теорию, которая дает возможность снять «формально-метрические различия между «стихом» и «прозой», фиксировать многочисленные переходы так называемых раз-
меров (о чем в постановочном плане писал еще Божидар), учитывать особенности различных языков и систем стихосложения и при этом пользоваться единой системой записи.
Постижение теории Малишевского требует значительных усилий, увы, не всегда-адекватных результату. Все обозначения, предложенные автором «Метротоники», легко переводятся в обычную нотную запись. И здесь можно бы упрекнуть автора в напрасном отходе от прямых музыкальных соответствий, в отказе от записи, принятой в музыке, и, как следствие, в излишнем усложнении системы анализа и записи. Такая детализированная запись требует слишком сильного абстрагирования, умения держать в памяти большое количество формул и - главное - быстро находить применение. Однако наши претензии почти снимаются, как только мы начинаем осваивать метротоническую систему и практически с ней работать. Детализация, а именно - обозначение долготы и силы слога, объединение мор в медианты и контрмедианты, выделение доминант и преобразование их в субдоминанты, определение метрических ключей и т. д. - оказывается весь этот обширный инструментарий дает возможность наглядно представить глубинные движения привычного текста, его внутреннюю механику. И хотя, как подчеркивает Малишевский, его теория направлена на уже существующие (стих и прозу!), опыт детального анализа значительно расширяет творческие границы потенциального автора. Так называемое наитие - иррациональное начало творчества - этим знанием не снимается, но углубляется до известного предела, за которым остается непостижимое. Характерно при этом, что углубление достигается внесоматическим вроде бы инструментарием, а эффект возникает как раз соматический. На этом переходе из физического (материального) плана в план психологический (чувственный) по сути дела строится вся авангардная поэтика.
Близким к Малишевскому путем шел поэт и теоретик конструктивизма Александр Квятковский. В работе «Тактометр (опыт теории стиха музыкального счета)», опубликованной в 1929 году, он подверг основательной критике современное ему стихосложение и стиховедение. «Метрика русского тонического стиха вырождается. Ее возможности почти до конца исчерпаны и использованы поэтами», так начинал Квятковский свою работу и продолжал уже в отношении стиховедения: «У нас есть нужные, прекрасные высококвалифицированные бухгалтера и аналитики, взявшие на учет формальные достижения классики. Но и только».
Главной целью поэта-исследователя было найти такую систему, которая помогла бы выйти за пределы стопо-метрического стиха к новому искусству. Он обращается к античной и русской народной поэзии, к силлаби-ке, находит подтверждение своей позиции у многих авторов прошлого и настоящего: А. Радищева, С. Уварова, В. Капниста, А, Востокова, А. Одоевского, О. Сенковского, Р. Вестфаля, Д. Гинцбурга, А. Белого, Вяч. Иванова, Божидара, Ф. Платова (с критикой), Л. Сабанеева и делает вывод: «Т о н и к а как система; чуждая музыке и раньше всего мере ее - такту, окончательно испортила слух поэтов: они перестали слушать и слышать слово» . Чтобы развернуть эту ситуацию, Квятковский для начала обнаруживает в стихах Пушкина, Лермонтова, Одоевского, Фета, Бальмонта, Кузмина, Блока, Маяковского ударники и паузники. Он обращает внимание на то, что «для обозначения длительности количества слогов у греков были приняты особые знаки, которые по существу явились своеобразными нотами, но без указания повышения или понижения». Проведя мощную подготовку с многочисленными примерами отклонения от стопо-метрического (тонического) стиха, Квятковский делает вывод, что «стих имеет тяготение к предельному счетному измерителю: к музыкаль-
ному такту». Теоретик различает два основных вида тактометра: речитативный (эпический) и мелодийный (лирический). «Мелодийный тактометр всегда богаче ритмом, узористей, цветистей и певучей речитативного». Здесь почти переход в пение (хотя Квятковский призывает пользоваться пением с большой осторожностью).
«Решающий момент - это внимательное слушание стиховой речи. Поэт без музыкального слуха, без ритмического чутья - не поэт», - категорически утверждает автор. Здесь же он пишет о растяжении согласных и гласных «фонем», отказе от цезур и рифмы. Не останавливаясь на чистой теории, Квятковский изобретает «тактовую сетку», которая подтверждает его теорию и дает возможность записи нового - тактометрического стиха. Он записывает таким образом «Цыганскую рапсодию» Ильи Сельвинско-го и собственные стихи.
Используется музыкальный метр, неизменность которого гарантирует плавность стиховой линии. В произведении «Санная луната» поэт-композитор дает метр 6/8. Музыка такого метра складывается из двухдольни-ков и трехдольников. В данном случае выбор делается в пользу трехдольника и счетной долей становится четверть с точкой.
При этом учитывается заданный автором темп - «быстро, легко». Здесь нет обозначения тембра и зуковысотности, подобно тому, как вплоть до середины XVIII века композиторы не фиксировали точный инструментальный состав: одну и ту же пьесу могли играть на лютне, клавесине, духовых. Таким образом, тактовая сетка дает возможность довольно точно фиксировать авторский замысел.
Теория, разработанная Квятковским, позволяет ему прогнозировать появление подлинно полифонического стиха для многих и разных (мужских, женских и детских) голосов. Этот стих потребует партитурной запи-
си. «Если инструментальная музыка развилась из одноголосой свирели, то почему и поэзии, которая до сих пор шла одним голосом, не развиться в многоголосую, инструментальную поэзию» .
Здесь же Квятковский говорит о театрализации поэзии, предлагает реформировать актерскую пластику, чтобы привести ее в соответствие с исполняемым текстом.
Фактически Квятковский прямо предсказывал появление саунд и ак-ционной поэзии. «Не имея пока возможности дать хотя бы схематический или эскизный образец вещи в полифоническом стиле, я ставлю этот вопрос как величайшую ритмико-стилистическую проблему, которая может, должна быть и будет разрешена».
Авангардистская уверенность, с которой Квятковский высказывал этот прогноз, во многом оправдалась уже во второй половине века, когда начали складываться национальные модели звуковой поэзии. Хотя подступы были сделаны уже в начале века в России, Германии, Италии, Франции.
Теория А. Квятковского вызревала в недрах конструктивизма, во взаимодействии с поисками И. Сельвинского, Б. Агапова и А.Н. Чичерина (последний говорил о такте еще в 1918 году и вырабатывал свою систему записи поэтического материала). «Тактометр» вышел уже на закате глобального эксперимента. Но закат случился не по вине поэтов и теоретиков, они пока и не думали сворачивать свои поиски. Еще была надежда на продолжение. Еще взаимодействовали немногие оставшиеся символисты и авангардисты. Например, Владимир Пяст, поэт символистской ориентации, живо откликнулся на «Тактометр» и высоко оценил его в успевшей выйти в 1931 г. книге «Современное стиховедение», сочувственно пересказав основные положения.
Георгий Шенгели - поэт, переводчик и стиховед брюсовской школы -
тоже проявил интерес к тактовику и посвятил ему несколько страниц в своей «Технике стиха», отметив, что «такт в какой-то мере похож на стопу, начинающуюся с ударного слога». Кратко изложив свое понимание тактовика, Г. Шенгели сделал весьма перспективное заключение о том, что тактовому стиху предстоит большое будущее. Показательно, что это прозвучало десять лет спустя после выхода «Тактометра», одновренно с выходом «Словаря поэтических терминов» А. Квятковского.
Приверженцем тактовика оставался Илья Сельвинский. Однако его конструктивистское прошлое с экспериментами записи осталось далеко позади, и в последующие годы он пытался вписать тактовик в обычные стихоформы (без индивидуальной записи). Правда, в 1962 г. он выпустил книгу «Студия стиха», где как-то даже несколько пренебрежительно отозвавшись о разработках Квятковского попытался дать собственное определение тактовой формы. Здесь же он подчеркивает, что «строки в тактовой системе не скандируются, а дирижируются» и предлагает заполнять паузу произнесением про себя слога (эс). Все эти весьма упрощенные рассуждения для 1962 года были довольно авангардны и, возможно, оказали некоторое влияние на появившихся тогда «эстрадных» поэтов - Е. Евтушенко, А.Вознесенского и Р. Рождественского. Наконец, в 60-е годы снова начинает выступать в печати сам А. Квятковский. В 1960 году он публикует программную статью «Русское стихосложение», в которой пишет о «Тактометре»: «Общее направление статьи было верным...» и здесь же делает уточнение, что тенденции развития русского стихосложения «сводятся к «раскрепощению» версификации от условностей устарелой теории стиха и раскрытию ритмического процесса с использованием богатейших его внутренних резервов, заключенных в самой структуре такгометрического периода».
Далее еще одно уточнение: «Практика стиха и практика музыки подсказали, что мерой правильных ритмических процессов служит не стопа, не музыкальный такт, а тактометрический период, отсюда тактовая метрика. В теории музыки тактометрическому периоду соответствуют лишь размеры 4/4 и 3/4, остальные такты слишком дробны и мелки». Как видим, глобальный замах «Тактометра» здесь существенно усекается, к тому же, лишенная ореола манифестности, введенная в научную нишу, статья «Русское стихосложение» не имеет той энергетической яркости, что «Тактометр». Свои старые убеждения Квятковскому приходится проводить контрабандно - в «уравновешенном стиле».
Статья «Русское стихосложение», согласно месту публикации (журнал «Русская литература»), имела локальное звучание. В 1966 году Квятков-ский издает «Поэтический словарь», сыгравший и продолжающий играть выдающуюся роль в поэтической ситуации. Здесь он частично восстанавливает свою теорию, однако музыкальные обоснования оказываются во многом потерянными. Тем не менее Словарь вызвал неоднозначные оценки в научных кругах, появившиеся большей частью после смерти автора. Труд жизни А.П. Квятковского «Ритмология русского стиха» остается по сию пору неизданным. В нем исследователь фактически переводит свою начальную теорию целиком в область стиховедения, правда, обновленного. Во «Введении» он обосновывает необходимость изменений и усовершенствований теории стиха: «...Ритмические... формы стиха, как не связанные с языком и больше того, - «навязанные» (по Павлову) поэтам, в большей мере (по сравнению с языком. - С.Б.) подвергаются изменению и модернизации, они обновляются, изобретаются, открываются поэтами в соответствии с теми формообразующими резервами, какие заложены в структуре ритмических процессов, обусловленных природой числа и
его количественно-элементных отношений. Еще более тонка и сложна структура музыкальных ритмов: в основе этих ритмических процессов (стихотворных, музыкальных, танцевальных) лежат одни и те же динамические законы движения».
Наибольшее внимание к теории Квятковского проявил в 60-е-70-е годы М.Л. Гаспаров, который, как он сам пишет, имел возможность «пользоваться драгоценными консультациями открывателя русского тактови-ка» . Хотя Квятковский и не соглашался с теоретическими положениями стиховеда «решительно ни в чем», именно Гаспарову принадлежит честь теоретического закрепления тактовика в современном стиховедении .
Собственно, Гаспаров отделил тактовик от «Тактометра». Проанализировав раннюю работу Квятковского, он сделал вывод: «Таким образом (едва ли не впервые после Тредиаковского и Ломоносова), теория стиха не выводилась из практики, а должна была предопределять практику». Здесь точно уловлена перспектива, то есть по сути речь идет о проективности теории, которая может быть востребована. Однако дальнейшие соображения Гаспарова строятся на традиционном для стиховедения разведении стиха и декламации. В частности, тактометрическое чтение он называет «скандирующим чтением». На самом деле чтение, воссоздающее авторскую пульсацию, поэтическое чтение, вряд ли можно назвать скандирующим. Музыкальный такт - как минимум - мотив, идея. Сочетание тактов - и в музыке и в поэзии - это преодоление скандирующей метрики разрывающей линию чувственной мысли. Эта мысль-идея гармонично перетекает сквозь тактовые сетки, подчиняясь смысловым, а не метрическим ударениям. Можно было бы согласиться с предлагаемым М. Гаспаро-вым определением «декламационный стих», если бы существовал некий «антидекламационный стих», то есть принципиально не подлежащий оз-
вучанию (исключим отсюда поэзию для азбуки глухонемых - жестовую, как не оперирующую понятием «стих»).
Теории, выдвинутые Сабанеевым, Малишевским и Квятковским, направлены как раз на изучение стиха как звучащей материи. Движение в эту сторону возникло, разумеется, не случайно! Тут сказались и декламационная практика поэтов и актеров, и влияние немецких и французских работ по звучащему стиху и лингвистические открытия. В 10-20-е годы появляется множество работ, посвященных декламации: от примитивных руководств по чтению стихов и прозы до серьезных теоретических обоснований нового искусства. Наиболее интересными до сегодняшнего дня остаются работы В. Всеволодского-Гернгросса и С. Бернштейна.
Всеволодский-Гернгросс за десять лет (с 1911 по 1922 гг.) разработал довольно стройную теорию речевой интонации с использованием в том числе музыкальной терминологии. Речевую интонацию он определял как «отвечающую ряду слогов последовательность тонов, могущих, различаться в отношении высоты, силы, темпа и тембра».
Теоретик писал также о речевых тактах, «на которые дробится вся речевая музыка». Изменения элементов интонации он отмечал с помощью графиков. Общая кривая, получавшаяся в результате сложения четырех кривых, становится графическим изображением ритма.
С.И. Бернштейн, разграничивая стих и декламацию, тем не менее замечал, что «изучение звучащего стиха имеет существенное значение не только для теории декламации, но и для теории стиха: в устах тех, кто является типичными представителями языкового сознания в его стиховой функции, - а таковыми являются, прежде всего, поэты, - оно переводит в материальный план общие свойства стиховой системы языка и, тем самым, облегчает их изучение».
Если учесть, что к проблеме звучащего стиха в 10-20-е годы обращаются Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, О. Брик, В. Жирмунский, Е. Поливанов, Л. Якубинский - наиболее яркие филологи того времени, станет ясно, что проблема эта была на острие тогдашних поисков. Очень многое не удалось решить, многое осталось в стороне от возводимых «магистральных путей». Хотя явная неисчерпанность темы ощущалась и после выхода стимулирующих работ названных авторов.
Свидетельство тому - писавшаяся в начале 30-х годов, но открытая только в 90-е, работа Д.Д. Жуковского «Элементы слова». Судя по опубликованному фрагменту Жуковский оказывался своеобразным завершителем этого периода. Прямо он ссылается на Якубинского и Эйхенбаума, но в тексте мы видим соприкосновения с другими авторами 10-20-х годов. Используя достижения символизма и формальной школы, Жуковский выявляет «четыре основных элемента живого слова», проводит их анализ и пытается выйти к новому синтезу. Интересно, что высший синтез - объединение всех элементов - он находит в голосе.
Выплеск музыкально-поэтических идей в первой трети века не был заранее запланирован. Как видно из представленного материала, здесь многое решала интуиция, но та же интуиция подвигала к осмыслению. Пути развития нового искусства уже проглядывались. Казалось, еще немного и возникнет саунд (сонорная, лаут, фонетическая) поэзия. Однако и в России и на Западе в 30-е годы произошел отход от музыкально-поэтического в сторону соцреализма и сюрреализма (совершенно иная тема - соприкосновение двух этих ведущих направлений 30-50-х годов, переход, например, Арагона от сюр- к соцреализму).
На Западе возврат к музыкально-поэтическому происходит уже в 50-е годы. К настоящему времени во многих странах существует развитая са-
унд-поэзия. В СССР это было невозможно по причине запрета на любой отход от «классической традиции». Но в 60-е, годы и в СССР складывает^ ся новая ситуация. Переиздаются работы Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума, вновь начинает действовать А. Квятковский, новое дыхание обретает стиховедение. Поэтическое чтение с появлением Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского и авторской песни (прежде всего А. Галич, Н. Матвеева, Б. Окуджава, В. Высоцкий) приобретает большую открытость, повышает значимость звучания, отчасти возвращает понятию «просодии» ее исконное значение.
В это же время появление поэтического театра (Театр на Таганке и под его влиянием, по тогдашней номинации «самодеятельные» театры в Иванове и Тамбове), новый взлет чтецкого искусства и новое осмысление декламации, хотя и не столь яркое, как в 20-е годы, и почти без учета важных работ того времени.
Одной из немногих принципиально новых работ 60-х годов можно признать книгу C.B. Шервинского «Ритм и смысл». C.B. Шервинский в своей поэтической практике был весьма далек от крайнего авангардизма. Выученик брюсовской школы, он гораздо ближе в своем мировоззрении к символизму, чем к последующим течениям. Но поскольку он много занимался проблемами декламации (еще в 1935 г. было издано его пособие для чтецов «Художественное чтение») и в молодости, судя по всему, слушал М. Малишевского, с которым общался и впоследствии, то его взгляд на звучащий стих оказывался много шире общепринятого.
Шервинский пользуется термином «стихология», а его «теория временных компенсаций» фактически является сильной адаптацией теории Малишевского в новых условиях.
Показательно, что Шервинскому приходится всячески оговаривать
свою позицию. Он пишет: «Метод, примененный в данной работе, не совсем обычен: он основан на изучении произнесенного стиха с раскрытием его содержания и с логической и с эмоциональной стороны». И тут же подкрепляет выбор метода ссылкой: «Некоторые авторитетные стихоло-ги, например .Андрей Белый и Б.В. Томашевский, нередко обращались в своих работах к стиху произнесенному». Как его предшественники 40 лет назад, Шервинский вынужден снова говорить об отсутствии знаков для обозначения высотности, тембро-динамики и т. д.
Несмотря на крайнюю осторожность Шервинского в обращении с отринутыми теориями, в анализе и выводах, его книга встретила в основном негативную реакцию. Резкая критика, в частности, содержалась в работах Б.П. Гончарова. В то же время появление в 1973 году книги самого Гончарова «Звуковая организация стиха и проблемы рифмы» было весьма симптоматично. Он был даже единственным на тот период автором, кто вспомнил о музыкально-поэтических теориях, правда лишь затем, чтобы подвергнуть их критике.
Рассматривая стих как «семантико-звуковое структурное единство», а ритм, как «звуковое явление», в небольшой главке «О музыкальных теориях стиха» Гончаров критикует слишком сильное сближение стиха и музыки в трудах А. Кубарева, Д. Гинцбурга, М. Малишевского, А. Квятков-ского, С. Шервинского, И. Сельвинского, затрагивает и практику Ф. .Платова. Смысл критики, увы, сводится к тому, что законы музыки и поэзии различны: «стих - явление речевое, а не музыкальное», «музыка характеризуется фиксированной длительностью, отсутствующей в стихе», «понятие такта неприменимо к стиху, ибо такт - категория, свойственная музыке. Поэтому «тактового» стиха в точном смысле этого слова не существует в действительности».
В данном случае сказалась четкая установка автора на предельное разграничение стиховой речи и музыкальной. Полезное в определенные моменты (эпоха классицизма, учебный процесс) разделение видов (и жанров) искусств ко времени написания книги было пройденным этапом. К 1973 году мировая музыка и поэзия уже многократно меняли направленность своих возможностей («выразительных средств»), не говоря уж о том, что древняя европейская и современная восточная музыкально-поэтическая эстетика предполагает синтез этих искусств и полностью опровергает постулаты разграничительной нормативности.
Итак, музыкально-поэтические теории фактически остаются за пределами научного и вообще какого-либо интереса вплоть до конца 80-х годов, а публикации о них появляются и вовсе только в 90-х. В 80-х годах, в связи с общей либерализацией жизни и открытием контактов с миром, звучащая поэзия получает новый импульс. Наряду с западными сауцд-поэта-ми в России становятся известными русские поэты-эмигранты, работающие со звуком: Е. Мнацаканова, И. Бурихин, В. Шерстяной. Валерий Шерстяной, живший вначале в ГДР и остающийся сейчас в Германии, в своих звуковых композициях органично соединяет достижения русского заумного футуризма, немецкого дадаизма и современной немецкой лаут-поэзии. Он создал свою звуковую страну - ЬАШЪАМО, в которой виртуозно работает звуком. Его записи выходят в Германии наряду с записями ведущих немецких лаут-поэтов. Игорь Бурихин, живущий в Германии, а в последние годы едва ли не большую часть времени - в России, разработал особый стиль звучащей поэзии, восходящей к русскому литургическому распеву. Это довольно обширные композиции, в которых на протяжении отдельных фрагментов меняется тональность, громкостная динамика, чтение переходит в распев.
В России саунд-поэзию развивают несколько авторов, Ры Никонова, Сергей Сигей, Дмитрий Булатов - довольно близкую к той, что существует на Западе. Ры Никонова, в частности, использует приемы конкретной музыки, разумеется, по-своему их преображая. Борис Констриктор вместе со скрипачом Борисом Кипнисом создает своеобразные музыкально-поэтические композиции, в которых голос и инструмент не только, взаимно дополняют друг друга, но и меняются функциями. Александр Горнон работает в изобретенной им самим форме «фоно-семантики», особого интонирования слов, с использованием метатез. Сергей Проворов создает стиль, который можно назвать русской психоделией, это богатый распев с элементами причета. Сергей Завьялов использует древнегреческую и латинскую просодические системы. Лариса Березовчук заново открывает силлабику украинского барокко, осложняя ее современным музыкальным интонированием.
Регулярные поэтические чтения в Тамбове, цикл вечеров «Изречения», прошедший в 1997 году в рамках инициированной Ларисой Березовчук «Мастерской просодики» (Санкт-Петербург, Фонтанный Дом) - дополняют картину современного состояния звучащей поэзии. В обширном отклике на выступление в «Мастерской просодики» киевской поэтессы Леси Тышковской Л. Березовчук раскрывает в том числе и обоснование принципов «Мастерской», подходы к отбору поэтов. Здесь может участвовать любой поэт, «для которого приоритетен в образно-смысловом, плане момент чтения своих стихов, тщательная и специальная проработка интонационного, ритмического, темпового и даже тембрового рисунков в произнесении». Л.Березовчук в нескольких публикациях призывает К осмыслению опыта исторического авангарда, его развитию и созданию новых прецедентов, как текстовых, так и теоретических. В частности, будучи
профессиональным музыкантом, она активно разрабатывает «поэтическую темперацию» и воплощает ее на практике с группой своих учеников.
В работе «Новая риторика»: на пути к речевому многоголосию», опубликованной в 2004 году, Березовчук намечает новые возможности записи поэтического текста в связи с проверенными на практике приемами. Запись текстов здесь существенно отличается от обычной. Это уже не стихи в привычном понимании, это вообще не литературные тексты, а тексты, которые можно назвать конвергентными, в которых сплавлены стихов ворное, драматургическое, музыкальное, визуальное.
Эти «новориторические» построения показывают, что музыкально-поэтические теоории начала века были во многом проективными. О появлении многосоставных поэтических полотен говорил Сабанеев, о том, что поэтическое искусство будет идти в сорону музыкальных построений писали Малишевский и Квятковский. Таким образом мы видим, что авангардные предсказания продолжают сбываться. При этом, разумеется, ни о какой догматичности речи не идет. Речь идет о разработке путей, о движении по ним и об изменении вектора движения.
3. К групповому портрету футуризма.
С 90-х годов 19 века на сцене русской поэзии действуют символисты. Они хорошо знакомы столичной читающей публике. В провинции представление об этих поэтах чаще всего довольно смутное, почерпнутое из газетной хроники. Однако новое движение ширится, разными путями элитарные журналы и книги доходят до самых отдаленных мест. И хотя в руки гимназистов и «реалистов» попадают произведения не всегда главных символистов, даже не в самых сильных и характерных стихах угадывается общее новое движение.
Вскоре на подмостках Москвы и Петербурга появятся необычные поэты. В отличие от высокоученых предшественников почти все участники нового поэтического движения так и не получат систематического образования, но их успех будет оглушительным, их влияние на развитие поэзии и искусства вообще окажется принципиально важным, даже в самой отдаленной перспективе. Символистское движение еще не угасло, а на сцену уже вышел футуризм. Пока этого названия не было, движение не оформилось, будущие его лидеры искали поддержки у старшего поколения. Хлебников появляется на «башне» у Вячеслава Иванова. Игорь Северянин (Лотарев), Вадим Шершеневич посылают свои первые опыты Брю-сову. Вскоре Игорь Северянин, напутствуемый Федором Сологубом, станет звездой поэтической эстрады. Но северяниновская поэтика была сильно прикреплена к традиционному стиху. Вхождение других поэтов в искусство оказалось непростым.
Несмотря на то, что личные отношения между новыми авторами и поэтами символистского круга могли быть вполне приязненными, путь в литературу через символистские журналы и издательства был закрыт. Символисты сами с немалым трудом добивались стабильного положения и не желали так просто уступать его «недоучкам». Правда, было, например, такое соображение, высказанное Вячеславом Ивановым в 1914 г. в разговоре с Н.Асеевым. Асеев пересказывает: Вяч. Иванов "признавал, что творчество Виктора Хлебникова - творчество гения, но что пройдет не менее ста лет, пока человечество обратит на него внимание", поэтому вопрос о помощи поэту - это вопрос о вмешательстве в судьбу: "Я не могу и не хо- • чу нарушать законы судьбы. Судьба же всех избранников - быть осмеянными толпой".
Идеи футуристов складывались на пересечении разных искусств, где едва ли не главным было изобразительное. Алексей Крученых не без основания утверждал, что все футуристы начинали как художники, надо добавить, что многие ими и оставались. Маяковский, Давид Бурлюк, сам Крученых, Елена Гуро ... Вполне естественно, что их ближайшее окружение состояло из художников, таких же молодых и одержимых новыми идеями. Так называемое левое искусство формировалось в мастерских и выставочных залах под влиянием вначале импрессионизма, а затем кубизма, в совместных изданиях поэтов и художников. Издания эти по бедности выходили на плохой бумаге, печатались в захудалых типографиях или вообще вручную, литографским способом. Бедность рождала особую эстетику - можно было в нескольких экземплярах изготовить рукописную книгу, напечатать манифест в виде листовки, отпечатать книгу на обоях, воспользоваться тем набором литер, который имелся в типографии, если не хватало литер одной высоты, брали разновысотные и т.д. Даже цензурные изъятия получали художественное оправдание. Поэма Маяковского «Облако в штанах» вышла с обилием точек вместо строк - «цензура дула», - сказал поэт. А это воспринималось как прием. Типографские трудности со знаками препинания тоже легко преодолевались, от знаков просто отказывались.
Если символисты относились к книге и журналу как к произведению искусства в рамках господствующих на тот момент представлений, то футуристы все эти представления взрывали. Крученых пришивал к книге огромную пуговицу - и это был выход за пределы книги, включение ее в «жизнь». Василий Каменский печатал книгу на обоях, перемежая обратную сторону с лицевой, и как бы помещая текст в пространство комнаты: текст оказывался перед стеной. Смысл простой, но отнюдь не сразу постигаемый.
Такие новшества в сочетании со скандальными названиями книг и альманахов - «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Облако в штанах», «Танго с коровами», «Лакированное трико» и т.п. - провоцировали на резко полярное отношение: неприятие или одобрение. Прибавим к этому активность устных выступлений. Уже символисты много читали с эстрады, например, Бальмонт. Но именно футуристы ввели поэтические чтения в систему.
Вырабатывая язык поэзии не только в книгах, но и в жизни, они пошли дальше символистов. Поэт становился как бы ожившей книгой, где афиша вечера была обложкой. Само чтение стало фактом поэзии, а не просто ознакомлением с текстом. Не только даже авторская трактовка, но и само произведение. Здесь, на глазах, рождающееся. Это было близко к тому, о чем говорил выдающийся русский художник XX века Василий Кандинский: "не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить".
Итак-обложка=афиша: разновысотные буквы, ударные названия докладов. Далее - сам поэт. Здесь особо выделялись кубо-футуристы: Давид Бурлюк, Василий Каменский, Владимир Маяковский. У Бурлюка лорнет, пестрый жилет, Каменский в некоей кофте с несимметричными лацканами, Маяковский в так называемой желтой кофте, на самом деле полосатой (черные и желтые полосы), сделанной из портьерной ткани. У Бурлюка на щеке нарисована собачка, у Каменского - на лбу аэроплан. Василий Васильевич был одним из первых русских летчиков и именовался на выступлениях как поэт-авиатор. Ранняя авиация была делом футуристическим и поэтическим. Достижения в небе вполне могли быть приравнены к достижениям в поэзии. Полет мог окончиться катастрофой, как провальным могло стать поэтическое выступление. Для футуристов это было со-
поставимо. Катастрофой окончился показательный полет Каменского над польским городом Ченстоховом. Местные газеты дали сообщения о его гибели, которые серьезно покалеченный поэт-авиатор, читал, лежа на больничной койке и, как он сам писал позже, испытывал при этом удовольствие.
Характерно название мемуаров Каменского, которые он выпустил в 1931 году, - «Путь энтузиаста». Футуристы были одержимы движением. Опьяненные собственной молодостью, талантливостью, они придумывали все новые и новые трюки, чтобы ошеломить публику, заразить ее своими идеями. Их выступления можно сравнить с выступлениями рок-певцов 60-80-х годов XX века. Необычные костюмы, сильные голоса, раскрашенные лица, какой-нибудь трюк на сцене, вроде рояля, подвешенного за ножки над головами выступающих, нарочитый антиэстетизм в стихах. Даже присутствие полицейских в зале вписывалось в контекст представления ...
Сейчас, спустя почти столетие, после первых выступлений, это движение все более видится как единое.
Группа кубо-футуристов, или «Гилея», была наиболее сформированной, активной и мощной по составу. Она же к сегодняшнему дню наиболее изучена, благо один из первых и крупнейших исследователей творчества гилейцев - Николай Иванович Харджиев - родился в той же Гилее, т.е. Таврической губернии. Теоретический и практический потенциал определял Велимир Хлебников, называвший себя и своих друзей будетлянами. Давид Бурлюк был действительно «отцом русского футуризма», неутомимый организатор выставок, изданий, диспутов, гастролей. Рядом с ним были два его талантливых брата - художник Владимир и поэт Николай. Далее - Василий Каменский, Владимир Маяковский, Бенедикт Лившиц,
Алексей Крученых. При всей разнице в подходах к искусству все они были устремлены, как это видится сейчас, к одному - к раскрытию того огромного потенциала слова, который не удалось вскрыть до них символистам, не удавалось и акмеистам. Еще - рядом - Елена Гуро, поэт и художник тончайших нюансов. Ее книгу «Шарманка», вышедшую в 1908 г., Д.Бур-люк называл первой футуристической книгой. Рядом Михаил Матюшин, муж Гуро - музыкант, художник, теоретик, исследователь, переводчик и издатель, тихое имя которого до сих пор прячется в тени имен более громких. Рядом Николай Кульбин - приват-доцент Военно-Медицинской академии - художник, и теоретик, собиратель авангардных сил в искусстве. Рядом художники, составившие целую эпоху в русском искусстве: Ольга Розанова, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов, а также Александра Экстер, Марк Шагал, Владимир Татлин.
Давид Бурлюк умел находить единомышленников, объединять и объединяться. Но сама художественная ситуация была такова, что в течение нескольких лет в России был совершен гигантский скачок к самым современным формам искусства, охватывающим поэзию, изо, театр, музыку. Следует сказать, что почти все названные здесь художники не только писали оригинальные стихи, достойные включения в самую строгую антологию русской поэзии, но в своем искусстве они действовали по законам поэзии. Это новое понимание лучше других сформулировал Казимир Малевич: «Поэт есть особа, которая не знает подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает, какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании.
Он сам как форма есть средство, его рот, его горло - средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т.е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он поэт закован формой, тем видом, что мы называем человеком.
Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя и каждый удар летит в мир».
Гончарова и Ларионов, Розанова и Филонов оформляли книги будет-лян, но фактически они выступали соавторами этих книг. Был создан новый тип книги, где изображение и слово стали взаимопроницаемыми. Так начиналась «визуальная поэзия», которая получит в дальнейшем довольно большое распространение на Западе, а в последние годы века начнет укрепляться и в России.
Формально «Гилея» просуществовала недолго. В 1913 г. умирает Елена Генриховна Гуро, которая не безоговорочно принимала разнонаправленные устремления своих друзей, но духовно скрепляла группу. Б.Лившиц уходит на фронт и после ранения надолго оседает в Киеве. Война и революция разметали будетлян в разные стороны. Хлебников надолго затеряется в своих странствиях в сторону Востока и дойдет до Персии. Крученых будет офутуривать Закавказье, в Тифлисе он создаст группу «41°», откроет там интереснейшего, многоодаренного Игоря Терентьева, вновь встретится с Ильей Зданевичем, давним знакомцем по Петербургу, побывает и в Баку. Каменский тоже - то на Кавказе, то на родном Урале. Бур-люк совершит заключительное путешествие по России - через Урал и Сибирь на Дальний Восток, откуда отбудет в Японию, а затем в США. При этом всюду он продолжает свою неутомимую футуристичекую деятельность, прививая футуризм то башкирам, то японцам, то, наконец, американцам. Впрочем, в Америке, несмотря на большое количество предпри-
нятых акций, успех будет не столь велик. И он постоянно будет стремиться в Россию, то есть к своему прошлому, а не к будущему ...
В начале тех же 10-х годов в течение нескольких лет складывалась другая группа - эго-футуристов. Центром ее стал фантастически знаменитый Игорь Северянин. Названия группы менялись: «Ego», «Академия эгопоэ-зии», «Интуитивная ассоциация». Однако эго самого Северянина оказалось настолько несовместимо с участием в группе, что вскоре он порывает с ней и отправляется в свободное плавание по волнам поэзии, развивая по сути дела традиционный тип мелодического стиха. Состав эго-футур-группы менялся, одни уходили, другие приходили, менялись позиции, направление движения и т.д. При этом в небольшой промежуток времени эго-футуристам удалось выпустить немалое количество (по названиям) различных изданий и ненадолго попасть в поле зрения критики.
Наиболее интересными авторами в этой нестабильной группе были Иван Игнатьев (Казанский) и Василиск Гнедов. Иван Игнатьев играл роль объединительного центра, вокруг него все вращалось, он занимался издательской деятельностью, пропагандой и т.д. Но в январе 1914 г. Игнатьев в возрасте 21 года неожиданно покончил с собой. На этом деятельность группы фактически прекратилась.
И.Игнатьев азартно искал новых путей в искусстве и умел видеть новое в деятельности других. Так, он с большим интересом относился к обретениям Крученых, и с особым вниманием к соратнику по эго-группе Василиску Гнедову. Его собственные стихи отличались повышенной экспрессивностью, что подчеркивалось не только лексикой, изломом метра, но и обилием вопросительных и восклицательных'знаков, выделением слов прописными буквами, анаграммированием отдельных слов.
Сейчас, зная историю мировой поэзии, мы можем отнести такие сти-
хи Игнатьева к экспрессионизму, который в России был заменен отчасти футуризмом, отчасти более поздним имажинизмом. Иван Игнатьев был Предтечей ...
Появившись в 1912 г. в Петербурге 22-летний техник-механик из Ростова-на-Дону Василиск Гнедов в два года сделался знаменит, публикуясь лишь в эго-футурных изданиях, но выступал каждый раз с новым изобретением. «Такой темп в изобретении и обновлении поэтотехники не был свойствен ни одному другому русскому поэту-авнгардисту 10-20-х гг.,» - пишет пристальный исследователь творчества Гнедова Сергей Сигей.
Стихи Гнедова удивительны даже для этого удивительного периода русского искусства, когда уже были Хлебников, Крученых, Каменский, Гу-ро. Гнедов, начинавший с подражания Северянину, в первых же опубликованных стихах дал поразительный сплав южно-русского просторечия с ультрасовременным синтаксисом, с эхо-распевом, со слиянием слов в строке. Самой радикальной его вещью стала «Смерть искусству», книжка, включающая в себя 15 однострочных поэм, причем две поэмы - 11 и 14 -состояли из однобуква: соответственно - «У» и «Ю», а 15-я называлась «Поэма конца» и представляла собой белый лист. Гнедов читал эти поэмы с помощью своего рода дирижерских жестов, а последнюю, естественно, безвучно, замещая чтение ритмодвижением руки.
Так называемые «прозаические» вещи Гнедова представляли собой как бы перевод стиха в прозу или извлечение поэзии из прозы.
Лишь излишне замороченному сознанию стихи Гнедова, несущие в себе ясный и чистый отблеск фольклорного начала, могли показаться вызывающими и грубыми. Грубость скорее можно обнаружить в стихах Брюсова или Блока, чем у Гнедова.
У футуристов всегда было много игры, выдумки, а Гнедов, на наш
взгляд, воспользовался совсем простым приемом переиначивания слов, как это обычиио делают дети, шифруя обыденную речь переменой букв, перестановкой слогов. Хотя в формировании стиля Гнедова, возможно, сыграли свою роль опыты Хлебникова, также восходящие к детству - реального ребенка и общечеловеческому.
В своем очень небольшом наследии 10-х годов Гнедов оставил столько проективных открытий, найденных им как бы мимоходом, без видимых усилий, что этого хватило бы целому поэтическому коллективу. Однако все это оставалось невостребованным десятки лет. Судьба Гнедова-поэта столь же фантастична, как и его открытия. После смерти Игнатьева Гнедов заболевает, а с началом войны попадает на фронт, где пробыл до 1916 г. (контузия и георгиевская медаль «За храбрость»). Его стихи появляются в печати лишь в 1918 г. - всего два, и одно в 1919 г., опубликованное харьковским журналом «Пути творчества» без ведома автора. По невероятной случайности это стихотворение было о «лебедином пении» и стало как бы лебединой песней Гнедова.
Интересно, что стилистически оно предваряет стихи Гнедова 60-70-х годов, внешне вроде бы достаточно спокойные, но изобилующие алогизмами. О стихах поэта 20-30-х годов ничего не известно. В это время он живет на Украине, где его вслед за женой - Ольгой Пилацкой - арестовывают в 1938 году. Он провел в лагерях около двадцати лет. После освобождения живет вначале в Киеве, затем в Херсоне, где и умирает в 1978 г. Гнедов, не будучи членом «Гилеи», находит последний приют в том месте, откуда родом Крученых, где жили Бурлюки, и таким образом как бы замыкает цепь российского футуризма.
Однако в самой цепи были еще звенья. В 10-е годы футуризм был настолько привлекателен для поэтической молодежи, что в его орбиту не-
вольно втягивались многие начинающие в то время. Так, Вадим Шерше-невич образовал группу «Мезонин поэзии», в которую входил Константин Большаков и Рюрик Ивнев. Большаков - тематически и интонационно близкий Маяковскому, написавший ряд ярких стихов, очевидно в какой-то момент не выдержал столь сопоставительно-близкого пути и перешел на прозу. Шершеневич, не добившись особых успехов в «умеренном футуризме», после 17-го года вместе с С.Есениным и А.Мариенгофом успешно выступит в крайнем имажинизме. Несколько отдельно действовал в это время Илья Зданевич, примыкавший к группе художников, мотором которой был Михаил Ларионов. Зданевич активно участвовал в диспутах, в единственном выпуске альманаха «Ослиный хвост и Мишень» (таковы были названия группы Ларионова). Впоследствии в Тифлисе он будет взаимодействовать с Крученых, они создадут групу «41°», которая также войдет в историю литературы.
В 1914 году ученик Андрея Белого по занятиям стиховедением Сергей Бобров организовал группу «Центрифуга», в которую входили Николай Асеев, Федор Платов, Борис Пастернак. Эта группа была интересна попыткой соединения новейших достижений поэзии. Асеев и Пастернак прошли долгий путь в искусстве. После революции они оба были с Маяковским в ЛЕФе. Затем Пастернак сделал решительный поворот к неоклассике. Асеев же шел в русле стиха позднего Маяковского. Как напишет в 60-е годы А. Вознесенский в стихотворении, обращенном к Маяковскому, «оставались Асеев и Пастернак».
Чтобы понять природу общего движения необходимо обратиться к индивидуальным программам. Любое движение складывается из индивиду-алзных стратегий, но в авдангарде это особенно заметно.
Велимир Хлебников входил в наиболее яркую футуристическую груп-
пу «Гилея», но практически не принимал участия в тех «шоу», которые устраивали его друзья. Он мог, конечно, присутствовать на сцене и даже «выступать», но это было молчаливое присутствие. Внешне он вообще как бы выпадал из времени. Его можно сравнить с подземной рекой, которая отличается от обычной реки тем, что воды ее скрыты; местами она может выходить на поверхность, но главное ее предназначение - быть невидимым источником того, что растет на поверхности.
Хлебников захватывал все пространство русской поэзии, входившей в классический свод, актуализируя при этом оставленное в XVII и XVIII веках. С другой стороны - в поле его зрения постоянно находилось все, что располагалось на периферии русской поэзии, то, что отбрасывалось, как игровое, шуточное. И наконец - он стремился «найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова». Это он называл «первым отношением к слову», ибо в перспективе предстояла «плавка» не только славянских слов, а «единый смертных разговор», «Единая Книга», «звездная азбука». В этом была его глубинная народность, ибо народу всегда мало его языка, он постоянно выходит за пределы уже существующего словаря.
Хлебников - огромное явление в русской культуре, можно сказать, ключевое. Он осуществил третью реформу русского стиха (первые две - соответственно - Ломоносов и Пушкин). Долгое время это и не осознавалось и не признавалось, сначала по соображениям литературной борьбы, затем по идеологическим установкам. Влияние Хлебникова испытали не только его ближайшие соратники, но и многие поэты и прозаики эпохи. Под знаком Хлебникова развивались Н.Заболоцкий, Д.Хармс, А.Введенский, Л.Мартынов, Н.Глазков и многие другие деятели искусства нового времени.
Итак, Хлебников - центральная фигура века. Он решительно переменил вектор поэзии, направив его в сторону языка. Он стал писать как бы не на языке, а самим языком. При этом язык понимался не как что-то застывшее, раз и навсегда данное, а как постоянное движение изменчивой материи. Он говорил, что язык постоянно творится его носителями, значит должен твориться й поэтами. Хлебников не просто пишет стихи, а разрабатывает абсолютно новую систему поэзии. Причем, в отличие от Тредиаковского и Ломоносова, а также реформаторов начала XIX века (Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин) и начала XX века (символисты), опиравшихся на западноевропейский опыт, он действует, исходя из потенциала русской поэзии как языкового явления. Язык становится основанием новой поэтики, в то время как раньше основанием служили тематика, формы, жанры. Отдельное слово уже несет в себе поэзию («слово как таковое»), отдельный звук - уже поэзия.
У Хлебникова нет черновиков в общепринятом понимании. Его многочисленные варианты - это по сути другие тексты, в которых могут быть . использованы фрагменты предыдущих текстов, но вступая в иные отношения с новым текстом, они приобретают иное качество. Хлебников писал каждый раз набело, но написанное словно не поспевало за ним. Он каждый раз уходил. И здесь парадокс: мы следуем за Хлебниковым в хронологической последовательности, установленной исследователями, но в то же время будто бы стоим на месте, ибо самое раннее у него взаимодействует с поздним -
И я свирел в свою свирель.
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок.
Как видим, уже в этом, одном из ранних стихотворений, Хлебников идет к объективации, при которой Я поэта сливается с миром. Р.В.Дуга-нов, сопоставляя стили Пушкина и Хлебникова, пишет: «Здесь слово не рисует, не описывает чудеса и видения, а само является таким чудом и видением, таким «невиданным зверем» и «неведомой дорожкой». И все это происходит не где-то «там», а прямо здесь - в слове, в самом языке. По сути дела, новый строй Хлебникова начинался с того, что устраняя литературное «как бы», устраняя условную предметность, он прямо погружался в сказочный мир языка, который, собственно и есть непосредственная действительность народного сознания». Говоря о том, что хлебниковское слово «не называет, а порождает предмет во внутреннем представлении», и что Хлебников стремится «утвердить поэзию как функцию народного слова», Р.В.Дуганов особо подчеркивает: «Но не того слова, которое есть или даже будет, а того слова, которое может быть».
Это вовсе не значит, что Хлебников отказался от бывшего или существующего слова. Напротив - в поле его зрения как бы весь словарь, во всяком случае, невероятно большая его часть, почти немыслимая в пределах одного человеческого ума. Поэтому и выход в заумь, поиск за умом, в сверхумном пространстве.
Хлебников появился в Петербурге в предзакатье символизма. Пристально вчитывался он в книги Вяч.Иванова и Михаила Кузмина, Андрея Белого и Александра Блока. Был принят на «башне» Вяч.Иванова, но слишком сильная самостоятельность помешала ему стать послушным учеником, при том, что на первом этапе просматривались явные совпадения устремлений.
В 1922 г., году смерти Хлебникова, М.Кузмин писал о нем, что непонятность его творений мешает их восприятию. Разумеется, «понятность» в представлении Кузмина разнилась с той понятностью, которую требовали бульварные газетчики 10-х годов или слишком идеологизированные литераторы советского периода. Сам Хлебников, вероятно, много раз слышавший слова о непонятности его поэзии, предлагал обратиться к непонятному языку молитв и заклинаний, он подчеркивал сугесстивность старославянского и латинского, языка Вед.
Может показаться, что Хлебников дает слишком простой ключ к своей поэзии. Но это действительно тот самый ключ. Люди, читающие Хлебникова с детства или сохранившие в себе хотя бы уголок «нежной» детской души, легко входят в его мир.
Уже в ранних стихах Хлебникова тонко соединились фольклорное детское начало с переведенным в наивный план символизмом.
К фольклору, мифологии на новом уровне впервые обратились символисты. Они были в этом почти непосредственными последователями русской фольклорно-мифологической школы XIX века, представленной именами Афанасьева, Буслаева и др. Заслуга символистов в актуализации фольклорно-мифологического плана культуры безусловна. Однако они невольно нарушили одно из важных оснований фольклорно-мифологи-ческого - его наивность. Это в общем понятно, ибо фактически возрождался пласт культуры, почти ушедший из живого бытования. Знание этого пласта становилось свего рода признаком владения культурой. А такое отношение вело к простой реставрации, но вовсе не к возрождению. Говоря фольклорно, символисты стали здесь «мертвой водой», «живой водой» пришлось стать футуристам-будетлянам, прежде всего Хлебникову, а рядом с ним и на его фоне - Гуро, Каменскому, Крученых, Гнедову.
Правда, Блок в «Поэзии заговоров и заклинаний» (1906) вплотную подошел к пониманию того, что « вопросы о тайнах мира вовсе не носили и не носят в народе характера страдальческой пытливости, так свойственной нам». «Без всякого надрыва, - писал он, - они принимают простой, с их точки зрения, ответ, в меру понимания. То, что превышает эту меру, навсегда остается тайной». В то время Сергей Городецкий выпустил книгу «Ярь», в которой «нормальный» стих фактически вступал в противоречие с фольклорно-мифологической ориентацией поэта. Вяч.Иванов в книге «Эрос» связывал античную и славянскую мифологию стихом, напоминающий ломоносовский и даже более утяжеленным. Вот начало его стихотворения «Жарбог»:
Прочь от треножника влача, Молчать вешунью не принудишь; И жала памяти топча -Огней под пеплом не избудешь.
Действительно, это производило впечатление «огня под пеплом», наружу огонь не проорывался. Прорыв осуществил Хлебников. И у нас есть прямой пример «переклички» с Ивановым: Жарбог ! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Жарбог! Жарбог! Волю видеть огнезарную Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок наших дней.
На первый взгляд это стихотворение не менее сложно, чем ивановское. Но сложность и простота в нем задаются одним и тем же путем - неожиданным словом, как бы освещающим миф о Жарбоге изнутри. Обратим внимание на некоторые необычные слова слова: грезитва = грезить + молитва; жарирей = журавлей, снегирей; огнезарную - чередование з/ж, сто-жарную - от Стожары, название созвездия. Таким образом, неожиданное, новое слово, во-первых, образуется по традиционным словообразовательным моделям, во-вторых, корнево прикреплено к такому известному имени, как жар-птица, например. Хотя самого Жарбога в славянском пантеоне нет, но его можно отождествить со Сварогом, чье имя связано с огнем (svar - санскрит. - «солнце», «сверкать»), Сварог выступал как дух огня.
Хлебников, рано осознавший равноправие не только различных вер, языков и культур, но всего сущего на земле и в космосе, в то же время приходит к мысли о гениальности, как об особой способности «к схватыванию аналогий». В девятнадцатилетнем возрасте Хлебников пишет своего рода философский трактат под названием «Еня Воейков», где устами героя излагает взгляды, которые станут определяющими для всего его творчества и которые тем не менее не следует воспринимать как единственные. Ибо взгляды Хлебникова постоянно меняются и корректируются. Процитируем: «А Декарт, а Спиноза, а Лейбниц ? Что сделало их гениями ? Независимость от вида, свободное состояние дало им возможность сохранить присущую детскому возрасту впечатлительность, способность к синтезу, pao положению к схватыванию аналогий; словом, они не только сохранили большую впечатлительность и подвижность ума; ум их был чувствительным прибором для улавливания аналогий, законосообразности, законо-
мерного постоянства, и поэтому он ее улавливал там, где не улавливал ее обыкновенный человеческий ум с обычной чувствительностью».
В поэзии Хлебников также далеко шагнул в сторону «от вида». Обратим внимание на парадоксальное определение ума как «чувствительного прибора». Эта особая «чувствительность», «впечатлительность» самого Хлебникова позволяла ему представить «наимал слуха», как «наимал ума», значимость атома слова - фонемы-звука. Хлебников углубляется через наималы как бы в ЗА слово, пытаясь проникнуть в его первородный смысл. Вообще вся его поэтика: использование имен, словотворчество, числа, диалогизм, полифонизм, полиритмия - это движение к выявлению той тайны, которая остается нераскрытой, потому что постоянно шифруется. Она вроде бы открывается Хлебникову, но вновь скрывается уже в его тексте. Возьмем такое известное стихотворение как «Заклятие смс-хом».Хлебников вроде бы ставит перед собой чисто формальную задачу -по «скорнению», «сопряжению» слов. Он работает как бы просто с языком, стремясь максимально выявить возможности корневого гнезда, к которому принадлежит слово «смех». Заметим, кстати, что на мысль о «скорнении» Хлебникова мог натолкнуть Словарь В.ИДаля, построенный на словесных гнездах. Однако Хлебников не просто выписывает лексемы в корневой связке, а строит из них произведение, довольно сложно разработанное, в котором начальный посыл получает усиление видоизменением слова: мало того, что «смеются», но еще «смеются смехами», мало, что «смеянствуют», но делают это «смеяльно» и тд. Это динамика стиха, а вот и статика - повтор одного слова: «См'ейево, см'ейево». Однако динамика и статика находятся в более сложных отношениях, тут все зависит от прочтения вслух, мы можем сами ускорять или замедлять темпы, варьировать интонацию. Перед нами своего рода ийех! - в практике бароч-
ных композиторов (например, Баха) текст без указаний темпов, штрихов, динамики, состава исполнителей, инструментов, такое произведение можно исполнять на скрипке, флейте, петь и т.д. «Заклятие смехом» содержит в себе многообразные возможности трактовок.
Можно прочесть «Заклятие» как легкую пьесу - скерцо. Возможно ли-рико-трагическое прочтение. Само слово - «как таковое», взятое даже в самом чистом виде, не только не избавляется от различных смыслов, диктуемых интонацией и представлениями, но и обнаруживает все эти «примеси». Хлебников ставит формальную задачу, и в результате получает множественность смыслов. Корневое «сопряжение» выявлено, но однозначное толкование невозможно. Ибо само «скорнение» шифрует прямой смысл. И мы уходим за него, обновляя наше представление о смехе, как о чем-то однозначном - смешном, например. Здесь гамма, веер смеха. В том числе мы можем вспомнить, что психофизиологические области смеха и плача сильно связаны. Если смех или плач только слышишь, не видя человека, то не всегда можно определить - плачет он или смеется.
Итак, «Заклятие» вскрывает смыслы, но тут же шифрует их, побуждая ко все новым прочтениям.
Еще больший диапазон прочтений вызвало стихотворение всего из семи строк, появившееся в печати в 1913 г. и с тех пор не перестающее тревожить воображение филологов.(Р.О.Якобсон, Ю.Н.Тынянов, Р.В.Дуга-нов, М.И.Шапир ...)
Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй - пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
В дополнение к существующим трактовкам можно предложить еще одну - исполнительскую. Композитор не всегда хороший инструменталист. Хлебников (по воспоминаниям) проборматывал свои стихи, но очевидно, что хорошо слышал изнутри. «Бобэоби ...»- блестящий пример такого слышания. Именно в чтении это стихотворение постигается, именно озвученное голосом оно раскрывается как грандиозная картина.
Здесь два ряда: звуковой и логический. Левая сторона представляет собой чистое звучание, дающее настрой правой стороне - логической. Здесь двойное взаимодействие: чистый звук наполняется отсветом словесной логики, а последняя вбирает в себя приемы звуковедения. Поэтому правая часть интонируется и артикулируется в соответствии с тем, что задается в левой части.
Проработанность звукового ряда обостряет привычное звучание слов логического ряда, перестраивает слух. Известные нам слова мы как бы произносим и слышим впервые. Они отражаются в своих звуковых подобиях.
Так «на холсте» музыкальных и словесных соответствий возникает Лицо. И это лицо Гармонии, Природы, Бога, Гения, Автора, Читателя ...
Звук и слово, движутся, как параллельные прямые, вне протяжения и пересекаются в точке Лица. Само Лицо можно представить поэтическим видением.
Звук, звучание в поэзии Хлебникова играет доселе невиданную роль. Если воспользоваться его же образованиями, типа «сверхповесть», можно сказать, что он слышит и воссоздает некий «сверхзвуковой» мир (не исключим из этого понятия и современное значение). У него есть «звуколю-ди» и «населенные людьми звуки», «государство звуков».
Хлебниковская поэзия насквозь прозвучена паронимией. Смысл меняется и создается заново в поэзии Хлебникова не только, так сказать, обычным путем, когда далекие слова оживляют паронимически (созвучно). Например, в ранних стихах: Из мешка /На пол рассыпались вещи./И я думаю/Что мир -/Только усмешка,/Что теплится/На устах повешенного.
«Усмешка» здесь возникает как бы «из мешка». Или в другом случае: Свод синезначимой свободы... где «свобода» уже содержится в «своде». Но это обычное дело для Хлебникова, когда он в одном слове видит сразу нес-кольно, даже потенциальных слов. Хлебников представлял слово как растение или группу кристаллов.
Но слово для Хлебникова - не только носитель понятия, но и «чистый звук». Если обратиться к современной Хлебникову живописи, то мы увидим такое же отношение к линии и краске, например, у Василия Кандинского. Но если слово - «чистый звук» (аналогично краске и линии), то, значит, оно может стать и самой вещью - произведением, в котором «смысл» возникает на другом уровне, чем в описательном (вербальном) ряду. Этот уровень - энергетийный. Звуковая картина призвана передать энергию сердца, дыхания, а через них космоса, - напрямую. Такова природа музыки, которая, в общем плане, представляет собой энергетическое колебание, определенным образом организованное.
Своеобразным соединением слово-звука и слова-понятия становится для Хлебникова палиндром - строка, читающаяся побуквенно в обе стороны (с одинаковым смыслом) и часто состоящая из анаграмматических слов, то есть таких, смысл которых меняется при перестановке букв. Впервые палиндромическое стихотворение в наследии Хлебникова фиксируется примерно в 1912 г. Это «Перевертень». Стихотворение имеет подзаголовок «Кукси, кум мук и скук».
Сам Хлебников позднее отмечал: «Я в чистом неразумии писал «Перевертень» и, только пережив на себе его строки: «Чин зван мечем навзничь» (война) - и ощутив, как они стали позднее пустотой: «Пал, а норов худ и дух ворона лап», - понял их как отраженные лучи будущего, брошенные подсознательным «Я» на разумное небо». «Пояснение», как это часто у Хлебникова, чисто ассоциативное. Но нас в данном случае интересует не только пророчество, а то, как в поле звука стягиваются слова, как па-линдромия организует этот медный и мерный звук. Палиндром для Хлебникова - сокращение пути к подсознанию из подсознания. Сокращение происходит именно благодаря двойному ходу строки, по принципу удара и отдачи, минуя обязательные «смысловые» операции. Звуковой состав палиццромической строки поневоле обострен, и в этом как раз состоит смысл - пробуждение звукового отклика.
Хлебников впервые в русской поэзии применил палиндром в качестве строительного материала для стихотворения большой протяженности. В 1920 г. он напишет таким стихом целую поэму «Разин» и окончательно узаконит палиндромическую форму в русской поэзии, во второй половине века палиндромические стихи станут непременной частью российского поэтического пейзажа. Таким образом, Хлебников не только активно работал с целым комплексом традиционной метрики, развивал полиритмию и тем самым оживлял гаснущие импульсы, не только возродил и утвердил на русской почве свободный стих, но и обнаружил новые возможности языка к созданию стиховой формы. Ведь и ритм, и метр, и рифма -это в конечном счете языковые явления, не только в широком смысле, но и в более узком, поскольку все названные явления происходят собственно из речи.
Догадка о палиндромии как устройстве стиха имела еще одно разрешение - выход к анаграмматизму в письменном выражении и к паронимии -в звуковом. На этом принципе построено почти целиком стихотворение «Пен пан». Отметим: о бесе - о себе, на пне - пен пан, жемчуг - могуч меж, ивы - и вы, вдов вод - овод, ими - имя, воздух - худ зов, осколки - сколько, нечет - течений. Здесь же отметим перетекновение гласных: брезгая, брызгаю, смещение согласных: копыток, попыток. Позднее перетекновение, смена гласных виртуозно очерчивают канву стихотворения «А я ...».
Стихотворение буквально переливается ассонансами, звуковыми повторами: дань - день, вздохов - Духов, соседу - саду, с коз - сказ, ветер - вытер, утух - утех - у тех, смелых - с милой - смолой ... Здесь же искусные составные рифмы: гордость - гор даст, шелковый - шел к вам. Все это создает совершенно особую празднично-грустную картину.
На звуковых отгласах держатся «Горные чары». Эти отгласы образуют в том числе внутренние рифмы, создающие напряжение в каждом отдельном стихе. Стихотворение становится музыкальной пьесой, которую надо разучивать и разыгрывать не по законам логических связей, а по законам звуковых соответствий.
В 1912-ом - году кончины Елены Генриховны Гуро, прожившей 36 лет и умершей от тяжелой, не до конца распознанной болезни (чаще всего говорят о белокровии), ее муж - художник и композитор, близкий ей по духу и исканиям - Михаил Васильевич Матюшин - писал: «Вся она, как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве - необычное, почти непонятое в условиях современности, явление. Вся она, может быть, знак.
Знак, что приблизилось время» .
Велимир Хлебников в том же 13-ом году, в письме, обращенном к Ма-
тюшину, говорил: « Всегда казалось, что она находится под властью сил, не управляющих большинством людей и чуждых большинству».
Хлебников был, очевидно, одним из самых близких ей по духу, и он из той же «нежной сути», из которой состояла Елена Гуро. Вторым таким человеком был художник Борис Эндер, - для Елены Гуро - воплощение образа ее нерожденного сына, образа, который она создала в своем воображении. Борис Эндер познакомился с Гуро в 1911 году, когда ему было 18 лет, и эта встреча стала для него решающей на всю жизнь. Имя Гуро, воспоминания о ней очень часты в Дневнике Эндера.
Елена Гуро много рисовала юного Эндера, его облик стал обликом Вильгельма - героя ее произведений, и метафорически можно сказать, что Борис Эндер, как Вильгельм, стал ее созданием. В Эндере наиболее полно реализовался дар Гуро, который можно определить ее словами: «Мне иногда кажется, что я мать всему».
С обыденной точки зрения вполне объяснимо непонимание того общего, что роднило Гуро с футуристами-будетлянами. Как же так - она «тихая», а они «громкие» (имелись в виду Крученых, Маяковский, Каменский, Д.Бурлюк, ибо Хлебников воспринимался как «тихий»)? Критики схватывали внешнее, не вникая во внутреннее, делая умозаключения на основе обрывочных сведений. Между тем М.Матюшин, принимавший вместе с женой активное участие в издательской деятельности будетлян, и двадцать лет спустя после смерти Гуро писал, что она «была цементом группы футуристов». А она сама в период расцвета «Гилеи» писала: «Как мать закутывает шарфом горло сына, - так я следила вылет кораблей ваших, гордые, гордые создания весны».
Судя по различным воспоминаниям, не только сама Гуро ощущала себя «матерью всему», но и те, кто был принят в их с Матюшиным кварти-
ре, если и не ощущали себя в какой-то мере детьми, то во всяком случае испытывали очищающее воздействие. Художник Всеволод Воинов вспоминал: «Она владела способностью пронизывающе видеть человека с первого раза, угадать его сущность и, если таковая ей близка и симпатична, -приникать к ней со всей нежностью своей прямой и ясной души ...». Эта способность приводила к тому, что люди, не совпадавшие с колебаниями ее души, уходили, сами себя отторгали от нее. В других - близких - Гуро обнаруживала родство даже за всеми внешними грубыми наслоениями. Самый яркий пример - ее отношение к Алексею Крученых, которого она удивительно тонко чувствовала.
Гуро фактически совершила прорыв поэзии в жизнь, но не путем захвата новых территорий. Эти глубокие касания тончайшей чувственной сферы, к сожалению, почти не могут затронуть внешнего человека. Недаром Гуро предпринимала попытки распространять свою первую книгу «Шарманка» в тюрьмах и больницах, то есть среди тех людей, чья чувственная сфера была грубо и насильственно обнажена судьбой или людьми. Это очень тонко почувствовал Вячеслав Иванов, написавший проникновенное эссе о книге Гуро «Осенний сон».
Елена Гуро сама говорила, что в произведении важно ухватить «лучезарную суть, которая прячется за словами, за фабулой».
К самооценке и автотрактовке художника мы подходим не без сомнений. Но не в случае с Еленой Гуро. Даже ее пьесы, ее театр - это внутренний театр, это разные воплощения собственного Я, отнюдь не в профессиональном (ремесленном) смысле. Драматургия Гуро близка лирическим пьесам Блока, и - в большей степени - драматургии Хлебникова Но даже по сравнению с необычным хлебниковским диалогическим миром ' пьесы Гуро кажутся более свободными от внешнего задания и более близ-
кими к ее излюбленному и постоянно варьировавшемуся жанру - жанру лирического фрагмента. Фрагмент обычно понимается как отрывок, как что-то незавершенное. У Гуро это было совсем не так. Для нее мир существовал в неразрывной цельности. И каждое произведение должно было представить весь этот мир, а не его часть. Вот почему, говоря о каком-то отдельном творении Гуро, нельзя сказать, что это только о том-то и о том-то, или даже больше чем о том-то и о том-то. При этом перед нами не хаотическое нагромождение кусков жизни, не анахронизм формы, а как раз строго организованный слепок божественного бытия.
Елена Гуро, обостренно чувствовавшая все природное, кажется, улавливала не только музыку иного языка, но и музыку всего сущего. И здесь же можно бы сказать, что именно будетляне сделали прорыв - они «научили» поэзию передавать музыку ощущений самим словом, звуком, а не описанием звука. Гуро в стихотворении «Финляндия» замечательно показала жизнь самой природы. Это был еще один шаг к созданию новой син-кретики, когда слово становится музыкой и музыка природы перетекает в слово. И это были начатки «органического искусства», которое пытались строить Елена Гуро и Михаил Матюшин. Искусства, которое не противодействует природе, а сосуществует с ней, вырастает из нее и возвращается в природу.
Умевшая слышать «нежную суть» других, Елена Гуро писала Крученых: «У Вас в пространствах меж штрихами готова выглянуть та суть, которой сответствуют Ваши новые слова. То, что они вызывают в душе, не навязывая сейчас же узкого значения - ведь так ?» . Его «пятистишие», как он сам именовал свое Дыр бул щыл убешщур
скум вы со бу р л эз
навсегда вошло в историю русского искусства.
Когда Крученых отлучили от печатного станка, он мог только устно исполнять свои творения в домах друзей. О том, как Крученых читал стихи, ходили легенды. Поэт Валентин Хромов вспоминает, что Николай Асеев в своей квартире подтягивал люстру, чтобы Крученых в экстазе чтения случайно не разбил ее.
Крученых шел в поэзию через изобразительное искусство. Новая живопись отказывалась от искусственного жизнеподобия - ведь роза на холсте, даже тщательно выписаная, не равна природной розе. Предлагался иной вариант постижения тайны мира: линия, цвет, пространство, смена перспектив - вот что стало во главе угла европейской живописи. Западные художники осваивали восточный опыт, африканское искусство. Россия -восточно-западная страна - сама в себе содержала огромнейший опыт искусства своих многочисленных народов. «Левые» художники, очень разные по своим творческим манерам - Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Давид и Владимир Бурлюки, Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, Павел Филонов и еще многие и многие, - были едины в одном: они шли к непознанному, к той выразительности, которая опрокидывала устоявшиеся представления о мире, но позволяла ощутить этот мир в его первозданности.
Вот здесь, на этом острие, - Крученых. Уже первые книги «Игра в аду» и «Старинная любовь» были им сделаны в сотрудничестве с художниками Н.Гончаровой и М.Ларионовым. Так появился новый тип рукописной книги, где почерк и иллюстрация создавали единое поле взаимопроница-
ния. Кроме того, «Игра в аду» была написана совместно с Хлебниковым, как бы в нарушение всех авторских канонов. Правда, это ироническая, примитивистская поэма, а иронические стихи и раньше писались в соавторстве (например, группой поэтов, выступавших под именем Козьмы Пруткова).
Крученых вместе с другими авангардистами произвел целую революцию в книжном деле, оцененную по-настоящему только много лет спустя. Он выпустил большое количество рукописных самодельных книг, к работе над которыми привлекал разных художников. Хотя футуристы немало теоретизировали по поводу соединения визуальных искусств и словесности, эти книги для Крученых были скорее всего спонтанным выражением его поэтической настроенности. Будучи поэтом и художником и при этом обладая органическим талантом, сильно развитой интуицией, он мгновенно схватывал носящиеся в воздухе идеи и так же мгновенно воплощал их. Идея визуализации словесного образа нависала в то время над художественным миром подобно дождевой туче. Используя образную систему Крученых, можно сказать, что он поймал эту тучу и отжал из нее живительную влагу.
Когда А.Бенуа писал о М.Ларионове: «Нельзя же допустить мысль, что вот и через десять лет талантливейший Ларионов будет дурить и издавать свои скоморошьи альбомчики», он и не подозревал, как близок к истине в этом определении. Именно скоморошье начало одушевляло эти рисованные книжки. Крученых (совпадая здесь с Ларионовым) упорно отстаивал «несерьезное», «легкое» отношение к искусству, в отличие от тяжелого, предельно засерьезненного символистского. И в этом он сближался с далеким для него философом и поэтом Вл.Соловьевым, который определял человека, как «существо смеющееся» и писал довольно резкие
пародии на раннего Брюсова. Заметим, что многие серьезные стихи символистов сейчас воспринимаются с оттенком пародийности, в то время как стихи того же Крученых получили трагическое наполнение. Крученых во многом был импульсом нового искусства. Рукописные литографированные книги будут впускать Маяковский с художниками В.Чекрыги-ным и Л.Шехтелем, Хлебников с Филоновым. Крученых заявлял: «Мы рассекли объект ! Мы стали видеть мир насквозь.»
Он не только видел мир насквозь, но и слышал - насквозь прозвучен-ный мир. Его слух был обострен. Спонтанно, от пристального вслушивания в слова, явилась миру теория «сдвигологии». По этой эмпирической «теории» едва ли не в любом стихотворении можно обнаружить сдвиги -такие стыки слов в строке, которые рождают непредвиденное слово. Например, у Пушкина: «слыхали ль вы» - явно слышаться «львы». Или у Брюсова: «И шаг твой землю тяготил» - «ишак». Но мало слышать сдвиги, Крученых предлагает использовать их творчески в стихах. В своей книжке 1922 г. «Сдвигология русского стиха. Трахтат обижальный (трактат оби-жальный и поучальный)» он приводит различные примеры, как в результате сдвигов получаются новые слова: <еденьеще узрюли», «теперья», «ва-журные» и т.п. Отсюда он переходит к сдвигу рифмы, синтаксиса, образа, сюжета. Все это подается с типичйыми для Крученых вывертами, наскоками на противников. Он и здесь скоморошит, мгновенно выхватывает нарушение пропорций в казалось бы выверенном монументе, подставляет ему зеркало - смотрись! И здесь же подхватывает эти нарушения и строит на них свою поэтику. Он вообще, кажется, берет то, что другие отбрасывают, обегают. Грубый, живой материал - будь то неудобопроизносимые звуки или блатной жаргон, восточный акцент или нелепые слияния слов.
Борис Пастернак не случайно называл Крученых «живым кусочком» границы искусства и «обывательщины». Крученых не описывал жизнь, а чиркал спичкой искусства о коробок жизни, высекая мгновенное пламя -быстрое, обжигающее. Зафиксировать это пламя в книгах было трудно. Более того, в них оно могло предстать искаженным, а то и просто в виде тления. Наиболее полно он раскрывался в своих устных выступлениях. Крученых писал: «Определенный звукоряд поэта сдвигает его содержание в определенную сторону - поэт зависит от своего голоса и горла !».
Крученых стремился передать на бумаге особенности исполнения. Увы, письмо и звучание не совпадают, хотя поиски в этом направлении интенсивно велись в России в 10-е-20-е годы, возобновились в 60-80-е, ведутся и сейчас. Какие-то указания на исполнение из записи Крученых мы можем получить: где растянуть слово, где его сжать, где выделить слово крупно, где поиграть ассонансами, но любое прочтение, в том числе и авторское, будет интерпретацией, с большей или меньшей степенью приближения к замыслу.
О самом письме Крученых можно сказать, что в него он входил вполне сознательно, а дальше уже двигался по внутреннему слуху. И хотя не всегда ему удавалось выруливать в нужном направлении, он добивался завершенности произведения. Своего рода саморегуляция дыхания.
Борис Пастернак, высоко ценивший органику дарования, писал о Крученых: «Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиванием сырой природы, пустится гальванизировать существительные, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы» . Точное определение. Крученых делал слово почти предметом, явлением, вещью.
Борис Слуцкий, сочувственно относившийся к Алексею Елисеевичу, посвящавший ему стихи, сильно ошибся, когда написал: «Крученых был отвлекающей операцией нашего авнгарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу». Это совсем не так. Мало того, что Крученых создавал поле поиска в футуристическом кругу, работая совместно с Хлебниковым, Бурлюком, Маяковским, Каменским, Гуро, и по-своему стимулируя их поиски, оказывая воздействие также на соседние футургруппы (Игнатьев, Гнедов), на поэтов вне групп (Неол Рубин), в 20-е годы он оказал влияние на конструктивистов А.Н.Чичерина и И.Сельвинского, на младшего футуриста Семена Кирсанова, на обэриутов, не избегнул его влияния и Асеев; Пастернак, Леонид Мартынов прислушивались к нему. В 60-е годы творения Крученых были востребованы целым рядом поэтов. Его достижения учитывались Вл.Казаковым, В.Соснорой, Г.Айги, А.Вознесенским, Г.Сапгиром, И.Холиным, Вл.Эрлем, Ры Никоновой, С.Сигеем, В.Шерстя-ным, Б.Кудряковым, А.Горноном.
Сейчас поэзия Алексея Крученых воспринимается иначе, чем в 10-20-е годы и позже. Мы находим в его разнообразном творчестве не только эпатаж, не только решение формальных задач, но и прорыв к артистизму в передаче тонких оттенков человеческой психики...
Говоря о групповом портрете русского футуризма, важно учитывать самые разные нюансы, которые вносили в это движение авторы. Через описание индивидуальных стилей мы приходим к общим закономерностям, характерным для направления. Если искать определяющее слово для всего движения, то скорее всего это будет слово «сдвиг». Которое не следует воспринимать только в негативном плане, как разрушительное. Оно - слово-понятие, разрушающее и строящее. Это сдвиг временных и пространственных пластов во всех видах искусства, стимулирующий поэтический процесс соединений и разъятий.
4. Модули и векторы авангарда.
Полная картина авангардного движения в России сложится лишь тогда, когда мы сможем оперировать всем корпусом текстов, биографий, вообще фактов, которые до сих пор остаются неоткрытыми.
Известно, что, начиная с 30-х годов и вплоть до начала 60-х, появление в печати новых авангардистов было невозможно. В 60-х годы публичное проявление становится возможным очень ограниченно и лишь на краткое время. И только со второй половины 80-х годов почти все дожившие до этого времени авторы получают хотя бы относительную возможность выхода за пределы узкого круга.
Открытия последних 15 лет показывают, что авангардное движение в России не прекращалось, хотя слово «движение» в данном случае получает только одно значение, снимается второе значение - «движение» в значении объединенных усилий.
Особенное внимание необходимо обратить на авторов 900-х-1910-х и 20-х годов рождения. Ибо среди них могут оказаться люди: а) не успевшие войти в литературу со своим поколением и уже не имевшие такой возможности позже (1900 года рождения), б) не имевшие шансов на выход в открытое пространство с экспериментальными текстами (1910-е-20-е года рождения, то есть те, кому в 30-е или 40-е годы было 20). Кроме того, необходимо учитывать, что авангардное движение охватывало не только столицы.
В последние 15-20 лет были открыты многие авторы, в той или иной степени связанные с авангардной линией русской культуры. Прежде всего это обэриуты (особенно показателен опыт дожившего до наших дней Игоря Бахтерева, который до конца жизни сохранял верность обэриутс-тву). Лишь в 80-е годы были опубликованы ранние произведения Николая
Глазкова. В 90-е были напечатаны стихи Евгения Кропивницкого и Яна Сатуновского. В 80-е-90-е произведения Николая Ладыгина и Савелия Гринберга.
Но все эти авторы были известны в литературных кругах. Лишь один из них - Н.Ладыгин - жил вне столиц - в Тамбове, но он имел литературную среду в своем городе, а также довольно тесно общался с московскими писателями и прежде всего с Глазковым.
Случай Георгия Валериановича Спешнева (1912-1987) уникален. При жизни не было опубликовано ни строки, а о том, что он вообще что-то писал, знали только близкие родственники.
После смерти Г.В.Спешнева стало возможным знакомиться с написанным, в том числе с биографическими записками. В этих записках мы находим две важных составляющих жизненной и творческой биографии Георгия Спешнева. С одной стороны - поиск возможностей выживания (он родился в Москве в дворянской семье, которая была выслана в Сибирь в 1923 году, но Георгию через некоторое время удалось вернуться в центральную Россию): перемена городов и мест работы, быстрый уход из идеологической сферы (журналистика) в производственную. Скитания продолжались все тридцатые годы, только в 1941 году Спешнев оседает в Челябинске, а в 1958 году его переводят на одно из предприятий небольшого городка Катав-Ивановск на Урале. С другой стороны - писательство, осознанное как призвание, причем с авангардным устремлением к новому слову. Писательство тайное, ибо автор абсолютно ясно осознавал невозможность публикации своих текстов и очевидно не находил ни в Челябинске, ни тем более в Катав-Ивановске людей, которым он мог бы открыться как писатель. Знакомство со сводом рукописей Спешнева показывает, что его тексты были слишком радикальны не только для сороковых годов. Он ра-
ботал над своими текстами до конца жизни, то есть до 1987 года.
Фактически Георгий Спешнев предпринял глобальный пересмотр всей художественной системы. Влияния некоторых теоретических положений ранних авангардистов - от Хлебникова и Маяковского до Шерше-невича и Кирсанова ощутимы. Но не только ощутимы. Впечатление такое, что Спешнев тщательно изучил весь корпус раннего авангарда (более поздний, обэриутский, он знать просто не мог) и на основе этого изучения создал стройную систему новейшей эстетики.
В самом деле, в его трактатах, каталогах мы обнаружим сумму уже найденного в раннем авангарде, но закрепленную и развитую на новом уровне. Интуитивные находки предшественников он как будто продумывал до конца, до последнего предела, при этом шел дальше них.
Возьмем для примера небольшой фрагмент из записной книжки:
«Новое по-новому. Свободное сочетание слов и др. речевых построений без соблюдения правил речи (логики, синтаксиса, грамматики), но с использованием их для образа. Новый порядок должен вытекать из самого образа. При этом нужно использовать «чужие» порядки, заимствованные из временных [искусств] (ритм) и пространственных (симметрия), но тоже, не подчиняясь им, а употребляя для образа. Поэтому следует отказаться от искусственных синтаксических построений, тем более [...] от грамматической согласованности и от парадоксально-логических уравнений, сохраняющих логическую последовательность».
Эта запись со всей очевидностью восходит к манифестированию Вадима Шершеневича периода имажинизма и особенно к его манифесту 1920 года «2x2 = 5: Листы имажиниста», в котором он радикально пересматривает нормативную грамматику, мешающую, по его мнению, созданию ярких образов:
«Поломка грамматики, уничтожение старых форм и создание новых, аграмматичность, - это выдаст смысл с головой в руки образа...
Мы хотим славить несинтаксические формы.»
В данном случае привлекает внимание сходство устремлений, что подтверждает наш тезис о незавершенности авангарда, о возможности возобновления поиска на тех же или близких основаниях, хотя и в других условиях.
Одним из главных положений свода творений Г.В.Спешнева является его Антиэстетика. В специальных тезисах, обосновывающих всевозможные анти-, Спешнев упоминает и антироман и театр абсурда, как «частные случаи общего направления современной эстетики, вернее - антиэстетики», по его мнению, «основанной на принципах, прямо противоположных принципам классической эстетики».
В Антипоэзии Спешнева действуют Антиметафоры - «уподобления по противоположности», возникает Антиметр - «ритмичное нарушение метра», Антирифма - протипоставления звуков, «звуковой контраст». Построение антистиха антифабульно - не развитие-движение во времени, а остановка в пространстве.
Центральная мысль этих тезисов: «Речь в антистихе оказывается не последовательным изложением, а перечнем описаний или монтажом. Хронология и волны ритма уступают место геометрии и симметрии».
Таким образом, Спешнев заново пересматривает и вводит в оборот в качестве правил открытия раннего европейского авангарда - от футуристов до сюрреалистов. И это оказывается не просто смелым ходом на фоне довольно серого соцреализма. Своей ОБНОВОЙ Спешнев пытался обновить словесность в более широком плане, а не только ту, которая в то время отцветала. Ничего не зная о французской группе УЛИПО, которая еще в 50-е годы работала с комбинаторикой («Сто тысяч миллиардов стихотво-
рений» Раймона Кено), Спешнев пишет о новом стихосложении как о «многоступенчатом сочетании слов»: «Число возможных сочетаний и сочетаемых элементов на деле безгранично». Эти бесконечные сочетания он называет «музыкой расположения».
Простота парадокса затрагивает и мягко переворачивает не только классическую механику искусства, но и механику нового времени. Если Хлебников говорил о том, что умные языки разъединяют и призывал к созданию за-умного языка, а в перспективе звездного, то Спешнев признает язык средством разобщения и призывает использовать отрицательную сторону языка. Знаток нескольких европейских языков, он был точен в своих определениях. Граница проходит по языку, а не по территории. Если множество языков внутри одного языкового ареала еще можно как-то свести, то языки противопоставленных ареалов настолько разнонаправленны, что каждый даже познанный язык все равно остается беспредметным по отношению к родному.
Нарушение логики и изобразительности, о котором говорит Спешнев, это выход в жесткую беспредметность, за которой угадываются очертания еще неведомых нам предметов и лиц.
Теоретические построения Г.В. Спешнева захватывают своей антикрасотой и антилогикой. Их убедительность, разумеется, неочевидна. Она ан-тиОчевидна. Даже зная принципы Спешнева, на которых он строит свою Антиэстетику, на первых порах трудно включиться в причудливую игру смыслов, они кажутся отчасти просто забавными, отчасти излишне перегруженными паронимическими сближениями. Например в «Сборнике третьем» «Самосуд в переулке» глава первая «Главера или луг заглавий» в самом деле состоит из как бы заглавий. Согласно авторской теории, выдвигающей как основное и «удобное» число 7, в этой главе семь разделов,
а каждый подраздел состоит из семи строк-заглавий. Среди этих «антистихов» есть более прямые, ориентированные даже на некоторую расхожесть заглавий, но при этом почти всегда следует обман ожиданий.
В другом случае - прямая нацеленность на определенный прием. Как в случае обращения к зауми. В этом случае мы встречаемся с особым осмыслением зауми, через сочетание негативного и позитивного, ироничного и пафосного. Свои творения Спешнев именует то антистихами, то сти-хопрозой. Он определяет в том числе и заумное: «В стихопрозе косвенный смысл должен быть единственным смыслом, то есть стать прямым. Предел косвенного смысла - заумь. Это не бессмысленное безумие с утерей образа. Это новая связь воссоединенных косвенного и прямого смыслов.»
По мысли Спешнева, слово - это тело, то есть сущность, но он подчеркивает наличие множественности языков в одном языке: «Каждый человек - родоночальник и племени и языка» . Отчасти по этой причине он настаивает на крайней индивидуализации стихопрозы, то есть индивидуальном построении художественного мира из «общего» языка.
Сквозная паронимия, восходящая к барочному плетению словес, ему представляется той формой, которая позволяет реализовать его теоретические построения. Это способ организации «покоя в пространстве», то есть своеобразное топтание на месте, внешне как бы холостой ход, за которым однако прослеживается внутреннее движение, почти незаметное глазу.
Поразительно, но задолго до появления компьютерных возможностей Спешнев создает настоящий гипертекст, о создании которого сейчас всё еще спорят, находя неудовлетворительными все новейшие варианты. Начинаешь понимать, что свод творений Спешнева не для сквозного чтения (хотя это и не снимает возможности и необходимости бумажного ва-
рианта!), а для таких мгновенных кликов в пространстве экрана, когда многочисленные заголовки и подзаголовки, выделенные для о-клика, для улавливания мышкой речений, заполняющих экран. Таким образом, именно здесь ты улавливаешь внутреннее течение прямых и косвенных смыслов, многовариантность выявления этих смыслов.
Разница восприятия на бумаге и на экране фундаментальная - то, что на бумаге кажется простым повтором, на экране становится открытием инакости высказывания. Как будто у мысли изреченной есть множество изнанок и они выворачиваются бесконечно и к тому же этот танец изнанок - множества внутренних сущностей, ты организуешь сам - сам задаешь необходимый тебе порядок чтения. Сквозной порядок тоже возможен, но поскольку это лишь один из вариантов, то он уже не становится определяющим, расширяется поле выбора. Разумеется, и в книге мы можем читать с любого места, однако в случае Спешнева такое чтение менее продуктивно. Именно он сам настаивает на каталогизированном, рубрикацион-ном чтении («расположение мыслей больше, чем сами мысли» его занимают). В компьютерном варианте, благодаря выноске ключевых слов (как в каталоге), мы оказываемся внутри системы текстов, мы как будто входим действительно внутрь медиа и сами вращаем тексты в нужных нам направлениях. Возникает образ такого читателя, который смотрит на текст не снаружи экрана, а входит в экран и хотя бы на время становится заодно с текстом. Так слово становится телом и/или тело становится словом. Таким образом задается новая степень или новая форма коммуникации.
В отличие от Г.Спешнева Владимир Казаков (1938-1988) получил благословение сразу двух важнейших фигур исторического авангарда. Он общался с А.Крученых и Н. Харджиевым и досконально знал не только футуризм, но и творчество обэриутов, в 60-е годы еще мало кому знакомое.
Его собственное творчество являет собой пример наследования и творческой переработки традиции. В прозе и стихах он продолжал развивать кру-ченыховскую сдвигологию, искусно соединяя ее с реальным абсурдизмом Хармса и Введенского. Особая ироническая пластика слова переходит у Казакова в действие, создавая новый поэтический театр, роднящий его с театром Блока, Хлебникова и Елены Гуро.
Другой поэт, также перенявший эстафету русского авангарда из тех же источников, - Геннадий Айги (1934-2006). Однако он развивался совершенно отлично от Казакова. Для авангарда, кстати, весьма характерная строгая и подчеркнутая индивидуализация даже идущих очень близко авторов. Прежде всего надо отметить выход к первоэлементам. Айги идет здесь вслед за Малевичем, которому он глубоко и искренне поклонялся, называя себя малевичианцем. «Оживление ядра, таящегося в слове», - вот задача, которую поставил себе поэт. Подобно Малевичу, оживлявшему изобразительные первоэлементы - круг, квадрат, крест, Айги вылущивал содержание в мельчайших единицах текста, усиливая позиции местоимений, служебных слов, отдельных букв, семантизируя даже знаки препинания и пробелы. Помимо замечательных поэтических текстов он создал также два поэтических трактата «Сон-и-поэзия» и «Поэзия-как-молча-ние», в которых сделал попытку представить своего рода «бессловесный» мир, что восходит к поискам авангардистов 20-х годов А.Н.Чичерина и А. Туфанова.
Вариантом продолжения поисков исторического авангарда явилось творчество Елизаветы Мнацакановой - поэта, музыканта и художника в одном лице. Мнацаканова использует слова как музыкальный материал. При этом, в отличие от А.Белого, она достигает более тонких моментов музыкальной проработки. Она работает необычными звуковыми перерас-
пределениями, когда консонанты приобретают вокалическое звучание, а вокализмы - консонантное. Звучание в поэзии Мнацакановой в конце концов переходит в «видимое» - и тогда читателю является почерк поэта и графические видения автора в цвете. Автор таким образом достигает неостановимого движения. Здесь действуют законы современного музыкального письма - в качестве темы используются тембр, тембровые пятна, ритмические структуры. Фактически поэтесса осуществляет перенос принципов одного искусства в другое, то есть типичный авангардистский подход.
Значительное место в современном русском авангарде принадлежит двум творческим парам. Это Елена Кацюба - Константин Кедров и Ры Никонова - Сергей Сигей. Такие творческие тандемы хорошо известны и в историческом авангарде: Розанова - Крученых, Гончарова - Ларионов, Гуро - Матюшин, Степанова - Родченко... Эта совсем не случайная параллель дает возможности для анализа и обобщения как в эстетическом, так и в гендерном планах. В частности, можно говорить о проблеме ведущего и ведомого, об уровне креативности в творчестве пар... Обе современные пары безусловно и сознательно являются продолжателями дела русского авангарда. Так Ры Никонова и Сигей довольно рано установили контакты со старшими авангардистами - В.Гнедовым, И.Бахтеревым, Н.Харджи-евым, Сигей также активно занимается изучением всего корпуса русского авангарда. Характерно, что общение с вышеназванными могиканами руо, ского авангарда было взаимонаправленным: не только получение опыта и информации от старших к младшим, но и обратное движение, плюс активная работа младших по пропаганде творчества старших (пусть эта. «пропаганда» и вершилась в самиздатском журнале «Транспонанс» тира-
жом 5 экземпляров!). Доскональное знание мельчайших деталей авангардистского творчества подвигало уральско-азовских трансфуристов, как они сами себя именовали, на новые достиги. Многообразие оригинальных приемов, разработанных Никоновой и Сигеем, дает возможность говорить о действительно новом этапе авангардного движения и в то же время о непрерывности самого движения. Живя вместе более 30 лет, они умудрились в своем творчестве быть разительно индивидуальны и даже полемичны по отношению друг к другу. В запасниках, созданного этими авторами - поэзия, проза, эссеистика, визуальные концепты, звуковые композиции, партитуры, теоретические разработки...
По-своему подошли к освоению авангардного наследия и его продолжению Кедров и Кацюба. Константин Кедров обратился к онтологии авангарда. Именно выявлению корневой структуры искусства посвящены его работы о Хлебникове, Введенском, Павле Флоренском, Павле Челище-ве и других фигурах авангардной эпохи. Теоретичностью и философичностью отличается и собственное творчество поэта. Работая со словом в комбинаторном ключе, он смотрит на созданное как бы со стороны, но не в плане жестко-технологичного остранения формалистов, а с точки зрения разработанной им теории «выворачивания». Елена Кацюба, создает не только изысканно-красивые стихотворные тексты, но и принципиально новые концепты, которые она именует, например, палиндромическими словарями. Еще один, уже их совместный концепт, - более десяти лет издаваемый ими «Журнал Поэтов», в котором они печатают в основном произведения поискового характера.Это издание, также как в случае с «Тран-спонансом», демонстрирует читателю подчеркнуто выделенное наиболее активное направление современного искусства, связанного со словом.
Заключение.
Творчество современных авторов - пример того, как авангард осуществлялся и осуществляется (действует) после исторической своей фазы. Эта новая фаза в наших работах определяется как «внеисторический авангард», который однако тесно связан с историческим. В реферируемой монографии приводится большое количество примеров того, как в новых условиях сохраняются основные эстетические принципы и установки. В результате наших исследований и собственной художественной практики и сложилось понимание авангарда как динамического процесса, то есть определенной стилевой формации (по А.Флакеру), находящейся в движении. Деятели русского исторического авангарда, как известно, не пользовались термином «авангард». Они говорили вообще, что делают новое искусство. То есть не осознавали себя авангардом терминологически. Некоторые авторы «внеисторические» пришли именно к осознанию своих действий как авангардных. При этом надо учесть, что прежде всего те авторы, которые помимо практики занимаются также историей и теорией стилевой формации. Находясь внутри формации, они именно и осознали ее саму как развивающуюся, как динамический процесс. Можно сказать, что внеисторический авангард является авангардом потому, что уже знает, что «все найдено» и, несмотря на это, продолжает поиск. Внеисторический авангард перешел от внешней экспансии к внутренней, к углубленной переработке вербального визуального и звукового, как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Однако многое, как показывают исследования, было заложено в историческом периоде авангарда. В авангардном движении не может быть ничего окончательного... аванагард постоянно разрушает заданные параметры и выстраивает новые...
Основные публикации автора, отражающие содержание диссертации.
Нетрадиционная традиция // Новое литературное обозрение, 1993, N3 (2,0 а.л.).
Бенедикт Лившиц. Символизм пути // Постсимволизм как явление культуры. Материалы Международной конференции. М.: РГГУ, 1995 (0,3 ал).
Звук и слово в поэтических системах, лингвистике и поэтике XX в. // Слово. Материалы международной конференции. Тамбов, 1995 (0,3 а.л).
О типологии палиндрома // Новое литературное обозрение, 1996, N1(0,4 а.л.).
К общей теории авангарда // Материалы международного конгресса 100 лет Р.О.Якобсону. М.: РГГУ, ЙСИБ РАН, 1996 (0,3 а.л.).
«Фоническая музыка» и акустическое напряжение в авангардных поэтических системах XX века // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. Вып 2,1996 (1,0 а.л.).
Авангард. Сумма технологий // Вопросы литературы.1996, N5 (0,8 а.л.).
О максимально-минимальном в авангардной и поставангардной поэзии // Новое литературное обозрение, 1997, N23 (0,4 а.л.).
Журналистика и поэтический эксперимент // Журналистика в переходный период. Сборник международной научной конференции. М.: МГУ, 1997 (0,3 а .л.).
Выступление в дискуссии «Литература последнего десятилетия - тенденции и перспективы» // Вопросы литературы,1998, N2 (0,4 ал.).
«Лучезарная суть» Елены Гуро и пути органического развития // Международная конференция, посвященная школе органического искусства.-Studia slavica Finlandensia. Т. XVI/2. Helsinki, 1999 (1,0 а.л.).
Хлебников в Германии // Велимир Хлебников и мировая художественная культура на рубеже тысячелетий. VII международные хлебников-ские чтения 7-9 сентября 2000 г. Астрахань, 2000 (0,3 а.л.).
Академия Зауми как гипертекст // Текст. Интертекст. Культура. Сб.
докладов медународной научной конференции (Москва, 4-7 апреля 2001 года). М.: ИРЯ РАН, 2001 (0,3 а.л.).
Тело языка и язык тела в русской авангардной поэзии // Kjjrperzeic-hen-zeichenkiyper. Zu einer Physiologie der russischen und sowjetischen Kultur des 20. Jahrhudrterts. Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur. Band 24. (Сборник международной конференции) Bochum, 2002 (2,0 а .л.).
Переразложение слова и другие формы комбинаторики в русском поэтическом авангарде // Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialen der 5. Internationalen Konferenz der Kommission fbr slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee. Lutherstadt Wittenberg, 20.-25. September 2001)/ S.Mengel (Hrsg). (Slavica Varia Halensia; 7) -Mbnster: Lit, 2002 (0.4 а.л.).
Воскрешения и превращения в современной литературе // Философия космизма и русская культура. Материалы международной научной конференции «Космизм и русская литература. К 100-летию со дня смерти Николая Федорова», 23-25 октября 2003 г. Белград, 2004 (0,5 а.л.).
Рецепции творчества Велимира Хлебникова в современной русской поэзии // Материалы международной хлебниковской конференции - Russian Literature LV (2004),Amsterdam (0,5 а.л).
Параллели и перпендикуляры в новейшей русской поэзии // Dzielo li-terackie jako dzielo literackie. Международная конференция в честь профессора Ежи Фарыно. Akademia Bydgoska, Bydgoszcz, 2004 (1,0 а.л.).
Проективные теории русского авангарда // Семиотика и авангард. Под ред. академика Ю.С.Степанова. Москва: Академический проект, 2006 (4 а.л.).
Звукописьмо Георгия Спешнева // Материалы международной конференции «Художественный текст как динамическая система». М., ИРЯз РАН, 2006 (0,7 а .л., в печати).
Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. Москва: Наука, 1994 (18 ал.).
Уроки барокко и авангарда (комментарий к палиндромическим стихам Н.Ладыгина).
Тамбов: ТГУ, 1998 (2,0 а.л).
Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов: ТГУ, 1998 (11,7 а.л).
Поэзия русского авангарда. Москва, 2001 (20 а.л.).
Року укор. Поэтические начала. Москва: РГГУ, 2003 (35 а.л.).
Эй, житель, лети же! О палиндромической поэзии // Литературная учеба, 1985, N5 (0,4 ал.).
Амплитуда слова // Литературное обозрение, 1988, N1 (1,0 а.л.).
Изыскатель Ладыгин // Волга, 1988, N7 (0,4 ал.).
Самоспасающий сад поэзии (о ГАйги) // Волга, 1988, N12 (0,5 а.л.).
На пути к третьему театру (о В.Хлебникове) // Театр, 1988, N8 (0,3 а.л.).
Есмь! (о творчестве ГАйги) // Литературное обозрение, 1989, N4 (0,4 ал.).
Уроки Хлебникова: палиндромические поэмы Н.Ладыгина // Поэтический мир В.Хлебникова. Волгоград,1990 (совм. с Б.Н.Двиняниновым) (0,4 ал.).
Заумная поэзия: ...кратный курс истории и теории // Хлебниковские чтения. СПб.1991 (0,5 ал.).
Жизнь как слово (о Г.Сапгире) // Октябрь, 1992, N7-8 (0,4 ал.).
Предуведомление (об авангарде и постмодерне) // Черновик, Н.-Й., 1992, N6 (0,4 ал.).
Дрюм-дрюм-туту (наследие обэриутов) // Кредо, 1992, N7-8 (0,4 а.л.). Credo qua absurdum // Кредо. 1992, N7-8 (0.4 а.л.). Вступление // Забытый авангард. Сборник справочных и теоретических метериалов / Сост. А.Очеретянский, В.Крейд, Дж. Янечек. Нью-Йорк - СПб., 1993 (0,3 а.л.).
Силы мои омылись // Н.И.Ладыгин.Золото лоз. Палиндромические стихи. Тамбов, 1993 (0,4 а.л.).
Введение в голосоведение // Аудиокассета: Футуристы. Гилея. Голоса поэтов и звучащие воспоминания. М.: Гослитмузей -Гилея, 1995 (0,3 а.л.).
П.А.Флоренский и философия нового искусства // Кредо, 1995, N5-6 (0,5 а.л.).
Опыт музыкально-поэтического прочтения одного произведения
A.И.Введенского // Слово 1: сб. научных работ, поев. 20-летию Тамбовской лингвистической школы. Тамбов: ТГУ, 1996 (совм. с С.С.Бирюковой) (0,4 а.л.).
О заумной поэзии (60-е-80-е годы) // Экспериментальная поэзия. Избр. статьи/ сост и общ. ред Д.Булатова. Калининград, 1996 (0,4 а.л.). Мерой научности //Язык как творчество.Сб. статей к 70-летию
B.П.Григорьева. М.: ИРЯ РАН, 1996 (0,5 а.л.).
Фонема и уровень звука в поэтических системах XX века - путь к мировому заумному языку // Вестник Общества Велимира Хлебникова. Вып. 1. М., 1996 (1,0 а.л.).
Вщ барокко до авангарду... i навпаки //1.1ов. Перюдична система сл!в. Хмельницький,1997 (на украинском яз) (0,4 ал.).
Прозвученное слово А.Крученых // Слово-2. Сб. научн. раб. Тамбов: ТГУ,1997(0,4 а.л).
Тайный авангардизм М.Кузмина // Слово-2. Сб.научн.раб. Тамбов: ТГУ, 1997 (0,4 а.л.).
Визуальное и уникальное // Знамя, 1997, N11 (0,5 а.л.).
Аванагард как научная проблема // Державинские чтения. Матер, научной конф. преподавателей и аспирантов ТГУ им Державина. Тамбов: ТГУ, 1998 (0,3 а.л.).
Г.Айги перед лицом русского авангарда // Литературное обозрение, М.,1998, N5-6 (0,4 а.л.)
Der Realismus der Avantgarde. Gespräch mit G.Ajgi // G.Ajgi. Blätter in den Wind. Bd.II,
Wien-Lana, 1998 (1,5 а.л.).
«Ведь поэты рисуют...» /О визуальной поэзии в России // Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы. Международная антология/ Сост. Д.Булатов. Калининград, 1998 (0.5 а.л.).
Проективные теории русского авангарда (Музыкально-поэтический аспект) // Studia literaria Polono-Slavica-3. Warszawa, 1999 (0.5 а.л.).
Любовь к трем авангардам // Арион. М., 2000, N3 (0,8 а.л.).
Моника, или о смешанной технике // Черновик. Нью-Йорк - Москва, 2000, N15 (0,4 а.л.).
О проблемах авангардной поэзии // Emilio Arauxo. Do lado dos olios. 79 Poetas do Mundo. Vigo, 2000 (сборник «79 поэтов мира», на испанском языке, 0,4 ал.).
Стать Хлебниковым // Вестник Общества Велимира Хлебникова, вып. 3, 2002 (0,6 а .л.).
Зачарованные звучари // Homo sonorus. Международная антология са-унд-поэзии. Калининград, 2001 (на русском и английском яз.,0,5 а.л.).
Эротика и фонетика // Футурум-Арт. М., 2001, N2-3 (0,4 а.л.).
Диалого смештехнике // Черновик. Нью-Йорк-Москва. 2001, N16 (0,3 ал.).
О ГВ.Спешневе и его антипоэзии // Черновик. Н.-Й. -М., 2001, N16 (ОД ал.).
О Велимире Хлебникове // Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу. М.-Белград, 2002 (2,0 а.л.).
Музыкальный мир поэзии// Новая русская книга. СПб., 2002, N2 (0,2 а.л.). Параллели и перпендикуляры в новейшей русской поэзии // Черновик. Нью-Йорк -Москва, 2002, N17 (0,5 ал.).
Искусство палиндромической поэзии // Е.А.Кацюба. Новый палин-дромический словарь. М., 2002 (0,5 а.л.).
Путеводитель по Ладыгину // Н.И.Ладыгин. И лад и дали. Москва,
2002 (1,3 а.л).
Неол Рубин в пространстве авангардного движения,- Неол Рубин. Дум-дум. Мадрид, 2002 (0,5 ал.).
Обратимое слово НЛадыгина // Н.И.Ладыгин. И жар и миражи. Тамбов, 2003 (1,0 ал.).
Словариум Елены Кацюбы // Елена Кадюба. Игр рай. Стихи, поэмы. М., 2003 (0,3а.л.).
Эротический авангард // Комментарии. М., 2003, N3 (0,4 ал.). Времена неба Елизаветы Мнацакановой // Черновик, 2003, К18.Н.-Й.-М. (0,4 ал.)
Neovantgarde in Russland. Retrospektive und Perspektive // Perspektive. Graz-Berlin-Budapest, sept.2003, N45-46. (1,3 ал.).
Борис Двинянинов. Из стихов разных лет (предисл., публикация и коммент.) // Toronto Slavic Annual. Academic Journal in Slavic Studies. 2003, N 1. (0,5 ал.).
In girum imus nostu ut consumimur igni // Toronto Slavic Quarterly, N3,
2003 (1,5 ал.)
Панорамическая паронимия // Зборник Матице српске за слависти-ку.Св.64. Нови Сад, 2003 (0,4 а.л.)
Тютчев как текст (авангардное восприятие) // Toronto Slavic Quarterly, N5, 2003 (0,4 а.л.)
«Конфетиш!» - Ein Konferenz-Festival auf der Suche nach dem вьЯеп Kern der Poesie // Zeitschrift fi>r Slavistik, 49 (2004) 1, (0,3 ал.) (zus. mit H.Schmidt).
Неизвестный футурист // Зборник Матице српске за славистику. Св. 65-66. Нови Сад, 2004 (0,5 а.л.).
О Георгии Спешневе // Russian Literature, LVII (3-4), 2005. Amsterdam (0,5 ал.).
Гипотеза о смысле // Russian Literature, LIX (3-4), 2006. Amsterdam (0,5 ал.).
Alternando // Альтернативный текст: версия и контрверсия: Сб. статей / под ред. Т.В.Цвигун, А.Н.Чернякова. Калининград: изд-во РГУ им И.Канта, 2006 (0,5 ал.).
Тираж 100 экземпляров Сдано в набор 08.07.2006 Подписано в печать 06.08.2006
Издательство «Вест-Консалтинг» 109193, Москва, Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, офис 332 тел.: (495) 203-06-41, тел/факс (495) 203-06-89