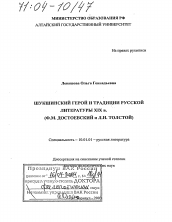автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Шукшинский герой и традиции русской литературы XIX в.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Шукшинский герой и традиции русской литературы XIX в."
На правах рукописи
Левашова Ольга Геннадьевна
ШУКШИНСКИЙ ГЕРОЙ И ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в. (Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ и Л.Н. ТОЛСТОЙ)
Специальность 10.01.01 - русская литература
I
I
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Тамбов 2003
Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы Алтайского государственного университета
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор '
Валерий Александрович Редькин
доктор филологических наук, доцент
Владимир Константинович Сигов |
доктор филологических наук, профессор '
Татьяна Александровна Снигирева I
Ведущая организация:
Кемеровский государственный университет
Защита состоится «& » мая 2003 года ъ& ОО часов на заседании диссертационного совета Д.212.261.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 93, филологический факультет ТГУ им. Г.Р. Державина.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (ул. Советская, 6).
Автореферат разослан « » —_2003 года
Ученый секретарь
диссертационного совета С.В. Пискунова
Общая характеристика работы
В связи с наступлением нового века возникает необходимость переосмысления той парадигмы историко-литературного процесса, которая сложилась в предшествующую эпоху. Во многом она строилась на противопоставлении века XIX - XX столетию. Актуальность постановки проблемы «Шукшин и русская классика» определяется возможностью выработки принципиально иного взгляда, с позиций бахтинского «Большого времени».
Несмотря на то, что М.М. Бахтин применяет принцип «большого времени», имея в виду движение от древней к литературе «нового
времени», нам кажется возможным использование этого термина относительно классической литературы XIX в. и XX столетия, в связи с теми сдвигами, которые произошли на рубеже веков, изменив характер литературы и культуры в целом. В границах «большого времени» литературные факты разных эпох могут повторяться в «снятом», модифицированном виде.
Более того, рассмотрение прозы Шукшина в связи с «дальним» контекстом -творчеством Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского - определяется возможностью типологического изучения двух эпох, второй половины XIX и XX вв. Несмотря на особенности их исторического развития, они соотносятся как «образы-рифмы»: это время социального и культурного «взрыва», смены эстетической парадигмы.
Шукшиноведение насчитывает уже не один десяток солидных работ. О творчестве автора «Сельских жителей» в разное время писали Л.А. Аннинский, В .А. Апухтина, Г.А. Белая, Е. Вертлиб, Л. Геллер, В.М. Карпова, В.И. Коробов, С.М. Козлова, А.И. Куляпин, Н.Л. Лейдерман, В.К. Сигов, Н.И. Стопченко, Е.В. Черносвитов и др. Исследователи «очертили» круг литературных пристрастий Шукшина, проанализировали имеющиеся прямые отсылки к произведениям русских писателей, выявили большое количество реминисценций. Однако в решении проблемы «Шукшин и русская классика» до сих пор отсутствует концептуальный подход.
Рано поняв, что «на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много», Шукшин отстаивает единственную, свою. Однако современные шукшиноведы отмечают в качестве одной из главных особенностей прозы писателя ее повышенную интертекстуальность. Проблема «своего» и «чужого» в творчестве автора «Сельских жителей» находится на начальном этапе ее решения, однако и сейчас ясно, что проза писателя XX века открыто в широчайший контекст отечественной и мировой культуры.
Какое место в этом тексте занимает личность и творчество Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого? Несомненно, одно из самых значительных. Обращение к
рос. национллммл?
БИБЛИОТЕКА I
гуманистической культуре XIX в. в литературе XX в. всегда строго избирательно для каждого художника, продиктовано теми задачами, которые он ставит перед собой. И все же классика является, прежде всего, знаком «большой литературы», соотношение с ней позволяет определить подлинность эстетических ценностей.
Очевиден тот факт, что прямых упоминаний о Л.Н. Толстом у Шукшина гораздо больше, чем о Достоевском. Однако «фигура умолчания» о Достоевском, на наш взгляд, неслучайна в прозе автора «Калины красной», постоянно отстаивающего свое право на самобытность. Особую роль Достоевского для творческого сознания Шукшина подчеркивает А.Е. Базанова, Г.А. Белая, В.Н. Быстров, В.Ф. Горн, В.И. Коробов, Е.И. Конюшенко, П.Ф. Маркин и др.
По мнению шукшиноведов, наличие «деревенского» топоса делает возможным изучение прозы автора «Сельских жителей» в аспекте толстовской традиции. Помимо этого, имена Л.р. Толстого и Шукшина сближаются, прежде всего, в разработке философской проблематики. Тему смерти, проблемы русского Эроса, «мысль семейную», распад русской патриархальной семьи отразил Л.Н. Толстой. Мимо этих открытий, как свидетельствует исследовательская литература, также не прошел автор «Любавиных», хотя в мучительном противостоянии отцов и детей в художественном мире Шукшина часто ощутимы и трагические отзвуки истории «случайного семейства» Достоевского. Шукшиноведы находят переклички во взглядах писателя XX в. с толстовскими религиозно-философскими исканиями.
Сложность решения проблемы определяется тем, что отношение Шукшина к предшественникам не может быть понято и рассмотрено как взаимодействие замкнутых творческих систем. Явление Достоевского и Толстого, как и всех писателей-классиков, воспринимается художественным сознанием человека XX века во всех тонах и обертонах обретенных смыслов.
Шукшиноведение в вопросе традиций столкнулось с рядом объективных трудностей:
Достаточно очевидная для любого писателя авторская установка на самобытность в прозе Шукшина приводит к рождению мифа о самородке, никакой литературной школы не проходившем, культивируемого самим автором «Калины красной». Поэтому в шукшиноведении возникла тенденция, полностью отрицающая возможность каких-либо сопоставлений.
Опираясь на высказывание самого Шукшина, что на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много, исследователи сталкиваются с тем, что сложившееся в литературоведении представление о «традиции» и «преемственности» к Шукшину в полной мере не применимы. По мнению Ю.Н. Тынянова, когда речь идет об этих категориях историко-литературного процесса, то «обычно представляют некоторую прямую линию, соединяющую млад-
шего представителя известной литературной ветви со старшим»1 . Наложение этой схемы становится препятствием для решения проблемы межтекстовых связей, художественно воплотившейся в прозе писателя XX в.
Отмечая повышенную интертекстуальность творчества Шукшина, исследователи констатируют следующую особенность: «Начиная с первых публикаций, произведения Шукшина как будто легко и просто вписываются в «текст любой культуры», <.„>, но оставляют при этом весьма заметный зазор, определяющий качество и меру собственного «текста», «манеры» и «вечности» Шукшина...»2.
Современное шукшиноведение, действительно, изучает творчество Шукшина в связи с «дальними» (древнерусская литература, литература XVÜI в.) и «ближними» контекстами. Исследователи выявили большое количество реминисценций из произведений Г.Р. Державина, A.C. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького и других писателей-классиков. Однако наличие отдельных совпадений и перекличек не позволяет понять сложный «механизм» усвоения сознанием человека XX в. прошлого художественного опыта. Поэтому исследователи не раз подчеркивали необходимость поиска методологических основ для изучения традиций русской классики в шукшинском творчестве.
Художественный мир Шукшина подчеркнуто антропоцентричен, о чем свидетельствуют названия основных сборников писателя («Сельские жители», «Характеры») и многочисленных его произведений («Любавины», «Гринька Малюгин», «Степка», «Непротивленец Макар Жеребцов», «Боря» и др.). Поэтому исследователи не раз обращались к анализу шукшинского героя, понимая, что он является эпицентром прозы писателя и содержит в себе разгадку во многом игрового образа автора. •
Следует отметить тот факт, что само понятие «шукшинский герой» укоренилось в современном шукшиноведении, однако оно отмечено противоречивостью. Сам автор, рассуждая о типе героя времени, называет таковым «дурачка», «в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем .и умном...»3. Недаром в высказывании Шукшина сходятся крайности («дурачок» и «гений»), автора «Калины красной» не привлекал «так называемый простой, средний, нормальный положительный человек». Шукшина прежде всего интересует стихийный тип, он «исследует характер человека-недогматика, человека, не
посаженного на науку поведения». Воссоздавая образ героя в связи с историче-- »
1 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 198.
2 Козлова С.М. Литературное наследие Шукшина в научном менталитете России и Запада // Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул, 1999. С. 11.
3 Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю. Публицистика. Барнаул, 1991.С.403.
скими событиями недавнего (революция, коллективизация, война) и далекого (восстание крестьян под предводительством Степана Разина) прошлого, Шукшин акцентирует свое внимание на человеке, выразившем в своей психологии «изломы», «комплексы», «вывихи». Общеизвестно, что «сверхтипом» всего творчества писателя является Степан Разин, по мнению американского исследователя Джона Гивенса, «alter ego» автора. «Разинское» начало становится неотъемлемой частью современной Шукшину действительности в связи с переходностью самой эпохи 1960-х годов, в которую опять остро встал «крестьянский вопрос». Сдвинувшаяся со своих основ деревня в качестве главного героя этого исторического периода выдвигает маргинала. Шукшин, будучи, по мнению JI.A. Аннинского, специалистом по «межукладочному слою», в своей прозе обратился к созданию такого характера, в котором нашло бы отражение национальное и эпохальное содержание.
Шукшинский герой, единство которого было отмечено уже критикой 1960-х годов, оказался неоднозначным, что подчеркнуто в работах, посвященных анализу творчества Шукшина. Отметив пристрастие Шукшина к «нелогичной, странной, чудной душе», JI.A. Аннинский указывает ее «границы» в прозе писателя: «На одном полюсе этого мятежного мира - тихий «чудик», робко тыкающийся к людям со своим добром <...>. На другом полюсе - заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью <...»>4 . Сложность шукшинского характера отмечает и H.JI. Лейдерман, один из первых исследователей подчеркнувший подлинный масштаб личности героя Шукшина и увидевший его истоки в предшествующей литературной эпохе. Г.А. Белая также указывает на связь шукшинского героя с традициями русской классики. Исследователь особенно актуализирует проблему «Достоевский в творческом сознании Шукшина», так как оба писателя, по мнению Г.А. Белой, воплотили разрушительный потенциал «маленького человека».
Противоречивость и сложность шукшинского героя определяют разный характер прочтений многих произведений писателя и не утихающие споры о творческом наследии Шукшина. Неоднозначность интерпретаций шукшинского текста связана с его глубиной, наличием аллюзий, реминисценций, целым рядом культурных «отсылок», большинство из которых - русская классика. Не случайно Б.И. Бурсов отмечает такую черту шукшинского героя, как «старомодность».
Очевиден тот факт, что мифология русской души в своих основных очертаниях сложилась в литературе XIX в. Поэтому постановка проблемы «Шукшин и традиции русской классики» в аспекте изучения своеобразия шукшинского героя
4 Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина // Аннинский Л.А. Тридцатые - семидесятые. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 242.
не вызывает сомнений. Научная новизна настоящего исследования определяется | тем, что:
впервые своеобразие шукшинского героя исследуется в контексте русской классики, в частности творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого;
в работе предпринята попытка изучения путей и особенностей усвое-, ния писателем XX в. художественного наследия русской классики;
шукшинское творчество и русская классика второй половины XIX в. рассматриваются как историко-литературные этапы воплощения национального мифа о «загадочной славянской душе»;
представленный анализ открывает перспективу изучения творчества писателей в аспекте проблемы межтекстовых связей.
На этом основании материалом исследования в работе станет проза писателей разных историко-литературных эпох: Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина.
Предметом исследования является творчество Л.Н. Толстого, ' Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина. В диссертации сознательно нарушена про-
порция в обращении к произведениям писателей-классиков. Анализ прозы Л.Н. Толстого в аспекте шукшинской традиции, по сути дела, лишь подчеркивает сознательность выбора Шукшина в пользу эстетики Достоевского. Помимо художественного творчества, привлекались черновые варианты, художественно-публицистические статьи, эпистолярное наследие писателей, воспоминания со' временников.
Основная цель исследования - изучение типологических и генетических «схождений» в творчестве писателей разных историко-литературных эпох, возникших как результат развития русской литературы в сфере осмысления категории «национального»; исследование особенностей усвоения и переосмысления мировоззрения, эстетики и поэтики Л. Толстого и Достоевского в творческом сознании художника второй половины XX в. Шукшина. > Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач:
рассмотрение эпох (второй половины XIX и XX вв.) в парадигме «Большого времени» (М.М. Бахтин) как времени социального и культурного ( «взрыва» (Ю.М. Лотман);
анализ мировоззрения, эстетики и поэтики Л. Толстого, Достоевского и Шукшина в аспекте поиска типологических «инвариантов», свидетельствующих о преемственности русской литературы, прежде всего, в осмыслении национального;
обнаружение в национальном характере, запечатленного Достоевским и Шукшиным, разрушительного потенциала, обращение писателей к образным архаическим формам «бесовства»;
изучение классических традиций в прозе Шукшина в свете особенностей воплощения «странного», маргинального героя и проблемы сложности национальной самоидентификации;
исследование своеобразия художественного осмысления в творчестве Шукшина основных национальных «мифов» русской классики, связанных с категориями пространства, движения, типом характера, «русской идеей» и т.п.
анализ шукшинского героя в аспекте решения русской классикой философских и социальных проблем.
Методологическая основа исследования.
В качестве ведущего в нашей работе был использован сравнительно-типологический метод исследования, опирающийся на труды по исторической поэтике, на работы А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, в которых, при всем учете пестроты и многообразие литературного процесса, осуществляется поиск «инвариантов», повторяемости, отражающих закономерности развития литературы. Принципиально важными для логики диссертации являются понятие «диалога культур» и форм воплощения «чужой речи» не только как средства, но и как предмета изображения, разработанные М.М. Бахтиным в его истории и теории культуры. Проблема межтекстовых связей исследована в поздних работах М.Ю. Лотмана и представителей тартуской школы, в трудах постструктуралистов (А.К. Жолковского, Ю.К. Щеглова, Б.М. Гаспарова), на которые мы также будем опираться.
В ходе развития русской литературы создавался не только национальный характер в его реальных социокультурных очертаниях, но и мифология русской души, что делает закономерным обращение к мифологическому методу.
В основе исследования лежит рабочая гипотеза:
Рано поняв, что нехоженых троп в литературе немного, Шукшин опирается на русскую классику в выработке собственной позиции в литературе. Русская классика для автора «Сельских жителей» оказывается ориентиром на творческом пути.
Способы усвоения художественным сознанием человека XX в. произведений русской классики многообразны: от преемственности и следования традиции до переосмысления, трансформации и игры с классической образностью.
Сложное отношение к классическому наследию у Шукшина (от пиетета до иронии) связано прежде всего с недоверием писателя иной историко-литературной эпохи к основным выводам о человеке и его будущем, сформулированным русской литературой XIX в.
Однако классика полнее всего воплотила национальный миф, не только отразила, но и во многом сформировала русский национальный характер. Создавая своего героя как выражение национального и эпохального, Шукшин не мог
пройти мимо художественного опыта русской литературы XIX в., прежде всего Достоевского и Л. Толстого.
Воплощая социально-психологическую трагедию своего времени в образе сдвинувшейся со своих основ русской деревни и «разземеленного» крестьянина, по психологии негородского и несельского, Шукшин недаром обращается ко второй половине XIX в., «когда все переворотилось и только укладывалось».
Несмотря на то, что «великие спутники» часто мыслятся художественным сознанием человека XX в. в единстве, все же очевидным является тот факт, что творческий опыт Достоевского необходим Шукшину чаще всего в воссоздании хаоса действительности и разрушительного потенциала национального характера. Толстовский контекст в шукшинской прозе возникает при решении социальных (сельский человек и работа на земле), психологических (философия пола, образ «злой жены») и философских проблем (тема смерти, проблемы веры и безверия).
Обращение к русской классике, в частности к творчеству Достоевского и Л. Толстого, как к одному из источников создания шукшинского характера позволяет не только подтвердить тезис, выдвинутый еще критиками 1970-х гг. о диф-ференцированности и сложности «простого человека» Шукшина, но понять его «составляющие». Герой Шукшина - творец и разрушитель, мечтатель и прагматик, носитель веры и богохульства, цельный и раздвоенный, странный и типичный одновременно.
Решение заявленной проблемы, на наш взгляд, позволит приблизить шук-шиноведение к ответу на вопросы о творческом методе и месте автора «Калины красной» в литературном и культурном контексте XX - нач. XXI века. На наш взгляд, Шукшину оказывается чуждо представление о мире как о тексте с его бесконечной перекодировкой и игрой знаков. Поэтому отношение к классике писателя XX в. во многом воплощает «жизнестроительную» функцию, характерную для традиций русской литературы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В условиях главенства и монизма соцреалисгаческой эстетики обращение к психологическому облику, художественному опыту, творческой лаборатории Достоевского и Л. Толстого означало не только сохранение преемственности в формировании феномена «русский писатель», но и воплощение таких его составляющих, как подвижничество, пророческий дар, социальный нонконформизм, всеотзывность. В отдельных произведениях Шукшина, как правило, воссоздается миф о творце в негативной интерпретации, рожденный прежде всего характером эпохи: недовоплощенностью, нереализованностью «мастера», победой конъюнктурного искусства. Позитивное содержание отражает весь «метатекст» прозы Шукшина и шукшинский биографический миф о'творце и творчестве, созданный
с явной опорой на традиции русской классики, в частности на художественный опыт Достоевского.
2. Постановка проблемы национальной самоидентификации и рассмотрение категории «странное» в сравнительно-типологическом и сравнительно-генетическом аспектах позволяют исследовать шукшинского героя в связи с традициями русской классики, прежде всего Достоевского. Странность, по мнению писателей, более всего выражает национальное и эпохальное содержание. Юродство, архаическая форма религиозного подвижничества, ставшая в культуре нового времени психологической особенностью, является одной из важных составляющих в формировании феномена странного человека.
3. Изучение разрушительного потенциала национального характера, воссозданного в творчестве Достоевского и Шукшина, через архаические образы бе-совства позволяет создать своеобразную типологию героев-«бесов», обнаружив в них разные проявления'злого и инфернального, в связи с воплощением темы «преступления и наказания», «двойничества», «подполья».
4. Анализ философии и психологии лжи в художественном мире Достоевского и Шукшина приводит к выводу об ее сложной природе, связанной с особенностями национального характера: она может быть разрушительной и созидательной одновременно, о чем свидетельствует изучение героев-лжецов и героев-мечтателей. Неотъемлемой чертой русского сознания Х1Х-ХХ вв. является самозванство, утратившее историко-философскую функцию, но отразившее глубочайшие сдвиги в области социальной психологии.
5. Кризис веры, особенно остро почувствованный в эпоху «взрыва» и наиболее драматично воплощенный Л. Толстым, позволил именно автору «Воскресения» поставить целый ряд философских проблем: осознание таинства смерти, поиски смысла человеческого существования, отрицание Евангельского Воскресения и обращение к идее абсурда, признание самоубийства одним из путей ее преодоления, убежденность в самоценности и торжестве жизни. XX в., усиливший тенденцию к тотальной утрате смысла человеческого существования, предопределил необходимость усвоения художественного опыта Л. Толстого, тем более если речь идет о Шукшине, так много и так мучительно рассуждавшем о вечных вопросах бытия.
6. Несмотря на разницу общественного устройства России в XIX и XX вв., несмотря на те коренные изменения, которые произошли после революции, однако преемственность в области социальной проблематики свидетельствует о существовании устойчивых «инвариантов» художественного и общественного сознания. Шукшинское творчество, как и наследие Достоевского и Л. Толстого, отражает противоречия между отдельным гражданином, его интересами, чувствами, чаяниями и Государством. Шукшин, вслед за писателями-классиками, в новых ис-
торических условиях показал, как сильными мира сего эксплуатируется «мертвый» миф о патерналистской функции государства. Из всего арсенала средств воздействия «старших» на «младших» осталось только наказание. Поэтому столь часто писатели разных историко-литературных эпох обращаются к изображению государственного института суда, свидетельствуя об его неправедности.
7. В шукшиноведении не раз предпринималась попытка создания классификации героев. Однако одна из самых, на наш взгляд, универсальных классификаций принадлежит Достоевскому. В связи с тем, что опыт автора «Братьев Карамазовых» для Шукшина в воплощении национального характера оказался столь существенным, мы считаем возможным в качестве рабочей гипотезы ее использование: низшие типы для писателей отнесены к определенному классу «бестиа-рия», высший несет в себе духовные ценности, откристаллизованные вековой традицией православия. На первый взгляд, такой вывод спорен относительно Шукшина, писателя, у которого не было и не могло быть индивидуального религиозного опыта, но он был у народа, из которого писатель вышел.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что исследование межтекстовых связей является одной из ведущих проблем отечественного литературоведения, прежде всего, в связи с обращением к постструктурализму, рассматривающему в качестве главного эстетического объекта изучения открытый, «разомкнутый» в контекст культуры текст. Становится очевидным, что и традиционные сравнительно-типологический и сравнительно-генетический подходы нуждаются в дальнейшей разработке, более того, если речь идет о творческих индивидуальностях разных масштабов дарования, принадлежащих к удаленным друг от друга историко-литературным эпохам. Сосуществование и взаимодействие таких феноменов в истории русской литературы принято было исследовать лишь в аспекте «традиций и новаторства» и в парадигме «учитель - ученик», что явно не соответствует сложной природе межтекстовых связей.
Изучение прозы Шукшина в контексте творчества Достоевского и Л. Толстого открывает в шукшиноведении перспективу для дальнейших типологических исследований.
Кроме того, предложенная методика - сравнительно-типологический анализ шукшинских текстов и «дальнего», а не современного Шукшину контекста - позволяет по-новому рассмотреть ряд мировоззренческих и эстетических проблем творчества писателя XX.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, тго его основные положения могут применяться в учебном процессе при чтении общих курсов по истории русской литературы XX века, при разработке специальных курсов и спецсеминаров. Материал диссертации широко используется в работе над энциклопедическим словарем-справочником «Творчество В.М. Шукшина», создавае-
мым коллективом научно-исследовательского центра-музея В.М. Шукшина при Алтайском государственном университете.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 34 публикациях общим объемом 30 пл., в том числе в одной авторской, одной коллективной монографии, научных статьях, тезисах к докладам. Диссертация обсуждалась на кафедре русской и зарубежной литературы Алтайского государственного университета. По теме диссертации был сделан ряд докладов на международных, всероссийских и региональных научных конференциях: «В.М. Шукшин. Жизнь и творчество» (Барнаул, 1992, 1994, 1997, 1999, 2002), «Проблемы литературных жанров» (Томск, 1995, 2001), «Роль традиции в литературной жизни эпохи: сюжеты и мотивы» (Новосибирск, 1995, 1996, 2002), «Культура и текст» (Барнаул, 1996, 2000), «Нравственность есть правда. Россия и театр Шукшина» (Барнаул, 1997)( «Дергачевские чтения» (Екатеринбург, 2000, 2002), «Интерпретация художественного текста» (Бийск, 1997). Материалы диссертации были апробированы при чтении основных курсов по истории русской литературы, в спецкурсе «В.М. Шукшин и русская классика», в работе спецсеминаров.
Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографии. Объем диссертации 319 страниц. Библиография состоит из 316 названий.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается обоснование научной актуальности темы, рассматривается литература по изучаемой проблеме, определяется предмет исследования, формулируются его цели, задачи и методика.
В центре первой главы «Шукшинский герой и основные мифы русской классики» - рассмотрение путей усвоений и трансформации художественным сознанием писателя XX в. основных мифов русской классики. Первый раздел «Глаголом жги сердца людей!» посвящен анализу воплощения Шукшиным мифа о творце и творчестве, сложившегося в национальной традиции. Дж. Гивенс недаром называет Шукшина «культурным аусайдером», тем самым подчеркивая его особое положение в литературе 1960-70-х годов. Свое первое появление на страницах «толстых» литературных журналов Шукшин воспроизводит вполне литературно, рассылая в разные редакции «веером» свои рассказы, по настоянию М. Ромма, а в случае отказа меняя их местами. И в дальнейшем творческое становление писателя во многом будет ориентировано на те или иные культурные образцы, прежде всего на традиции русской классики.
В разделе рассматриваются проблемы художественного метода и творческой лаборатории Л. Толстого, Достоевского и Шукшина. В ранней прозе писате-
ля XX в. ощутима художественная установка, близкая к эстетике Л. Толстого и выражающаяся в тезисе: «Чем ближе к искусству, тем фальшивее». Однако в позднем творчестве автора «Точки зрения» и повести-сказки «До третьих петухов» обнаруживаются и иные тенденции, связанные с созданием особого типа произведения, открытого в контекст мировой культуры.
Эстетическая позиция писателей выявляется прежде всего относительно Пушкина. Достоевскому и Шукшину оказалась близка пушкинская концепция творчества, выраженная поэтом в стихотворении «Пророк». Ее интерпретация позволяет понять преимущественный принцип воплощения художественного времени в творчестве Л. Толстого, Достоевского и Шукшина. Автор «Дневника писателя» нуждался в звании пророка, потому что творил в условиях «переворотившегося» мира, отображая складывающуюся на глазах действительность. Но и Шукшину свойственна «тоска по настоящему». Основная цель автора «Калины красной» - «Важно прорваться в будущую Россию». Модель художественного времени Л. Толстого можно представить как настоящее, имеющее тенденцию возвращения в прошлое с целью обнаружения причинно-следственных связей. Поэтому художественный мир Л. Толстого эпически целесообразен, творчество Достоевского и Шукшина лишено черт стабильности, «здесь все в брожении».
Возникают явные переклички в отношении к слову и в работе над словом в творческой лаборатории Достоевского и Шукшина. Неслучайно статья Д.С. Лихачева об авторе «Братьев Карамазовых» названа «"Небрежение словом" у Достоевского», так как уже при жизни Достоевского возник миф о том, что он вечно спешил, понуждаемый долгами и обязательствами, поэтому портил свои литературные шедевры. В.И. Коробов выступает против подобных суждений. Он подчеркивает, что эта же характеристика стиля, но уже'шукшинского, возникала на протяжении всего периода творчества автора «Сельских жителей». В.Е. Ветловская, анализируя роман «Братья Карамазовы», специально останавливается на особой эстетической функции «неправильного слова» у Достоевского, «неловких» и «неуклюжих» фраз. Они, по мысли исследователя, способствуют созданию эффекта неожиданности высказывания, подчеркивают взволнованность говорящего, импровизационный характер речи героя. В шукшинской прозе воплотились, по существу, те же принципы.
Д.С. Мережковский в своей книге «Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники» делает интересное замечание о важности оппозиции «видеть» и «слышать» в творчестве Л. Толстого и Достоевского. Исследователь подчеркивает описательный характер художественного дара автора «Войны и мира» и иное, преимущественное отношение к произнесенному и звучащему слову у Достоевского. Установка на устную речь отличает и художественный мир Шукшина. Л. Геллер в анализе рассказа «Срезал» специально останавливается на манере го-
ворить, характерной для главного героя, и выводит во многом универсальную формулу шукшинского языка, которая заключается в том, что крестьянин «свой язык потерял, а чужому не научился»'. Языковая ситуация, воссозданная в произведениях писателя отражает эпохальные процессы и, с одной стороны, воплощает характер героя-«недогматика», не посаженного на науку поведения, с другой, изображает «героя времени» - «демагога». Толстовский герой, как правило, человек догмы при всей его «текучести». Часто, как и автор, он живет соответственно написанным программам, кодексу чести, внутренним нравственным установкам, с которыми соотносим. У Достоевского и Шукшина преимущественный интерес к слову обусловлен особым типом героя-маргинала.
Отношение к слову, тип героя, средства его изображения определяют во многом и характер творческого метода. По мнению исследователей, метод Достоевского, который сам автор «Преступления и наказания» определил как «фантастический реализм», рож!дается «на пороге»: «...мир фантастического реализма обнаруживает странное в знакомом, субъективное в объективном, мелодраматическое в банальном, поддерживая рискованное равновесие на границе между одним и другим»6. Неорганичность, «разорванность» и в человеческом, и в творческом диапазонах характерна для Шукшина-писателя и для его творений. В определении творческого метода важно подчеркнуть два аспекта, сближающих не на внешнем, а на глубинном уровне художественные миры писателей разных историко-литературных эпох. Проза Достоевского и Шукшина не только диалогична в том значении, которое этому термину придавал М.М. Бахтин, подчеркивая особый характер соотношения героя и автора, но и многопафосна, и с точки зрения воплощения жанрово-родовых признаков неоднородна. Второй аспект определяется шукшинской установкой на коммуникативную функцию искусства: творчество всегда диалог с читателем. И в этой позиции автор «Калины красной» ближе к Достоевскому, чем к «олимпийству» Л. Толстого.
Особенность прозы Достоевского и Шукшина, в горниле которой «переплавляется» различный и неоднородный материал, связана и с ее гипотетичностью, с поставленной задачей - «прорваться в будущую Россию». Поэтому Достоевский сознательно оговаривает право писателя на ошибку. Как известно, Л. Толстой дает словесную формулу «переворотившегося и только укладывающегося мира», но именно Достоевский в эпоху второй половины XIX в. демонстрирует возможность воплощения разных онтологических плоскостей, одновременность противоположных решений. Художественный мир Шукшина также во многом гипотетичен: в целом ряде рассказов его герои-мечтатели моделируют, что
5 Геллер Л. Опыт прикладной стилистики. Рассказ В. Шукшина как объект исследования с пе-
ременным фокусом расстояния // Wiener Slawistischer Almanac. 1979. №4. С. 115. Малькольм В.Дж. Достоевский после Бахтина. СПб., 1998. С. 30.
могло случиться и не случилось («Билетик на второй сеанс», «Миль пардон, мадам!»). Поэтому столь закономерным становится появление в творчестве Шукшина повести «Точка зрения». Ее композиционные особенности выразил Л. Аннинский: «Попробуй тут выпутаться из противоречий, когда вся суть - в противоречиях.. .»7.
Творчество Л. Толстого, Достоевского и Шукшина обнаруживает стремление к единству: каждый из писателей из жанрового многообразия стремится создать единый текст. Однако их творчество обнаруживает разную логику построения. Русская философская мысль, анализируя художественные миры Л. Толстого и Достоевского, обращается к принципу триады. В.В. Розанов эти три фазиса развития человечества определил как периоды «непосредственной первоначальной ясности, падения, возрождения...»8. Изображая хаотические состояния, Л. Толстой тяготел к органике, ладу, всегда в своем творчестве показывая, как созидается новый национальный и социальный мир. Достоевского же, по мысли В.Н. Топорова, интересует «временная точка, где силы хаоса, неопределенности, непредсказуемости начинают получать преобладание»9. Эта точка «завораживала» и Шукшина. Поэтому мир шукшинской прозы, как у Достоевского, беспокоен и раздражающ, лишен всякой благостности, наполнен преступлениями, нравственными и юридическими, скандалами, парадоксами, посредством которых и может осуществить и идентифицировать себя маргинальная личность. Более того, тенденция эта в художественном мире Шукшина динамическая, усиливающаяся от 1960-х к 1970-м годам.
Литературное наследие XIX в. помогало Шукшину творчески самоопределиться в условиях меняющейся культурной парадигмы. Шукшин, поднимаясь к вершинам мастерства, на протяжении всей жизни пытается понять «загадку» творчества. Путь творческого самоопределения Шукшина был явно ориентирован на преодоление тех литературных стереотипов, которые сложились в предшествующей русской литературе XX в. Обновление эстетики и поэтики опиралось на традицию классического искусства, прежде всего связанного с именами Л. Толстого и Достоевского. Однако феномен Шукшина также немыслим без усвоения художественного опыта Пушкина, Гоголя, Лескова, Чехова и многих писа-телей-предщественников XIX и XX в.
Во втором разделе «Власть земли» исследуется продуктивность этого мифа как для русской литературы XIX в., так и для XX столетия. Земля для героев Г. Успенского, Л. Толстого, Достоевского, с одной стороны, Шукшина и писате-
7 Аннинский Л.А. Тридцатые-семидесятые. М., 1978. С. 245.
8 О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990. С. 66.
9 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 201.
лей-«деревенщиков», с другой, воплощает главную категорию мироздания в представлении русского человека. Утрата этой связи оборачивается не только люмпенизацией населения, маргинальностью и «межумочностью» героя, но и разрушением космогонического мифа о единстве человека и природы. Разрыв с землей обусловит актуальность для прозы писателей библейского мифа о «блудном сыне». Этот миф во многом объясняет и своеобразие творчества автора «Калины красной», и эстетическое осмысление его биографии современниками. Идея странствия приобретает в творчестве Достоевского, Л. Толстого и Шукшина концептуальный и философский характер, определяя положение героя, отпущенного на вольную волю, находящегося «на полпути между добром и злом»10. <,
Для понимания путей и характера усвоения художественных идей писателей-классиков творческим сознанием Шукшина важна его статья «Средства литературы и средства кино». В ней, обсуждая на первый взгляд, технические приемы экранизации произвёдений русской классики, Шукшин соединит в своем сознании концепции произведений Л. Толстого и Достоевского и противопоставит. Интересным и самобытным окажется прочтение писателем XX в. программного толстовского рассказа «Три смерти». По сути дела, главной мыслью шукшинского анализа будет идея разъединения: в трактовке Шукшина, по Толстому, каждый особенно одинок в смерти. В самом выборе очерка Достоевского из «Дневника писателя», автобиографического отрывка «Мужик Марей», виден контраст, в центре этого произведения - человек из народа и утверждение возможности социального мира. Роберт Луис Джексон в очерке «Мужик Марей» увидит «...провозглашение веры и убеждений» писателя", которые выразятся в отсутствии идеализации народа. Через благостный образ патриархального мужика Марея, спасающего барчука от волков, проступают черты сибирского каторжника. При всей напряженности в решении проблемы «интеллигенция и народ», при полном понимании того, что рефлектирующий герой культурного слоя не может вернуться в органическую, природную первозданность жизни, все же Толстой в этом пункте утопичен.
В творчестве Шукшина проблема взаимоотношений народа и интеллиген- ' ции - одна из основных. Она разработана в сатирическом («Срезал»), драматическом («Крепкий мужик») и даже в идиллическом («Страдания молодого Ваганова») ключе. Провозгласив вслед за Достоевским необходимость встречного движения интеллигенции и народа, Шукшин в своих произведениях чаще всего показывает всеобщий разлад. Отсутствие национального мира у Шукшина обусловлено по сравнению с писателями-классиками дополнительными причинами, главная
10 Топоров В.Н. Указ. соч. С. 196.
11 Джексон Роберт Луис. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны. М., 1998. С. 26.
из которых - сложность социальной и личностной самоидентификации героев, возникшая в советский период.
В эпохи «взрыва», ломки традиционных форм жизни становится наиболее ощутимой проблема утраты социального мира в России, Чуждость своей стране русского культурного слоя. Достоевский, Л. Толстой и Шукшин, по-своему воплотившие эту национальную трагедию, истоки ее видят в эпохе Петра I.
Граница, разделившая нацию, пролегает и в пространстве русской горизонтали, воплощаясь в оппозициях: «столица» - «окраина», «город» - «деревня», «Восток» - «Запад». В попытке преодоления разрыва между народом и интеллигенцией шукшинское творчество обнаруживает связь с традицией решения этой проблемы Л. Толстым и Достоевским. Автор «Братьев Карамазовых», пытаясь преодолеть крайности славянофилов и западников, требует обоюдных шагов и верит в будущий синтез. У Л. Толстого социальный мир во многом связан с идеями роевого начала, органичной простоты и нравственности. Он видел их только в народе.
Шукшин жил в иную историко-литературную эпоху, в которую создавалась новая советская интеллигенция, часто вышедшая из «низов». Однако всем своим творчеством он выразил ту же национальную проблему. Новая интеллигенция переживала столь же быстрый, иногда даже менее мучительный, чем старая (в силу отсутствия комплекса вины и необходимости покаяния) процесс отчуждения от народа («Игнаха приехал», «Срезал», «Психопат», «Дебил» и др.). В целом же, условия социальной гармонии, предложенные «почвенником» Достоевским, оказались близки и Шукшину, для которого деревня и народ остались хранителями национальных основ, а интеллигенция и город воплощали культуру.
Сложность национальной самоидентификации ¿вязана с пространством «своего» и «чужого». Понимание «чужого» в русской литературе порой двойственно, однако способность понимать «чужое» Достоевский считал национальной чертой русского человека. В шукшинском творчестве эта особенность русского характера в соответствии с новым веком, тяжелым историческим опытом, положением России за «железным» занавесом значительно ослабевает.
Как и в литературе XIX в., в творчестве писателя XX в. большую роль в воссоздании характера героя играет художественное пространство. Шукшина как писателя-«деревенщика» часто «втискивали» в рамки только региональной картины мира, однако автор «Сельских жителей» в своей прозе воплотил универсальную модель пространства, эстетически освоенную в предшествующей культурной традиции. Индивидуальный характер шукшинского осмысления пространства обусловлен реалиями новой эпохи и авторской «точкой зрения». Постоянная их смена и незакрепленность: от деревенского мира к городскому, от глубинки к центру, от своего к чужому, от маркированного пространства к немаркированно-
му и постоянное изменение векторов, существование в «пограничных» состояниях - создали особый мир прозы Шукшина, в котором, как и в русской классике, серьезно переосмысливается категория движения и прогресса. Национальная целесообразность и опора на традиционные жизненные устои противопоставляются, с одной стороны, косности, отсталости и прогрессу во имя прогресса, с другой.
В третьем разделе «Странные люди» рассматривается герой Достоевского и Шукшина. Коренное отличие этого типа героя от толстовского заключается в их подчеркнутой необычности. Странность, по мнению двух писателей разных историко-литературных эпох, ярче всего характеризует категорию национального. Показательно, что несколько рассказов Шукшина 1970-х гг. в черновиках были названы «Загадочная славянская душа». «Странный» - одна из частотных и излюбленных характеристик человека в художественном мире Достоевского.
В творчестве Достоевского и Шукшина «положительно прекрасный человек», как правило, возникает в традициях серьезно-смехового искусства. В этом аспекте важным, на наш взгляд, становится обращение к сугубо национальной форме общественного служения и религиозного подвижничества - юродству. Юродство прежде всего национальное явление. H.A. Бердяев считает, что в русской религиозной духовной культуре преобладает не героизм, а жертвенность. Интерес к юродству явно выражен в литературе второй половины XIX века, эпохи кризиса православия и мучительных религиозно-философских исканий. К созданию образа героя, обладающего чертами юродствующего сознания, обращались JI.H. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский, Н.С. Лесков. Однако шире и глубже всего этот художественный тип воссоздан в творчестве Достоевского.
С юродивым шукшинского героя роднит отказ от среднестатистического героя. Писателя, несомненно, интересует диалектика мудрости и «дурацкости». Лучшие его герои - «заступники», искатели истины. Эти поиски чаще всего выражаются в особых, подчас парадоксальных формах. За иррациональным поступком органичного героя Шукшина чувствуется неискоренимое в народе стремление к красоте и правде. Однако религиозно-философское начало значительно редуцируется, существуя порой лишь в подтексте рассказа («Гена Пройдисвет»),
Юродствующая позиция характерна и для «сверхгероя» шукшинской прозы - Стеньки Разина. Она является прежде всего формой демократического протеста, неприятия абсурдного, по мнению атамана, социального мира. Однако, как и в раннем творчестве Достоевского, юродство героя Шукшина неотличимо от скоморошества. С одной стороны, протест Стеньки постоянно окрашивается в религиозные тона (его окружение склонно воспринимать атамана как «нового Христа»), с другой, - становится проявлением бесовства.
В силу сложности проблемы юродства, значительной секуляризации рели-
гиозного содержания в прозе писателя XX в., вопрос об архетипических составляющих «странного» героя Шукшина лишь намечен. Однако, на наш взгляд, юродство важно для понимания феномена национального. Уже в русской литературе конца XIX в. оно становится во многом лишь психологическим феноменом. Будучи формой проявления позиции нонконформизма и принадлежа к области серьезно-смехового мира, оно органично соответствовало творческой манере Достоевского и Шукшина. Юродство в психологии людей, в культуре и литературе русского атеистического XX века, несомненно, приобретало особые формы, подчас судорожные, отмеченные психологическим «вывихом». Однако даже такие его проявления свидетельствовали о таящемся в народе духовно-религиозном потенциале, о сохранившемся православном представлении о подвижниках и правдоискателях.
Во второй главе работы «...Все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» предметом анализа станет разрушительный потенциал русского национального характера, выразившийся в обращении писателей разных историко-литературных эпох к архаическому образу бесовства. В первом разделе «К вопросу о бесовстве» рассматриваются истоки этой проблемы, языческие и христианские представления о злой инфернальной силе. Для Достоевского и Шукпгана характерно исследование диалектики добра и зла, хотя необходимо отметить разный философский диапазон решения этой онтологической и психологической проблемы и разную степень глубины разработай этой темы у писателей.
Во втором разделе «Бесовство и проблема двойничества в раннем творчестве Достоевского и прозе Шукшина» исследуется взаимосвязь проблемы двойничества и бесовства. Исследовательница В.Е. Ветловская, анализируя религиозно-философскую проблематику в первом романе Достоевского, подчеркивает, что «бес», «Антихрист» не обладает самостоятельной творческой силой, он всегда «двойник», «обезьяна Бога». Эпистолярность романа обуславливает особую позицию героев, демиурги чность созданного ими мира. В выборе имени и фамилии Макара Алексеевича Девушкина подчеркнута его самодостаточность (андрогин-ность) - сочетание мужского и женского начал, старости и молодости.
Но в создании микромира героев важной является его профессия, постоянно повторяющийся характер его деятельности - переписка. В результате «двойной вербализации» в текст закрадывается ошибка. Микромир героев в конечном итоге отразил законы построения макромира, в котором торжествует зло.
Вопрос о двойничестве в творчестве Шукшина Е.В. Черносвитов также решает в свете конфликта «божеское» - «дьявольское», указывая на архаические истоки этой проблемы в прозе писателя XX в. Однако двойничество у автора «Сельских жителей», особенно в 1960-е годы, возникает не как онтологическая, а как
социально-психологическая проблема. Переходный характер эпохи создает личность раздвоенную и неорганичную.
Рассказ «Непротивленец Макар Жеребцов» в шукшиноведении принято сближать с контекстом творчества JI. Толстого, с его нравственно-философской концепцией «непротивления злу насилием» и с одним из поздних его произведений «Холстомер». Однако и контекст художественного мира Достоевского важен и значителен для понимания рассказа. В тексте шукшинского рассказа в связи с контекстом творчества Достоевского важна профессия Макара Жеребцова - почтальон. Он еще далее отстоит от слова, созданного в процессе творческого акта. Макар Шукшина уже не «демиург» и даже не переписчик, он вообще не творец. Зло теряет конкретные очертания, выступает под видом добра. Однако первым и главным признаком является его бесплодность.
Тема двойничества творчески переосмыслена в иную историко-литературную эпоху Шукшиным и нашла отражение в рассказах «Заревой дождь», «Земляки», «Обида». Рассказ «Заревой дождь» строится как разговор героев-антиподов и вместе с тем героев-двойников в субстанциональной ситуации близости смерти. В произведении даются две разные, определенные законами исторического времени, судьбы по сути дела одного и того же шукшинского характера. Диалог «последних вопросов» подчеркивается образом «окна» как символом порога. Мучительное «pro» и «contra» в рассказе разрешается органичностью самой жизни, вечным ее обновлением, которые символизирует «дождь на заре». В решении этой вечной проблемы Шукшин опирается и на художественный опыт Достоевского.
Та же субстанциональная ситуация - диалог «последних вопросов» перед лицом смерти - возникает и в другом шукшинском рассказе «Земляки». Объединяющий характер заглавия и отдельные мотивы творчества автора романа «Идиот» (разговор Анисима и Гриньки о самоубийцах, «божеское» и «дьявольское» как свободный выбор человеческого пути, фамилия эпизодического персонажа «Рогодин», коррелирующая с «Рогожин») позволяют понять историю двух братьев в свете проблемы двойничества (Анисим и Гринька - разные ипостаси одного характера).
Рассказ «Обида» в аспекте воплощения проблемы двойничества надо признать одним из самых «Достоевских» в творчестве Шукшина. Само название произведения обозначает основной психологический комплекс «маленького человека». По мнению Достоевского и Шукшина, обида - извечное чувство, присущее маленькому человеку, а вся его жизнь - сплошные обиды. В финале шукшинского рассказа звучит, сродни Достоевскому, идея возможной мести обидчику. Однако устойчивый пласт христианской лексики является не случайным: по сути дела, Шукшину оказался близок программный тезис писателя-классика - «бунтом жить
нельзя!». Как часто бывает у Шукшина, рисуя в рассказе частную ситуацию, писатель, благодаря контексту русской классики, переводит ее в обобщенно-философский план, размышляя о вечных категориях добра и зла, мести и прощении. Основные выводы Шукшина, неслучайно, оказались созвучными творчеству Достоевского.
Создавая героев-антиподов и героев раздвоенного сознания, Шукшин не может не учитывать традицию Достоевского. Частотность обращения Шукшина к проблеме двойничества свидетельствует о потере органичности у многих шукшинских героев, последние же являются отражением переходной эпохи. Двойни-чество, воссозданное не только в социально-психологическом, но и в философском аспекте, отражает диалектику «божеского» и «дьявольского» в человеке. В отличие от романтической традиции, где добро и зло метафизичны и имеют точные границы, в творчестве Достоевского и Шукшина при отсутствии релятивизма решение проблемы предельно усложнено. Если Достоевский уже в первом своем произведении создал дисгармоничный мир, где победило зло, то в раннем творчестве «шестидесятника» Шукшина мир может быть гармонизирован разумом, доброй волей отдельного человека, людским взаимопониманием, близостью к природе. Однако в зрелой прозе автора «Калины красной» действительность предстает трагичной и столь же нецелесообразной, как и у писателя-классика.
В позднем творчестве Достоевского, прежде всего его «великом пятикни-жье», идея двойничества предельно усложняется, обретая религиозно-философское, социально-психологическое обоснование и все-таки оставаясь мистическим, до конца не проясненным феноменом. Двойничество возникает во многом как «аллегорическое»: в системе «отражений» Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании», в расколотом надвое Версиловым образе, оставленном в наследство старцем Макаром Ивановичем, в пересекающихся параллельных прямых в соответствии с геометрией Лобачевского, какими являются герои «Братьев Карамазовых». Такой сложностью, такой диалектикой и такой глубиной философских обобщений герои-двойники Шукшина не обладают.
В третьем разделе второй главы «Тема Рождества и традиции "рождественского рассказа" в творчестве Достоевского и Шукшина» рассматриваются в аспекте типологии произведения, посвященные одному из основных христианских праздников - Рождеству Христову, а в советское время неким его «эквивалентом» становится Новый год. Ко времени наступления Рождества приурочены события трех небольших произведений Достоевского «Слабое сердце», «Елка и свадьба» и «Мальчик у Христа на елке» и один из ключевых эпизодов «Записок из Мертвого дома». Своеобразным рождественским рассказом и одним из «метельных» текстов русской литературы является «Капроновая елочка» Шукшина. В другом раннем рассказе «Далекие зимние вечера» также ощущается близость Но-
вого года. В аспекте новогодней темы интересно сопоставление двух вариантов одного и того же текста: рассказа «Приглашение на два лица» и окончательного его варианта «Воскресная тоска».
Трансформация темы рождества, редуцирование сюжетного эпизода, связанного с темой осуществленного чуда, в творчестве Достоевского объясняются тем, что «Праздник» человеческого общения и взаимопонимания становится невозможен. Чувства оказываются невысказанными, мучителен поиск слова и страшно его необретение, торжествует проникающая духовная немота.
Известно совершенно иное отношение к чуду Л. Толстого. Создав свое «Евангелие», Толстой исключил чудеса. По мнению Д.С. Мережковского, неприятие чуда связано у Толстого с отрицанием Пасхи и Воскресения. Поэтому жизненный финал великого писателя Д.С. Мережковский прочитывает через страх смерти и его победу.
Шукшин, на наш взгляд, синтезировал обе эти противоречивые тенденции, в связи с тем, что, с одной стороны, писатель генетически восходит к культуре «шестидесятничества» с ее идеей торжества разума и науки. С другой стороны, Шукшин опирается на духовный опыт народа. Годы Советской власти оказались слишком малым историческим отрезком, чтобы полностью искоренить надежду на чудо и веру в него. Недаром русские философы не раз подчеркивали одну из главных особенностей русского народа, являющегося народом «откровений». Противоречие в решении проблемы чудесного воплотилось в творчестве писателя в разных типах шукшинских героев: прежде всего, в «чудиках», носителях этой веры, и «крепких мужиках», «энергичных людях», не только отрицающих чудо, но и его разрушающих.
В четвертом разделе «Тема духовного "подполья" и преступления как проявления бесовства» исследуется в плане типологии психология «подпольного человека» и философия подполья. Известно, что Достоевский гордился открытием этого человеческого характера. Е. Вертлиб находит в .«стихийном шукшинском герое» отдельные черты человека из «подполья». Однако исследователь делает существенную оговорку, выделяя в качестве доминантной черты в человеке из подполья злобу, а в герое Шукшина - доброту. Интересным и плодотворным, на наш взгляд, может стать анализ шукшинского рассказа «Ночью в бойлерной» в свете воплощения художественного пространства «низа» и мифологемы «преисподней», своеобразного шукшинского варианта «подполья».
Тема подполья, разработанная в рассказе Шукшина многоаспектно, все же не могла быть воплощена непосредственно: вряд ли открыто можно было говорить о наличии у советского человека духовного подполья. Контекст творчества Достоевского позволил дать эту тему «зашифрованно» и все же достаточно явно. И хотя в отличие от повести Достоевского, в произведении Шукшина происходит
отрицание традиционного «верха» и «низа», возникают образы-«перевертыши», однако именно они создают универсально хаотичную модель мира.
Как известно, тема преступления и наказания занимает Шукшина, и решать он ее будет не без оглядки на Достоевского. Чаще всего в ее разработке ощутимо полемическое начало. В последний год жизни Шукшин в соавторстве с H.H. Губенко задумывает фильм о современном преступнике. Впрочем, близость ** «Квинтэссенции души» к «Преступлению и наказанию» внешняя, о чем сразу предупреждает Шукшин, заявляя, что его герой «далеко не Родион Раскольников».
%} В конечном итоге «Квинтэссенция души» выразила мышление художника
иной исторической эпохи, впитавшего философский и социальный опыт «Великих Операций» по извлечению души, которыми изобилует XX в.
Пятый раздел первой главы «"Бесы". Проблема дела и человека-деятеля у Достоевского и Шукшина» посвящен анализу дальнейшей разработки темы озверения человека в творчестве Достоевского и Шукшина, актуализации мифологем, связанных с описанием злых, инфернальных сил. В шестом разделе «Бесовство в свете проблемы национального» рассматриваются поздние произведения Достоевского и Шукшина в аспекте усложнения диалектики добра и зла и укрупнения образа героя-беса. Поздний рассказ «Забуксовал» и киноповесть «Печки-лавочки» исследуются в связи с переосмыслением писателем XX в. национального мифа о I движении, которое приобретает инфернальные черты. По мнению исследователей, «Калина красная» и «До третьих петухов» открыты автором в широчайший культурный контекст. «Чужие» тексты, в том числе творчество Достоевского, участвующие в создании сложного игрового поля итогового произведения Шукшина, позволяют в новых исторических условиях вернуться к извечному русскому вопросу «что делать?» и продолжить спор о подлинном человеке-деятеле. Для творчества Шукшина, как и для всей предыдущей русской фольклорной и литературной традиции, созидатель, подлинный деятель - народ, выраженный знаковым национальным образом Ивана-Дурака, воплотившим диалектику силы и сла-* бости (дурацкость, мудрость, детскость, чистоту, наивность, лень, апатию, долготерпение и беспринципность). В конечном итоге, бессмысленная деятельность Ивана в повести-сказке, которая подводит итог раздумьям писателя XX в. о судьбе и истории народа, о природе русского национального характера, и сознательная разрушительная деятельность бесов - трагические явления одного порядка, выразившиеся в образе-символе большого философского звучания «спеленатого» по своей воле народа.
Проблема добра и зла волнует и Толстого, усиливаясь к концу творчества, о чем свидетельствует, например, появление повести «Дьявол» или главы «Зло» в итоговом произведении писателя «Путь жизни». Однако бесовство в позднем
творчестве автора «Отца Сергия» и «Крейцеровой сонаты» часто обусловлено социальным признаком и вытекает из толстовской «философии пола». Воплощением зла, плотского, бесовского наваждения в художественном мире позднего Толстого становится женщина. Этим фактом объясняется обращение писателя к традициям агиографической литературы и использование мотива борьбы с бесовским искушением в образе женщина. Усвоение толстовской философии пола ощутимо | в рассказе Шукшина «Беспалый» (в черновом варианте назван «Отец Сергий») и в образах шукшинских «злых» жен. Зло также присуще преимущественно представителям «верхов» и является порождением греха праздности, в шукшинском и толстовском варианте он свойствен людям, оторванным от земли. Поэтому народная среда у Толстого становится проявлением бесовства в связи с развращающим влиянием власти денег.
Русская классика, исследуя диалектику добра и зла, часто свидетельствовала о том, что в национальном характере верх берут разрушительные силы. Этому процессу способствовало время, в котором «все переворотилось». Однако и в этом мире позиция Л. Толстого и Достоевского полностью чужда релятивизму. Шукшин, создавая национальный характер в эпоху очередного социального «взрыва», зло воплощает через архаический образ «бесовства», творчески усваивая и перерабатывая традиции русской классики.
В третьей главе «"...лучше пусть я остаюсь несчастен, чем счастливый с ложью" (герой-лжец и герой-мечтатель в свете философии и психологии лжи)» исследуется феномен лжи как проявление национального характера. В первой разделе «Потому я и человек, что вру» анализируется эпоха второй половины XIX в., отменившая многие стереотипы мышления и отмеченная культурным «взрывом». Она актуализировала решение проблемы лжи. В условиях «переворотившегося мира», находящегося в дороге, порой казалось, что все ориентиры потеряны, ценности отринуты, торжествует релятивизм, неразличимы добро и зло, ложь и правда.
Проблема лжи - одна из сложнейших в современной философии и психоло- * гаи. Она может быть рассмотрена в разных аспектах: религиозном, гносеологическом, лингвистическом, национальном, эпохальном. В литературе о лжи для отечественных исследователей важно выделение отдельных граней этой проблемы. В г работе американского ученого Пола Экмана, давно и плодотворно занимавшегося проблемами психологии лжи, непринципиальны различия между обманом, ложью, ошибкой, враньем, их вербальным и невербальным воплощением. Принципиально другая позиция у автора русского послесловия к книге Пола Экмана В.В. Знакова. Опираясь на русскую традицию понимания лжи, он пытается дать своеобразную классификацию, в которой нашли бы место и представали дифференцированными разные оттенки этого явления - ложь, обман и неправда.
В.В. Знаков останавливается на особенностях русской лжи. Отмечая общее, характерное для человека любой нации и культуры, он говорить о более сложной диалектике лжи и правды в русской традиции. Ложь выступает часто не только как гносеологическая или религиозная проблема, она в жизни чаще всего носит ситуативный характер. В связи с особенностями русской жизни, отсутствием пра-' вовой защиты граждан, долгой привычке общества к двойным стандартам жизни •> ложь укоренилась. Поэтому исследователь вынужден констатировать, что на распространение лжи в России влияет социокультурная ситуация. Анализируя национальный аспект лжи, В.В. Знаков специально останавливается на «вранье». «Вранье», по мнению ученого, и здесь он ссылается на опыт Достоевского, не стремится сделать из человека слушающего лишь средство, потому что во вранье нет желания обмануть. Поэтому «вранье» не ложь. «Вранье, - как пишет В.В. Знаков, - не информационный феномен, а коммуникативный: это один из способов установить хорошие отношения с партнером, доставить своей выдумкой удовольствие себе и ему» 1г. Однако диалектика лжи и правды в жизни и литературе чаще представляет более сложный феномен, чем это отражено в соответствующих классификациях ученых.
В литературе главную роль в изображении лжи играет вербальное его оформление. Поэтому основополагающими являются замечания М.М. Бахтина о сложной природе «многоголосого» слова, обусловленного не только исторически и эпохально, но и ситуативно, в творчестве автора «Бедных людей». Проблема лжи в художественном мире Достоевского требует философского и психологического обоснования, так как она полифункциональна и многоаспектна, она так же сложна, как ее носитель - человек. Ложь может выступать формой незнания или частичного, относительного знания о мире. Ложь происходит и в связи с неадекватностью вербального воплощения мира. В этих случаях она объективна и бессознательна.
Достоевского, как правило, ложь интересует во всех ее аспектах и прежде всего как факт сознательный и глубоко объективный. Однако часто эта сознательность лжи героя особого рода: М.М. Бахтин слово в художественном мире писателя определяет как «двухголосое» или как слово «с лазейкой». «Многослой-ность» слова делает его одновременно сознательным и бессознательным, объек-Ь1 тивным и субъективным и предельно усложняет решение проблемы.
Ложь в произведениях Достоевского 1847-48 гг. полисемантична и многофункциональна. Она возникает как порождение всеугрожаемосш самой жизни и форма бегства от мира героя, имеющего свои амбиции, но не способного воплотить их в реальной жизни. Ложь - та башня из слоновой кости, в которой скрыва-
12 Знаков В.В. Западные и русские традиции в понимании лжи: размышления российского психолога над исследованиями Пола Экмана // Экман Пол. Психология лжи. СПб., 2000. С. 247.
ется герой. Ложь я неполнота знания возникает и как сугубо онтологическая проблема. Мотив «ошибки» намечает и религиозно-философскую проблематику, глубоко разработанную в последнем романе Достоевского «Братья Карамазовы». Сотворение мира обнаруживает «ошибку» демиурга, и уже в раннем творчестве писателя намечается возможность бунта.
Но ложь как ложь героями ранних произведений не осознается. Они продолжают утверждать свою форму индивидуального существования как единственно возможную. По мнению героев, они не интриганы, смирные и благонамеренные люди. Соотношение индивидуальных миров обнаруживает явную деком-муникативность. В общение героев постоянно закрадывается ошибка. Более того, ложь в раннем творчестве Достоевского зачастую состояние болезненное, лишенное игрового и эстетического колорита.
В зрелом творчестве увеличится количество героев-лжецов и усложнится функция лжи - ложь в амбивалентном мире Достоевского иногда становится чистейшей правдой, выраженной иррациональным, иносказательным способом (Лебедев, генерал Иволгин и т.д.). В зрелом творчестве писателя ложь чаще всего безмотивна. При сохранении социальной подоплеки лжи, ложь подчеркнуто психологична, она становится подчас доминантной характерологической чертой героя. Герой-лгун лжет артистично и «не во спасение». Ложь исследуется как сугубо национальное явление. В условиях всеобщего релятивизма, сложности геополитической идентификации (странная страна, не Азия, не Европа, по мнению писателя, в лице всякого русского человека проглядывают татаро-монгольские черты, с другой стороны, представители русского культурного сословия - «русские европейцы» и каждый священный камень в Европе близок и дорог русскому так же, как европейцу) актуализируются национальные истоки русской лжи.
Усиление интереса к проблеме лжи в зрелом творчестве связано и с характером творческого метода писателя, который определил его как «фантастический реализм». Метод соответствовал не только созданию тех нетипичных обстоятельств, которые М.М. Бахтин называл приемами провокации, посредством которых человек, играющий со своим сознанием, желающий спрятаться в «слово с лазейкой», в «стиль» от жизни, выявлял свою истинную суть, но и самому абсурдному «переворотившемуся» миру, изображенному на страницах произведений писателя, где понятия о правде и лжи, добре и зле не могут иметь никакой обязательной силы. Ложь связана и с гипотетичностью художественного мира Достоевского, так как она дает одну из возможных версий событий. Ложь по-своему моделирует будущее.
И шукшинское творчество с первых шагов обнаруживает пристальный интерес к данной проблеме, ранний рассказ «Правда», публицистическая статья «Нравственность есть Правда» уже поэтикой названия указывают на эту особен-
ность. Большое количество героев-лжецов в творчестве Шукшина свидетельствует о том, что писатель XX в. продолжил в новых социально-исторических условиях исследование русского национального характера и во многом подтвердил выводы писателя предшествующей эпохи.
Ранний Шукшин (рубежа 1950-60-х годов) пытается воплотить правду социальной действительности в духе эпохальных тенденций, как поиска некого •) единого абсолюта. Однако уже в этот период в творчестве писателя как бы сосу-
ществуют два начала: монизма, поиска единой правды и подчеркнутого диало-гизма с его признанием существования разных правд. Об этом свидетельствует „ ранний рассказ с программным для той эпохи названием «Светлые души».
Усиление диалогических оппозиций (творец и толпа в «Стеньке Разине», преподаватель и студент в «Экзамене», взрослый и ребенок в «Племяннике главбуха», деревенское и городское в «Сельских жителях» и т.п.) порождает недоверие к правде слова и муки слова. Этапным в решении проблемы лжи и правды станет шукшинский рассказ «Дядя Ермолай». Как свидетельствует анализ этого произведения, ложь часто у героев Шукшина и Достоевского внешне безмотивна и потому заведомо иррациональна. У такой формы лжи мотив, на наш взгляд, национален и глубинен. Ложь как бы свидетельствует о том, что «лик мира сего» героям не нравится и они перестраивают мир по законам своей фантазии, часто «от противного».
Ложь возникает уже в раннем творчестве Шукшина, но ее роль, количество, мотивы возрастают и усложняются в прозе 1970-х годов, принимая разные формы - мечтательности и самозванства, - что не может не свидетельствовать о кризисе «щестидесятнической» позиции, об эволюции концепции личности и основных эстетических принципов Шукшина.
Во втором разделе третьей главы «Ложь и мечта в художественном мире Достоевского и Шукшина» предпринята попытка дифференцировать эти психологические явления. Эстетическая и безмотивная ложь Достоевского и Шукшина соотносима и часто неотделима от мира мечты. Основой дифференциации для нас становится авторское употребление лексемы: наиболее точно использует их Достоевский, называя своего героя «лжецом» или «мечтателем» и соответственно теме употребляя синонимический ряд. Однако ложь возникает чаще всего от стыда к) за свое истинное «я», как форма иррационального бунта против объективной логики мира и носит негативный характер. Мечта же моделирует, как правило, позитивную и часто невозможную, неосуществимую ситуацию для героя. Впервые наиболее законченный тип «мечтателя» представлен Достоевским в «Белых ночах».
Мечтатель - тип русского деятеля, в условиях двухсотлетней отвычки общества от какого бы то ни было дела, мечтатель противостоит «мошеннику» и
«кулаку», как мнимым героям времени. В идеальном, «инишном» мире мечтатель моделирует правильный мир. Поэтому не герой-лжец, а чаще герой-мечтатель соотносится с правдой. Мечтательность столь присуща художественному миру Достоевского, потому что соотносима с гипотетическим методом познания и изображения складывающейся на глазах действительности. Полное неприятие героем бесчеловечных условий существования приводит к тому, что мечта становится субстанциональной и заменяет герою реальный мир.
Воплощение человеческой мечты и образ мечтателя Шукшин решает во многом в традициях русской классики, и в частности Достоевского. Герой, не способный мечтать, человек приземленный, прагматического склада, чужд герою-рассказчику («Сильные идут дальше», «Миль пардон, мадам!», «Мечты»). Соответствуя особенностям художественного мира Достоевского и Шукшина, мечта часто моделирует возможное, но не случившееся, приоткрывает вероятное, свидетельствуя о потенциальных силах героя. С другой стороны, мечтательность характерная черта маргинального героя, в ней отражается главная его особенность -«недовоплощенность».
В третьем разделе «О самозванстве» рассматривается сугубо национальный феномен самозванства. Следует отметить, что традиции рассмотрения феномена самозванства как явления многостороннего, психологического, исторического и социокультурного, ощущаются в работах современных философов, психологов и литературоведов. Однако часто это явление теряет связи со своими истоками и трактуется слишком расширительно. «Дробность» данного явления делает его уже на рубеже XIX-XX вв. трудно определимым. Самозванство не интересовало Достоевского, в отличие от A.C. Пушкина, как культурно-историческое явление. Самозванство - одна из форм лжи в художественном мире Достоевского и Шукшина. Оно становится частью неустойчивого психологического мира героев. В самозванстве проявляется и национальная черта, подчеркиваемая Достоевским, стыд своего «данного богом русскому человеку лица» и «стыд собственного существования». Р.Н. Поддубная отмечает связь самозванства с двойничеством в творчестве Достоевского. Самозванство, несомненно, обнаруживает перекличку и с мотивом бесовства, потому что Антихрист по своей природе самозванец.
Приступая к анализу феномена самозванства у Достоевского и Шукшина, следует отметить такую особенность: в произведениях писателей трудно выделить органический, завершенный тип героя-самозванца. Как правило, составляющие элементы самозванства как культурно-исторического явления у Достоевского и Шукшина выступают в «рассеянном» виде. И все же они «узнаваемы», репрезентативны и функционально определяются целым.
Самозванство отвечает природе художественного мира Достоевского. В нем остается принципиально не завершенным человек. Появляется возможность соз-
дать варианты одной и той же судьбы. М.М. Бахтин, исследуя характер воплощения идеи в прозе писателя, подчеркивает ее «проигрывание» в различных регистрах (высоких и сниженных). Самозванство связано с воплощением характера многослойного. Оно подчеркнуто диалогично, и этим соответствует характеру творчества Достоевского и Шукшина
Несомненно, XX век внес существенные коррективы в разработку художественного типа самозванца. На наш взгляд, особенности литературы XX в. в воссоздании феномена самозванства заключаются в еще большей сложности социальной идентификации человека в условиях наступившей эпохи некого «тотального самозванства». Появление многочисленных структурных элементов самозванства и его трансформация в творчестве Шукшина знаменательно и значительно. С одной стороны, будучи «писателем-деревенщиком», Шукшин тяготеет к воплощению традиционного и устоявшегося в народной среде. С другой стороны, этому препятствует сама трагическая история XX века, в частности судьба русского крестьянства, подвергшегося процессам «раскрестьянивания» и «разземели-вания».
Самозванство, лежащее вне пределов человеческой власти, будучи «невольным» и «тотальным», связано с эпохой XX в., с его послеоктябрьским периодом -с ощущением многих людей «подмены» всей их жизни. В рассказах писателя одним из самых частотных мотивов является подмена судьбы, трагедия всей жизни, потому что прожита не своя («Непротивленец Макар Жеребцов», «Билетик на второй сеанс», «Беседы при ясной луне», «Выбираю деревню на жительство»).
Рассказ «Генерал Малафейкин» наиболее полно воплощает сюжет о самозванстве и становится новой вариацией «хлестаковщины». В Малафейкине ярче проявился «стыд собственного существования» и тоска по реализации. Но, как и большинство самозванцев у Шукшина, герой рассказа хочет ощутить себя не просто другим человеком с другой более выигрышной судьбой, а лишь более полновесной, значительной социальной функцией, моделируя в своем идеальном мире не другую личность во всей полноте ее проявлений, а другую, престижную социальную роль.
В этом аспекте, на наш взгляд, «генералу» Малафейкину противостоит другой самозванец, подлинный и бескорыстный импровизатор Бронька Пупков. Главный герой шукшинского рассказа с его неприметной биографией: на фронте был санитаром, «работал в колхозе», «охотничал» - на поверку оказывается «защитником» («бронью») и «пупом земли» (родной, которую защищает). Бронька не просто самозванец, самовольно переписывающий историю. Он человек громадных внутренних нерастраченных резервов.
Как показывает анализ произведений писателей, самозванцы, с одной стороны, разрушают неумолимую логику социальных построений, «жонглируют свя-
тынями классовых и тоталитарных государств - непреложной иерархичностью»13. С другой стороны, эту иерархичность утверждают, так как самозванство Достоев- ] ского и особенно Шукшина однонаправленное - всегда «снизу вверх». Самозванцы Шукшина чаще всего моделируют не иную человеческую судьбу, а иную социальную роль, хоть «на вершок» выше собственной. В этом плане плодотворным становится художественный опыт Гоголя.
В творчестве Достоевского и Шукшина в элементах самозванства обнару- * жился подчеркнуто игровой характер прозы писателей. Функционально герои-самозванцы воплощают и «стыд собственного существования», и попытку сознательного моделирования личности и собственной судьбы. В киноповести «Печки- ^ лавочки» выведен самозванец-мошенник - вор-«конструктор». Однако это редкий | случай для Шукшина. Самозванство для его героев подчеркнуто эстетично, в нем 1 нет корысти и намеренного обмана, есть желание «поактерствовать», примерить на себя чужую жизненную роль, чужой социальный статус, однако для шукшинских героев примерка сопряжена с неудачей или с сознательным отказом от нее. Шукшинский герой через мучительный поиск постигает идею самоценности собственного «я» и своего жизненного пути. По сути дела, писатель XX в. по-своему воплотил извечную библейскую истину единственно возможной формы человеческого существования - «неси свой крест».
В четвертой главе «"Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся" (шукшинский герой в аспекте философских и социальных проблем русской классики)» произведения писателя XX в. рассматриваются в связи с экзистенциальными и субстанциональными проблемами, которые ставила и решала литература «великих вопросов». В первом разделе «Жил человек...» демонстрируется антропологический подход к творчеству Л. Толстого, Достоевского и Шукшина, потому что эти писатели «поглощены» преимущественно человеком. Интенсивность прожитой жизни, яркая индивидуальность человеческого типа остро ставит проблему «ухода». Безусловно, одной из самых важных «вечных» проблем, которую Шукшин будет решать на протяжении всего своего творчества, явно опираясь на опыт Л. Толстого, давшего в своих произведениях удивитель- * ную полноту бытия, станет тема смерти.
Уже ранняя шукшинская проза («Солнце, старик и девушка», «Как помирал старик») обнаруживает явные следы усвоения толстовской традиции. Однако в • более поздних рассказах писателя XX в. толстовский «элемент» в воссоздании темы смерти возрастает и, как показывает анализ рассказа «Залетный», данный А.И. Куляпиным, в значительной мере переосмысливается, особенно в обрисовке трагедии ухода человека культурного слоя.
13 Турбин В.Н. Характеры самозванцев в творчестве Пушкина // В.Н. Турбин. Незадолго до Водолея. М., 1994. С. 74.
а
Проблема смыслоутраты актуализирует во второй половине XIX века, в эпоху «сомнений и неверия», и во второй половине XX в. интерес к феномену самоубийства. В рассказах «Нечаянный выстрел», «Сураз», «Жена мужа в Париж провожала», «Пьедестал» и в возможном варианте завершения сюжета «Калины красной», о котором писал Шукшин как о более закономерном, писатель XX в. рассуждал о трагическом уходе человека, несостоявшегося, «недовоплощенного».
' Смерть в интерпретации Л. Толстого, Достоевского и Шукшина становится
продолжением жизни, проверкой жизни, оправданием или отрицанием прожитой жизни. Смерть важна не только для ушедших, но и для живущих. Поэтому в про-й изведениях русской классики и в рассказах Шукшина («Хозяин бани и огорода») подчеркивается и обсуждается важность соблюдения обряда похорон. У. Никелл в своей статье исследует характер мифологизации смерти Л. Толстого и оформления жанра публичных похорон в России. Смерть Шукшина и его всенародные похороны - факт реализации этого жанра в иных исторических условиях.
Во втором разделе «"Нам бы про душу не забыть..." (проблемы веры и безверья)» проблема человека в художественном мире писателей разных историко-литературных эпох исследуется в связи с традицией православия. Для Достоевского именно вера станет основой сближения представителей культурного сословия с народом. Как известно, эпоха конца XIX в. прошла под знаком секуляризации, что нашло отражение в творчестве автора «Братьев Карамазовых» с его неверием и сомнениями, с одной стороны, и страстной верой, с другой. Л. Толстой в своей «ревизии» христианства еще острее выразил кризисное состояние мира.
Сложно решается проблема веры в прозе Шукшина, художника советской эпохи. В шукшиноведении наблюдается большой спектр оценок и суждений: от признания Шукшина вполне православным писателем до поиска в его произведениях влияния языческих и натурфилософских мотивов. В творчестве автора «Калины красной», без преувеличения можно сказать, огромен пласт традиционно христианской образности, заметен также явный интерес к старообрядчеству, в прозе писателя можно почувствовать отголоски легенды о Беловодье. Все это позволяет говорить о противоречивости, может быть, даже об эклектизме позиции автора «Сельских жителей» в этом вопросе. Шукшин, с одной стороны, - типич-" ный «шестидесятник» с его неистребимой верой в разум, с другой - носитель древних верований и традиций. Конечно же, у Шукшина нет и не могло быть индивидуального религиозного духовного опыта, но он был и есть у народа, из которого писатель вышел. Недаром символом красоты, органики, всеединства у Шукшина становится церковь («Крепкий мужик», «Мастер»).
Анализ прозы писателя XX в. и его публицистических высказываний убеждают в том, что «шестидесятник» Шукшин в вопросах веры и чудесного разделяет
толстовские взгляды, выразившиеся «в отрицании мистического опыта, в поиске нормы добра»14. Однако в решении этого вопроса все оказалось сложнее. Герои Шукшина, вопреки законам объективной действительности, пытаются открыть вечный двигатель, лекарство от рака или в микроскоп увидеть луну. Симпатии автора на стороне чудаков и мечтателей. В атеистический век все более обнажается духовный вакуум. Более того, если добро, которое в народе всегда было связано с «божеским», оставляет свой плацдарм, то это место неукоснительно занимает зло в форме «бесовского».
В третьем разделе четвертой главы «Человек и Государство» исследуется проблема неразрешимости антиномии личности и государства, которая возникает в творчестве Л. Толстого, Достоевского и Шукшина. Однако проза Шукшина обогащена не только опытом раздумий о государстве писателей и мыслителей конца ХЕХ в., но и антиутопиями XX в.
Герои Шукшина, живя на сломе традиционного и индустриального эпох развития, болезненно переживая ломку старых устоев, в решении своих проблем вынуждены апеллировать к государству. Свои властные функции осуществляют и осознают как долг и привилегию в рассказах Шукшина стражи порядка, судьи, прокуроры, чиновники, бригадиры, продавцы и даже вахтер в больнице. Большинству шукшинских героев присущ патриархальный взгляд на государство. Как известно, сторонники патриархальной теории происхождения государства утверждают тесную связь и изоморфность семьи и государства. Как и семья, так и государство, строится на основе верховенства старшего, отца, «батюшки». В патриархальной семье и в государстве осуществляется принцип патернализма - защита и опека старшими младших.
Герои Шукшина, размышляя о государстве в патриархальной парадигме, сталкиваются с его бездушием («Материнское сердце»), с тем, что сильные мира сего эксплуатируют «мертвый» миф, оставив только одну его составляющую -наказание («Мой зять украл машину дров»). Антинародную сущность Государства постигнет и Стенька Разин, центральный герой всего творчества Шукшина. Однако противопоставление индивидуальной воли личности и деспотической власти «ГОСУДАРСТВА» в романе лишено одномерности, недаром Л. Аннинский, обращаясь к анализу позднего произведения писателя XX в., отмечает стремление Шукшина к «интегральной истине». Сопрягая историческую и современную концепцию государства, Шукшин удостоверяет неизменный характер русской власти как деспотической, тоталитарной.
Из протеста против государства рождается идея его преобразования, мечта об идеальном государстве. Своеобразной проекцией «пшгалевщины» явится попытка шукшинского героя «улучшить» существующую государственную модель в
14 Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 295.
рассказе «Штрихи к портрету». Рассказ представляет очень сложную социально-философскую и художественную структуру. Утопия Князева, оборачивающаяся антиутопией, явно обогащена историческим опытом XX в. Князев со своими тетрадками предстает не менее страшным мономаном, чем Шигалев. Как и многие герои Достоевского, Николай Николаевич «ушиблен» «общими вопросами». Как известно, автор «Братьев Карамазовых» отрицал любовь к абстрактному человечеству без любви к отдельному человеку. Герой Шукшина, мечтая о будущем благоденствии человечества, ненавидит всех тех, кто не разделяет его идею. Рассказ «Штрихи к портрету» отсылает к большому количеству источников, в том числе к Чернышевскому (образ целесообразно выстроенного здания) и к Салтыкову-Щедрину («Опись жизни» Н.Н. Князева явно перекликается с «Описью градоначальников» из «Истории одного города»). Несправедливое социальное устройство мира («демонократия») всегда сопрягается с образом-перевертышем - появлением самозванца. Упоминание о Пугачеве актуализирует эту проблему. Рассказ заканчивается образом Вавилонской башни, своеобразной «лестницей до луны», о которой мечтает шукшинский герой. На перекличку этого образа с «Вавилоном недостроенным» Достоевского указывает в своей монографии С.М. Козлова.
Шукшин в своем творчестве имел дело с другими историческими реалиями, чем русская классика, со сталинским мифом об «отце народов» и о «семье народов», который на поверку явился новой вариацией важной для русского самосознания идеи о патриархальном устройстве государства. Проза автора «Штрихов к портрету» выявила тот же конфликт, существующий между человеком и Государством. Как и в произведениях русских классиков, у Шукшина над человеком и человеческим торжествует Государство в лице хамоватого продавца, агрессивного вахтера, безучастного к судьбе маленького человека чиновника.
В четвертом разделе заключительной главы «От "гориллы" до....» предпринята попытка применения классификации героев, созданной Достоевским. Она является одной из самых универсальных: Достоевский представил ее как «восхождение» от Человекобога к Богочеловеку. Человекобожеское у писателя предстает как проявление бесовства, как победа в человеке зверя, как крайнее выражение индивидуализма. Оно противостоит исконно национальному чувству, оно чуждо русскому миросозерцанию, это всегда «чужое». Христос, как известно, являлся религиозно-философским и нравственно-психологическим эпицентром всего творчества писателя. Этот образ несет в себе всю полноту христианского вероучения, воплотившего прежде всего идею жертвенности, духовности и любви. Шукшин в свой атеистический век стремится отразить в человеке все те же вечные ценности, выработанные крестьянством («христианством»).
Создавая различного рода классификации шукшинских героев, ученые, как правило, используют определения человеческих типов, которые дал сам автор:
РОС. НАЦИОНАЛЬНОЙ 1 БИБЛИОТЕКА | С Петербург {
08 ЖО »кт '
«крепкий мужик», «чудик», «злая жена» и т.п. Однако, будучи «специалистом» по «межукладочному» слою, пытаясь воплотить многообразие характеров и их ] сложность, опираясь не только на традиции русской классики, но, включая в раз- , работку человеческого типа элементы архаики, учитывая опыт современной философии и социальной психологии, Шукшин создает универсальные характеры. | По сути дела в его творчестве предстает весь спектр национальных типов, данных а в границах определенного временного среза. Поэтому, на наш взгляд, к шукшинской прозе оказывается применима одна из наиболее универсальных классификаций, предложенная Достоевским. Низший человеческий тип определяется его со- . отнесенностью с «бестиарием». Высшим выражением национального становится странный герой Достоевского и шукшинский «чудик», объединившие в себе святость и бесовсгво, мудрость и дурацкость, цельность и раздвоенность, «подпольность» и открытость миру и т.п. Типологический анализ характера Достоевского и Шукшина позволяет сделать вывод о том, что шукшинское творчество явилось новой «вариацией» на старую тему «загадочной славянской души».
В заключении подводятся основные итоги предпринятого исследования и 1 намечаются перспективы дальнейшей работы.
Именно русская литература XIX в. сформировала национальное самосознание и обозначила весь диапазон русских «проклятых» вопросов. Она создала тот культурный духовный потенциал, который будет востребован последующими эпохами. Диалог историко-литературных периодов, реализуясь в творчестве отдельных художников, существует как преемственность и как преодоление, как 1 страх влияния и как сознательная установка на освоение чужого опыта. Как правило, диалог этот возникает и не может не возникнут в сфере осмысления нацио- I нального. Более того, выбор имен в работе - Толстого, Достоевского, с одной стороны, и Шукшина, с другой, - продиктован не только репрезентативностью I авторов в сфере отражения русской ментальности, но и «перекличками» эпох - I второй половины XIX и XX вв. (
Не только проза, но и герои Шукшина часто представляются простыми, » схематичными, «линейными». «Лубочность» шукшинского творчества оказалась иллюзорной. Шукшиноведение последних лет все чаще демонстрирует неисчерпаемость смыслов творчества писателя XX в. Глубина его осмысления проблем . национального мира становится наиболее ощутимой в контексте русской классики. Совершенно очевидным является тот факт, что общение с текстами русских писателей, как и вообще с любыми чужими текстами, у Шукшина подчеркнуто диалогично. В шукшинском особом типе «текста в тексте» «чужое» оказывается многофункциональным и строго избирательным.
Язык русской литературы предшествующей эпохи раздвигает рамки эпического повествования в шукшинском рассказе, вводя историческое время: рас-
сказ за счет этого становится поистине емким. Шукшин, характеризуя малый эпический жанр, обязательно предполагает сотворчество читателя, умение «досочинить». Классика, часто представленная в прозе Шукшина в подчеркнуто школьном варианте, становится универсальным коммуникативным знаком, позволяющим многое домыслить, вписав произведение в нужный автору контекст прочтения. В связи с шукшинской характеристикой творчества как «зашифрованного» можно говорить о задаче сознательного создания автором не только контекста, но и подтекста. Темы, образы, мотивы русской классики, часто данные посредством приема банализации, позволяли обозначить проблему, заговорив в эпоху всеобщего безгласия о несвободе, духовном «подполье» и воле.
Не ограничивая анализ поиском реминисценций, стремясь придать сопоставительному исследованию концептуальный характер, мы остановились, на наш взгляд, на основных эстетических принципах писателей второй половины XIX и XX вв., выявляя структурные элементы категории национального. Особенности русского характера писателями разных эпох даются в свете общечеловеческих ценностей - извечного конфликта добра и зла, божеского и бесовского, правды и лжи, жизни и смерти, «я» - «не-я», жертвенности и своеволия. И хотя художники в разные периоды жизни России своим творчеством удостоверяют библейскую истину, что без праведника не стоит ни город, ни страна, они, особенно Достоевский и Шукшин, воплощают трагическую борьбу, где часто в душе человека побеждает зло. Состояние мира порождает предупреждение: «Нам бы про душу не забыть!» - и недоумение: «Что с нами происходит?». Почти век назад русская классика по сути дела сформулировала эти тезисы. И все же не растерянностью и признанием абсурдности бытия характеризуется «горький, мучительный» талант Шукшина. Как и русская классика, творчество писателя XX в. проникнуто верой в человека, в его нравственный выбор.
Содержание диссертации отражено в следующих работах:
1. В.М. Шукшин и традиции русской литературы XIX в. (Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой): Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 266 с.
2. Шукшин и русская классика. Монография. Барнаул: Изд-во Алт. унта, 1998.102 с. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
3. Анализ рассказа В.М. Шукшина «Крепкий мужик» (В.М. Шукшин и Ф.М. Достоевский) // В.М. Шукшин - философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 63-72.
4. Игровое начало в рассказах В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Поэтика. Стиль. Язык. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. С. 36-45.
5. Рассказы В.М. Шукшина 1960-х гг. в свете региональной литературной традиции // Поэтика жанра. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. ' С. 112-122.
6. Рассказ В.М. Шукшина «Солнце, старик и девушка» в аспекте тол- ! стовской традиции // «Вечные сюжеты русской литературы. «Блудный ( сын» и другие. Сборник научных трудов СО РАН. Новосибирск, 1996. >, С. 141-145.
7. Традиции «праведнического цикла» Н.С. Лескова в творчестве В.М. Шукшина // Проблемы межгекстовых связей. Барнаул: Изд-во
Алт. ун-та, 1997. С. 114-121. '
8. Рассказ В.М. Шукшина «Капроновая елочка» и рождественский рас- | сказ // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул: 1 Изд-во Алт. ун-та, 1997. С. 109-114.
9. Проблема традиции в связи с анализом рассказа В.М. Шукшина «Ве- ; рую!» // Культура и текст. Вып. I. Литературоведение. Часть П. СПб.- ' Барнаул, 1997. С. 101-104. ,
10. Анализ шукшинского рассказа «Обида» в свете оппозиции «Жизнь- | театр» (Ф.М. Достоевский и В.М. Шукшин) // Россия и театр Шукшина. Труды Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Барнаул, 1997. С. 83-89. (
11. «Завет великого учителя» (Шукшин и Л. Толстой) // Творчество
B.М. Шукшина как целостность. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. '
C. 28-42. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
12. «Жестокий талант» (Шукшин и Достоевский) // Филологический анализ текста. Вып. Д. Барнаул: Изд-во БГПУ, 1998. С. 77-99. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
13. «В поисках живой души» (В.М. Шукшин и Н.В. Гоголь)//Традиция и литературный процесс. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. С. 274- | 286. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
14. Образы самозванцев в творчестве Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // «Горький, мучительный талант». Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. С. 234-253.
15. Ф.М. Достоевский и В.М. Шукшин в парадигме «Большого времени» | // Пространство и время в литературном произведении. Самара: Изд- I во СамГПУ, 2001. С. 142-149.
16. К вопросу о генезисе «странного» героя Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Культура и текст. Славянский мир: прошлое и современность. СПб-Самара-Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. С. 41-52.
17. Герой-лжец и герой-мечтатель в художественном мире Ф.М. Достоев-
ского и В.М. Шукшина. Известия Алтайского государственного университета. Барнаул, 2002. №4 (26). С. 66-69.
18. «Потому я и человек, что вру...»(Философия и психология лжи в прозе В.М. Шукшина в аспекте традиций русской классики) //
B.М. Шукшин: проблемы и решения. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. С. 111-121.
19. Роман В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю»: герой и государственная власть в свете историко-литературного опыта. Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2003. Т. 2. Вып. 2. С. 22-26.
20. Мотив «игры» и метафора «жизнь-театр» в рассказах В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1992. С. 90-92.
21. Традиция «живых цифр» Г.И. Успенского в рассказе В.М. Шукшина «Ноль-ноль целых» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. С. 34-36.
22. Региональные проблемы // Творчество В.М. Шукшина. Энциклопедический словарь-справочник (проспект). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. С. 20-23.
23. Творчество В.М. Шукшина 1960-х годов и русская классика // Проблемы литературных жанров. Ч. П. Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1996.
C. 61-63.
24. Пушкин в творческом сознании Шукшина // Интерпретация художественного текста. Бийск: НИЦ БиГПИ, 1997. С. 44-45. (в соавторстве с
A.И. Куляпиным).
25. Шукшин и Тургенев // Известия Алтайского государственного университета. Барнаул, 1997. №2. С. 45-47. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
26. Проблема «своего» и «чужого» в философской сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. С. 23-25.
27. Белинский Виссарион Григорьевич. Лермонтов Михаил Юрьевич. Лесков Николай Семенович. Некрасов Николай Алексеевич. Пушкин Александр Сергеевич. Тургенев Иван Сергеевич // Творчество
B.М. Шукшина. Опыт энциклопедического словаря-справочника. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. С. 10; 63-72; 82-84; 100-103; 138141. (в соавторстве с А.И. Куляпиным).
28. Заревой дождь. Капроновая елочка. Крепкий мужик. Ноль-ноль целых. Солнце, старик и девушка // Творчество В.М. Шукшина. Опыт энциклопедического словаря-справочника. Барнаул: Изд-во Алт. ун-
30.
31.
32.
33.
34.
та, 1997. С. 42-43; 55-57; 60-63; 84-85; 117-118. Герои-лгуны в творчестве Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Актуальные проблемы филологии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. С. 102-104.
«Плохой хороший человек» в рассказах В.М. Шукшина // Языковая концепция регионального существования человека и этноса. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. С. 129-131.
К проблеме типологии творчества Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул: Изд-во Алт ун-та, 1999. С. 142-145.
Пушкин Александр Сергеевич. Достоевский Федор Михайлович. Толстой Лев Николаевич. Шукшин и зарубежная литература // Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. С. 96-99; 101-112; 124-128. (в соавторстве с А.И. Куляпиным). Шукшин и древнерусская литература. Гончаров Иван Александрович. Чехов Антон Павлович. Островский Александр Николаевич. Салтыков Михаил Евграфович. Горький Алексей Максимович. Есенин Сергей Александрович. Шолохов Михаил Александрович. Заревой дождь. Крепкий мужик. Петя. Генерал Малафейкин. Психопат // Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1999. С. 93-94; 99-101; 112-113; 115-117; 118; 122; 248-250; 265-267; 275; 277-278; 290-292.
Интерпретация русской классики в статье В.М. Шукшина «Средства литературы и средства кино» И Дергачевские чтения - 2000. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург: Изд-во Уральск, ун-та, 2001. С. 120-123.
Подписано к печати Объем 2п.л. Бесплатно
Печать офсетная Бумага писчая №1 Тираж 100 экз.
Заказ /37
Типография издательства АлтГУ: Барнаул, ул. Димитрова, 66
l
i
r
i
i i
I
! f
t f;
»
2ооИ 6 16 5
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Левашова, Ольга Геннадьевна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Шукшинский герой и основные мифы русской классики.
1.1.«Глаголом жги сердца людей!».
1.2. «Власть земли».
1.3. «Странные люди».
ГЛАВА ВТОРАЯ. «Все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века!» (разрушительный потенциал национального характера).
2.1. К вопросу о бесовстве.
2.2. Бесовство и проблема двойничества в раннем творчестве Достоевского и прозе Шукшина.
2.3. Тема Рождества и традиции «рождественского рассказа» в творчестве Достоевского и Шукшина.
2.4. Тема духовного «подполья» и преступления как проявления бесовства.
2.5. «Бесы». Проблема дела и человека-деятеля у Достоевского и Шукшина.
2.6. Бесовство в свете проблемы национального.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, «.лучше пусть я остаюсь несчастен, чем счастливый с ложью» (герой-лжец и герой-мечтатель в свете философии и психологии лжи).
3.1. «Потому я и человек, что вру».
3.2. Ложь и мечта в художественном мире Достоевского и Шукшина.
3.3. О самозванстве.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся» (Шукшинский герой в аспекте философских и социальных проблем русской классики).
4.1. «Жил человек.».
4.2. «Нам бы про душу не забыть.» (проблемы веры и безверья).
4.3. Человек и Государство.
4.4. От «гориллы до.».i.
Введение диссертации2003 год, автореферат по филологии, Левашова, Ольга Геннадьевна
В связи с наступлением нового века возникает необходимость переосмысления той парадигмы историко-литературного процесса, которая сложилась в предшествующую эпоху. Во многом она строилась на противопоставлении века XIX - XX столетию. Актуальность постановки проблемы «Шукшин и русская классика» определяется возможностью выработки принципиально иного взгляда, с позиций бахтинского «Большого времени».
Несмотря на то, что М.М. Бахтин применяет принцип «большого времени», имея в виду движение от древней к литературе «нового времени», нам кажется возможным использование этого термина относительно классической литературы XIX в. и XX столетия, в связи с теми сдвигами, которые произошли на рубеже веков, изменив характер литературы и культуры в целом. В границах «большого времени» литературные факты разных эпох могут повторяться в «снятом», модифицированном виде: «В моей книге я ввожу понятие Большого времени. В нем на равных правах существуют Гомер и Эсхил, Софокл и Сократ. Живет в нем и Достоевский, ибо в Большом времени ничто не пропадает бесследно, все возрождается к новой жизни. С наступлением новой эпохи все, что случилось прежде, все, что породило человечество, - итожится и наполняется новым смыслом» (18, с. 8).
Шукшиноведение насчитывает уже не один десяток солидных работ. О творчестве автора «Сельских жителей» в разное время писали JI.A. Аннинский (6), В.А. Апухтина (7-9), Г.А. Белая (19-21), В.Ф. Горн (62- 64), В.М. Карпова (107), С.М. Козлова (115-124) В.И. Коробов (130), H.JI. Лейдерман (161-163), В.К. Сигов (230-233) и др. Многие исследователи обращались и к изучению проблемы «Шукшин и русская классика».
А.И. Куляпин рассматривает прозу писателя XX в. в интертекстуальном аспекте, реконструируя шукшинский миф о творце в контексте творчества Г.Р. Державина и А.С. Пушкина (144). Во многих произведениях Шукшина, особенно 1970-х гг., исследователь находит отсылки к русской классике (141-147). Т.Д. Рыбальченко исследует «Калину красную» в свете пушкинских реминисценций (222). Проблема «Гоголь и Шукшин» заявлена в монографии С.М. Козловой (120), статьях В.В. Десятова (74), С.А. Комарова (125). Работы В.А. Кузьмука (139), А.Е. Базановой (13), С.М. Козловой (117; 120) посвящены изучению чеховских традиций в прозе автора «Калины красной». На большое количество реминисценций в прозе Шукшина из произведений русской классики указывает Е.В. Черносвитов (281-284). Но, несомненно, особое значение для Шукшина имело творчество «великих спутников» Ф.М. Достоевского и JI.H. Толстого, что отражается и в частотности обращения писателя XX в. в заметках, в публицистических статьях и художественном творчестве к двум именам писателей-классиков, и в работах шукшиноведов.
Проблема «Шукшин и Достоевский», безусловно, одна из самых разработанных. Появился ряд статей по этому вопросу, так что, вероятно, уже можно говорить об отдельном направлении в шукшиноведении. Активный поиск критиками и литературоведами следов влияния автора «Братьев Карамазовых» на Шукшина закономерен, ведь известно, что «книги Достоевского были, особенно, в последние годы» у него «настольными» и «он даже собирался сниматься в роли Достоевского» (62, с. 242).
Одним из первых наметил пути сближения двух писателей В.И. Коробов. Он указал, с одной стороны, на «глубинную связь между нравственно-философскими исканиями Достоевского и Шукшина», а с другой, не отказался и от возможного поиска конкретных реминисценций, потому что, по мнению исследователя, «у Шукшина можно найти чуть ли не «кальки» с Достоевского» (130, с. 194). Концепция исследователя не лишена противоречий, что свидетельствует об объективных трудностях анализа прозы Шукшина в аспекте «своего» и «чужого». В.И. Коробов делает одно противоречивое и в то же время существенное замечание: «Многие творческие находки Шукшина как бы предвосхищены толстовской прозой и прозой других русских классиков. Но ведь что из этого следует? Да ничего особенного» (130, с. 202-203).
Можно согласиться с исследователем в уязвимости как первого, так и второго намеченного им подхода. Первый заявлен в работах В.Ф. Горна (62; 63), В.Н. Быстрова (38), JI.T. Бодровой (27-31) и др. Полностью не отрицая возможность и правомерность подобных параллелей, следует отметить их зыбкость, слабую аргументированность, порой откровенную субъективность. Так, на наш взгляд, не может быть основой для сопоставления двух писателей характер гуманизма их творчества, так как он присущ всей русской литературе и не составляет своеобразия мировоззрения ни Достоевского, ни Шукшина. Хотя в кандидатской диссертации А.Е. Базановой подчеркнута необходимость исследования «механизма» влияния идеалов и творческого опыта классиков на Шукшина» (13, с. 6), исследователь остается в плену абстрактных рассуждений об «общности пафоса», о «преемственности писателя в области содержания», «проявлении традиций русской классической литературы в жанрах и стиле Шукшина» (13, с. 96), в типах героев.
В целом, более плодотворным выглядит второй путь — поиск конкретных источников и реминисценций, поскольку результаты сравнительного анализа текстов Шукшина и Достоевского более объективны. Шукшиноведение в целом составило весь корпус «отсылок» к творчеству писателя-классика (работы С.М. Козловой (120),
А.И. Куляпина (140-147), Е.И. Конюшенко (127; 128), О.С. Овчинниковой (188-190), П.Ф. Маркина (175) и др.), но основной недостаток исследований этого типа состоит в том, что поиск реминисценций порой становится самоцелью.
Художественный опыт J1. Толстого значим для Шукшина ничуть не меньше, чем опыт Достоевского. По замечанию В.И. Коробова, «многие шукшинские высказывания о литературе и искусстве могут показаться вышедшими из дневников и писем Льва Толстого, многие творческие находки Шукшина как бы предвосхищены толстовской прозой» (130, с. 202). В.Ф. Горн в шукшинском признании («Меня больше интересует «история души».) видит результат усвоения традиций русской классической литературы, в частности JL Толстого.
И все же отношение к JI. Толстому у Шукшина, на наш взгляд, гораздо более сложное, чем к Достоевскому, поэтому шукшинский герой, да и сам Шукшин, порой проявляет ироническое отношение к автору «Войны и мира». JI. Толстой для Шукшина прежде всего знак, символ «большой литературы».
Творчество JI. Толстого оказало, в первую очередь, несомненное влияние на «деревенскую прозу» XX в., и в частности на прозу Шукшина, так как проблема взаимоотношений мужика и помещика, исследование принципов русского землепользования, склада русской патриархальной семьи и гибель всего этого в наступающую буржуазную эпоху составили эпицентр художественного мира JI. Толстого.
По мнению шукшиноведов, помимо традиции изображения русской деревни, обращение к JI. Толстому у Шукшина чаще всего возникает в сфере философского (272). Д.С. Мережковский считает, что тему смерти в русской литературе XIX в. глубоко и трагично воплотил именно JI. Толстой. Проблемы русского Эроса, «мысль семейную», распад русской патриархальной семьи отразил автор «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты». Мимо этих открытий, как свидетельствует исследовательская литература, также не прошел Шукшин (142). Хотя в мучительном противостоянии отцов и детей часто ощутимы и трагические отзвуки истории «случайного семейства» Достоевского. Шукшиноведы находят переклички во взглядах писателя XX в. с толстовскими религиозно-философскими исканиями. По мнению переводчика книги Ги де Маллака «Мудрость Льва Толстого» Ю. Шрейдера, величие Толстого-мыслителя, выразившееся в его последней работе «Путь жизни», заключается в отказе от суеверий, от наносного в христианстве, в вере в коллективный разум и в поиске общечеловечности и духовных основ (289, с. 9-10). В каких-то главных пунктах рационалистическая позиция Л. Толстого оказалась близка «шестидесятничеству» (62).
Сложность решения проблемы определяется тем, что отношение Шукшина к предшественникам не может быть понято и рассмотрено как взаимодействие «замкнутых» творческих систем. Явление Достоевского и Толстого, как и всех писателей-классиков, воспринимается художественным сознанием человека XX века во всех тонах и обертонах обретенных смыслов. Мощный пласт элементов архаики, характерный для творчества Достоевского и Шукшина, религиозно-философские искания писателей-классиков предельно усложняют решение проблемы традиций в прозе автора «Калины красной».
Часто сам писатель классику мыслил как некое совокупное явление, восклицая: «. как дороги они всякому живому сердцу, эти наши титаны-классики» (307, с. 386).
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский в контексте своей эпохи осмыслялись современниками во многом как писатели-антиподы. По принципу противопоставления двух великих писателей-классиков строит свое исследование Д.С. Мережковский «Л. Толстой и
Достоевский. Вечные спутники», хотя уже поэтика заглавия книги содержит потенцию к сближению. Автор исследования увидел общее в борьбе противоположностей, придя к выводу: «Таковы они в своем вечном противоречии и вечном единстве, - это два демона русского Возрождения - тайновидец плоти, JI. Толстой, тайновидец духа, Достоевский; один - стремящийся к одухотворению плоти; другой — к воплощению духа» (178, с. 140). Эту точку зрения более категорично высказывает В. Вересаев, утверждая, что «.вместить и Достоевского, и Толстого невозможно - так полно и решительно исключают они друг друга, так враждебно для одного все то, что дорого для другого» (45, с. 185).
Достаточно подробно проблему «Л. Толстой и Достоевский» рассматривает Б.И. Бурсов в своем романе-исследовании «Личность Достоевского». Анализируя сложную природу отношений двух великих писателей-классиков, оспаривая во многом логику построения книги Д.С. Мережковского, Б.И. Бурсов по существу приходит к сходному выводу: «Это были настолько же союзники, насколько, если не более, противники. И взаимное притяжение было во всяком случае равно взаимному отталкиванию» (37, с. 41).
В работах Г.А. Бялого и К.Н. Ломунова намечена тенденция к сближению. Г.М. Фридлендер также достаточно определенно выразит эту точку зрения: «.широко популяризированная за рубежом Д. Стайнером в его книге «Толстой или Достоевский» антитеза Толстого -«эпика» и Достоевского — «трагика» оказывается на поверку в той же мере ошибочной, что и все остальные попытки противопоставить друг другу творчество двух русских «гигантов» (268, с. 79).
Почти одновременно и стремительно войдя в литературу, совершив громадные художественные открытия, «великие спутники» в сознании человека XX в. осмысляются, прежде всего, как современники, по-своему отразившие реалии переходной эпохи, когда «все переворотилось и только укладывалось».
Алекс де Джонг в своей монографии «Достоевский и век напряженности» так характеризует метод писателя-классика, являющийся, по мысли исследователя, прямым порождением его эпохи: в основе фантастического реализма «лежит культ напряженности», включающий в себя «чувство культурного крушения и раскола», «вечное подчеркнутое напряжение между идеальным и реальным», «патологическое извращение личности», концепция города как «первопричины современной травмы и духовной потерянности, где неистовое колебание — основной компонент грамматики человеческого поведения.». Это «наиболее убедительный обвинительный акт миру» (Цит. по: 173, с. 30). Свое время Шукшин часто определяет в словесных формулах, близких к этой характеристике, ощущая разлад на Руси, большой разлад.
Сопоставляя эпохи второй половины XIX и XX вв., мы констатируем, что несмотря на особенности их социокультурного и исторического развития, они соотносятся как «образы-рифмы»: после правления Николая Первого наступает пора демократических ожиданий, закончившаяся крахом либеральных реформ, мучительным поиском «связующей идеи»; после смерти Сталина начинается «хрущевская оттепель», завершившаяся печально известной «бульдозерной выставкой», крахом начавшихся реформ и годами «застоя». Знаменательно, что, характеризуя журналистскую манеру Достоевского, Б.И. Бурсов называет писателя XIX в. «шестидесятником», используя термин, более применимый к XX в.: «На первый взгляд, Достоевский как журналист поражает нас одним своим совершенно неожиданным качеством — редкой терпимостью к чужим мнениям. А ведь он представляет собой характерную фигуру шестидесятника, 60-е же годы выделяются обострением идейных конфликтов» (37, с. 482). Знаменательно, что ощущение близости эпох второй половины XIX и 60-х годов XX в. было свойственно и самому Шукшину. В первом варианте раннего программного рассказа «Воскресная тоска», который появился в новогоднем номере «Комсомольской правды» под названием «Приглашение на два лица», одному из главных героев, «технарю» Сергею, принадлежит такая фраза: «Мы - реалисты», - прямо отсылающая к Д.И. Писареву и его эпохе («Комсомольская правда». 1962. №1.1 января. С. 4). В. Живов, определяя литературную ситуацию шестидесятых годов XIX в., говорит о смене культурной парадигмы (93, с. 49). Судьба Шукшина-писателя также во многом определяется поиском, продиктованным характером самой эпохи, новой эстетики и поэтики. Обращение к русской классике, несомненно, катализировало этот поиск.
На этом основании правомерность и объективность сравнительно-типологического подхода к проблемам «Достоевский и Шукшин», «Толстой и Шукшин» очевидны.
Хотя, на наш взгляд, до конца все же не преодолена точка зрения, свидетельствующая о разных масштабах дарования Шукшина и писателей-классиков, не допускающая, по мнению многих исследователей, возможность подобных сопоставлений. Последний этап развития шукшиноведения обнаружил подлинный масштаб личности писателя XX в.: «При жизни автора мы как-то стеснялись прилагать к этой книге (к последнему сборнику писателя «Характеры» — О. JI.) те же мерки, что и к книгам, ну скажем, Лескова, Бунина, даже и Чехова. Только теперь, когда Шукшина нет с нами, мы начинаем осознавать, что самые высшие мерки впору и по плечу Василию Шукшину» (66, с. 24).
Диапазон суждений Шукшина о классике и писателях-классиках широк и, на наш взгляд, отражает типологические особенности и восприятия культуры прошлого, характерного для сознания человека XX в. С одной стороны, в русской литературе XIX в. отразился огромный нравственно-эстетический потенциал, обозначился основной корпус «русских вопросов», сформировалась национальная мифология. С другой стороны, XX в. опроверг многие прекраснодушные мечты, социальные надежды, поверхностные суждения о человеке и его будущем, свойственные предыдущему столетию. Поэтому, наряду с высокой оценкой классики, в шукшинские заметки, в его тексты проникает явная ирония. Так, в рассказе «И разыгрались же кони в поле.» герой, имеющий автопсихологические черты, рассуждает: «Прочитаю за лето двадцать книг по искусству <.>, измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни.» (302, II, с. 177).
Действительно, шукшиноведение в вопросе традиций столкнулось с рядом объективных трудностей:
1. Достаточно очевидная для любого писателя авторская установка на самобытность в прозе Шукшина приводит к рождению мифа о самородке, никакой литературной школы не проходившем, культивируемого самим автором «Калины красной». Поэтому возникают суждения, полностью отрицающие возможность каких-либо сопоставлений: «Шукшин, на мой взгляд, вообще не допускает сравнений и аналогий ни по жанру, ни по методу творчества. В нем все сложилось и выразилось, выплеснулось необычайно и своеобразно, с той редкой страстностью подлинно русской народной натуры, характера ищущего, «взыскующего истины».» (255, с. 4).
2. Опираясь на высказывание самого Шукшина, что «на самом деле подлинно нехоженых троп в литературе не бесконечно много» (307, с. 422), исследователи сталкиваются с тем, что сложившееся в литературоведении представление о «традиции» и «преемственности» к Шукшину в полной мере не применимы. По мнению Ю.Н. Тынянова, когда речь идет об этих категориях историко-литературного процесса, то обычно представляют некоторую прямую линию, соединяющую младшего представителя известной литературной ветви со старшим. Наложение этой схемы становится препятствием для решения проблемы межтекстовых связей, художественно воплотившейся в прозе писателя XX в.
3. Отмечая повышенную интертекстуальность творчества Шукшина, исследователи констатируют следующую особенность: «Начиная с первых публикаций, произведения Шукшина как будто легко и просто вписываются в «текст любой культуры», <.>, но оставляют при этом весьма заметный зазор, определяющий качество и меру собственного «текста», «манеры» и «вечности» Шукшина.» (245, с. 11). Современное шукшиноведение, действительно, изучает творчество Шукшина в связи с «дальними» (древнерусская литература, литература XVIII в.). и «ближними» контекстами. Исследователи выявили большое количество реминисценций из произведений Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, JI.H. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького и других писателей-классиков. Однако наличие отдельных совпадений и перекличек не позволяет понять сложный «механизм» усвоения сознанием человека XX в. прошлого художественного опыта. Поэтому исследователи не раз подчеркивали необходимость изучения шукшинского творчества в аспекте традиций русской классики: «Но эта связь нашей критикой не раскрыта; исследование ее — дело будущего. Проблема эта требует глубокого постижения и не может быть сведена к внешним сопоставлениям и аналогиям. Нужно заметить, что выступления Шукшина о своем творчестве дают для этого мало материала» (107, с. 112-113).
Художественный мир Шукшина подчеркнуто антропоцёнтричен, о чем свидетельствуют названия основных сборников писателя («Сельские жители», «Характеры») и многочисленных его произведений («Любавины», «Гринька Малюгин», «Степка», «Непротивленец Макар Жеребцов», «Боря» и др.). Программный тезис писателя: «Нет, литература — это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высокого нравственного порядка» (307, с. 464). Поэтому исследователи не раз обращались к анализу шукшинского героя, понимая, что он является эпицентром прозы писателя и содержит о в себе разгадку подчеркнуто игрового образа автора.
Следует отметить тот факт, что само понятие «шукшинский герой» укоренилось в современном шукшиноведении, однако оно отмечено противоречивостью. Сам автор, рассуждая о типе героя времени, называет таковым «дурачка», «в котором время, правда времени вопиет так же неистово, как в гении, так же нетерпеливо, как в талантливом, так же потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном.» ( 307, с. 403). Недаром в высказывании Шукшина сходятся крайности («дурачок» и «гений»), автора «Калины красной» не привлекал «так называемый простой, средний, нормальный положительный человек» (307, с. 466). Шукшина прежде всего интересует стихийный тип, он «исследует характер человека-недогматика, человека, не посаженного на науку поведения» (307, с. 451). Часто в своих статьях рассуждая об интеллигентном человеке, Шукшин в связи с национальной традицией вкладывает в это понятие исключительно нравственное содержание: «Умный человек. Уважительный. Не мот, не пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер» (307, с. 381). Однако, исследуя героя в связи с историческими событиями недавнего (революция, коллективизация, война) и далекого (восстание крестьян под предводительством Степана Разина) прошлого, Шукшин акцентирует свое внимание на человеке, выразившем в своей психологии «изломы», «комплексы», «вывихи». Общеизвестно, что «сверхтипом» всего творчества писателя является Степан Разин, по мнению американского исследователя Джона Гивенса, «alter ego» автора (60). «Разинское» начало становится неотъемлемой частью современной Шукшину действительности в связи с переходностью самой эпохи 1960-х гг., в которую опять остро встал «крестьянский вопрос». Сдвинувшаяся со своих основ деревня в качестве главного героя этого исторического периода выдвигает героя-маргинала. Шукшин, будучи, по мнению JI. Аннинского, специалистом по «межукладочному слою», в своей прозе обратился к созданию такого характера, в котором нашло бы отражение национальное и эпохальное содержание.
Шукшинский герой, единство которого было отмечено уже критикой 1960-х годов, оказался неоднозначным, что подчеркнуто и в работах, посвященных анализу творчества Шукшина. В статье 1978 г. «Путь Василия Шукшина» JI.A. Аннинский попытался осмыслить противоречивую природу шукшинского характера и не менее сложную проблему взаимоотношений автора и героя, которая, по мнению исследователя, заключается в том, чтобы «понять неправого». Отметив пристрастие Шукшина к «нелогичной, странной, чудной душе», JI.A. Аннинский указывает ее «границы» в прозе писателя: «На одном полюсе этого мятежного мира - тихий «чудик», робко тыкающийся к людям со своим добром <.>. На другом полюсе - заводной мужик, захлебывающийся безрасчетной ненавистью <.>» (6, с. 242).
Сложность шукшинского характера отмечает и H.JI. Лейдерман. Интересно, что для доказательства тезиса о противоречивости человеческого типа, созданного Шукшиным, исследователь прибегает к классике: «Его (Шукшина — О. Л.) вовсе не умиляет герой, который жил бы, подобно Платону Каратаеву <.>, в стихийном согласии с миром, интуитивно осуществляя закон бытия» (163, с. 60).
Г. Белая также намечает связь героя Шукшина с традициями русской классики, в частности Достоевского, так как оба писателя, по мнению " исследователя, воплотили «разрушительный потенциал «маленького человека» (19, с. 278).
Противоречивость и сложность шукшинского героя определяет разный характер прочтений многих произведений писателя и неутихающие споры о творческом наследии Шукшина. Так, большинство шукшиноведов в одном из программных рассказов «Крепкий мужик» в образе Николая Шурыгина видят современного Герострата. Диаметрально противоположную характеристику герою дает Е.В. Черносвитов в своей монографии «Пройти по краю»: «Шурыгин — явление сложное и неоднозначное. «Крепкий мужик» - определение, отнюдь не ироническое, а точное и хваткое. Побольше бы таких крепких мужиков на Руси. Смеем утверждать, что благодаря этой своей характеристике Шурыгин становится в один ряд с другими крепкими мужиками — Разиным, Иваном Расторгуевым, Прокудиным, Шукшиным» (284, с. 171). На наш взгляд, дело здесь не в исследовательском произволе. Неоднозначность прочтений и интерпретаций шукшинского текста связаны с его глубиной, наличием аллюзий, реминисценций, целым рядом культурных «отсылок», большинство из которых - русская классика. Не случайно Б.И. Бурсов отмечает такую черту шукшинского героя, как «старомодность».
Очевиден тот факт, что мифология русской души в своих основных очертаниях сложилась в литературе XIX в. Поэтому постановка проблемы «Шукшин и традиции русской классики» в аспекте изучения своеобразия шукшинского героя не вызывает сомнений. Научная новизна настоящего исследования определяется тем, что: впервые своеобразие шукшинского героя исследуется в контексте русской классики; в работе предпринята попытка изучения путей и особенностей усвоения писателем XX в. традиций русской классики; шукшинское творчество и наследие русской классики О рассматриваются как историко-литературные этапы воплощения национального мифа о «загадочной славянской душе»; предпринятое исследование открывает перспективу изучения творчества писателей разных эпох в аспекте проблемы межтекстовых связей.
На этом основании материалом исследования в работе станет творчество писателей разных историко-литературных эпох: JT.H. Толстого, Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина.
Предметом исследования является проза JT. Толстого, Достоевского и Шукшина. В диссертации сознательно нарушена пропорция в обращении к творчеству писателей-классиков. Анализ прозы JT. Толстого в аспекте шукшинской традиции, по сути дела, лишь подчеркивает сознательность выбора Шукшина в пользу эстетики Достоевского. Помимо художественного творчества, привлекались черновые варианты, художественно-публицистические статьи, эпистолярное наследие писателей, воспоминания современников.
Основная цель исследования — изучение типологических и генетических «схождений» в творчестве писателей разных историко-литературных эпох, возникших как результат развития русской литературы в сфере осмысления категории «национального»; исследование особенностей усвоения и переосмысления мировоззрения, эстетики и поэтики JI. Толстого и Достоевского в творческом сознании художника второй половины XX в. Шукшина.
Достижение поставленной цели предполагало решение ряда задач: рассмотрение эпох (второй половины XIX и XX вв.) в парадигме «Большого времени» (М.М. Бахтин) как времени социального и культурного «взрыва» (Ю.М. Лотман); анализ мировоззрения, эстетики и поэтики Л. Толстого, Достоевского и Шукшина в аспекте поиска типологических «инвариантов», свидетельствующих о преемственности русской литературы, прежде всего, в осмыслении национального; обнаружение в национальном характере, воплощенного Достоевским и Шукшиным, разрушительного потенциала, обращение писателей к образным архаическим формам «бесовства»; изучение классических традиций в прозе Шукшина в свете особенностей воплощения «странного», маргинального героя и проблемы сложности национальной самоидентификации; исследование своеобразия художественного осмысления в творчестве Шукшина основных национальных «мифов» русской классики, связанных с категориями пространства, движения, типом характера, «русской идеей» и т.п. анализ шукшинского героя в аспекте решения русской классикой философских и социальных проблем. Методологическая основа исследования. В качестве ведущего был использован сравнительно-типологический метод исследования, опирающийся на труды по исторической поэтике, на работы А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, в которых, при всем учете пестроты и многообразия литературного процесса, осуществляется поиск инвариантов», повторяемости, отражающих закономерности развития литературы. Принципиально важными для логики нашей работы являются понятия «диалога культур» и форм воплощения «чужой речи» не только как средства, но и как предмета изображения, разработанные М.М. Бахтиным в его истории и теории культуры. Проблема межтекстовых связей исследована в поздних работах М.Ю. Лотмана и представителей тартуской школы, в трудах постструктуралистов (А.К. Жолковского, Б.М. Гаспарова), на которые мы также будем опираться.
В ходе развития русской литературы создавался не только национальный характер в его реальных социокультурных очертаниях, но и мифология русской души. Поэтому одним из основных методов исследования в работе станет мифологический метод.
В основе исследования лежит рабочая гипотеза:
Рано поняв, что нехоженых троп в литературе немного, Шукшин опирается на русскую классику в выработке собственной позиции в литературе. Русская классика для автора «Сельских жителей» оказывается ориентиром на творческом пути.
Способы усвоения художественным сознанием человека XX в. произведений русской классики многообразны: от преемственности и следования традиции до переосмысления, трансформации и игры с классической образностью.
Сложное отношение к классическому наследию у Шукшина (от пиетета до иронии) связано прежде всего с недоверием писателя иной историко-литературной эпохи к основным выводам о человеке и его будущем, сформулированным русской литературой XIX в.
Однако классика полнее всего воплотила национальный миф, не только отразила, но и во многом сформировала русский национальный характер. Создавая своего героя как выражение национального и эпохального, Шукшин не мог пройти мимо художественного опыта русской литературы XIX в., прежде всего Достоевского и JI. Толстого.
Воплощая социально-психологическую трагедию своего времени в образе сдвинувшейся со своих основ русской деревни и «разземеленного» крестьянина, по психологии негородского и несельского, Шукшин недаром обращается ко второй половине XIX в., «когда все переворотилось и только укладывалось».
Несмотря на то, что «великие спутники» часто мыслятся художественным сознанием человека XX в. в единстве, все же очевидным является тот факт, что творческий опыт Достоевского необходим Шукшину чаще всего в воссоздании хаоса действительности и разрушительного потенциала национального характера. Толстовский контекст в шукшинской прозе возникает при решении социальных (сельский человек и работа на земле), психологических (философия пола, образ «злой жены») и философских проблем (тема смерти, проблемы веры и безверия).
Обращение к русской классике, в частности к творчеству Достоевского и JI. Толстого, как к одному из источников создания шукшинского характера позволяет не только подтвердить тезис, выдвинутый еще критиками 1970-х гг. о дифференцированности и сложности «простого человека» Шукшина, но понять его «составляющие». Герой Шукшина -творец и разрушитель, мечтатель и прагматик, носитель веры и богохульства, цельный и раздвоенный, странный и типичный одновременно.
Решение заявленной проблемы, на наш взгляд, позволит приблизить шукшиноведение к ответу на вопросы о творческом методе и месте автора «Калины красной» в литературном и культурном контексте XX -нач. XXI в. На наш взгляд, Шукшину оказывается чуждым представление о мире как о тексте с его бесконечной перекодировкой и игрой знаков. Поэтому отношение к классике писателя XX в. во многом воплощает «жизнестроительную» функцию, характерную для традиций русской литературы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В условиях главенства и монизма соцреалистической эстетики обращение к психологическому облику, художественному опыту, творческой лаборатории Достоевского и JI. Толстого означало не только сохранение преемственности в формировании феномена «русский писатель», но и воплощение таких его составляющих, как подвижничество, пророческий дар, социальный нонконформизм, всеотзывность. В отдельных произведениях Шукшина, как правило, воссоздается миф о творце в негатавнойинтерп^тации, рожденный прежде всего характером эпохи: недовоплощенностью, нереализованностью «мастера», победой конъюнктурного искусства. Позитивное содержание отражает весь «метатекст» прозы Шукшина и шукшинский биографический миф о творце и творчестве, созданный с явной опорой на традицию русской классики, прежде всего Достоевского.
2. Подчеркивая особую роль художественного пространства для национального самосознания,., следует отметить, что шукшинский «материк» часто сужался критиками до региональной картины мира. Шукшин в своей прозе воплотил универсальную модель пространства, эстетически освоенную в предшествующей культурной традиции. Однако индивидуальный характер шукшинского осмысления пространства обусловлен реалиями новой эпохи и авторской «точкой зрения». Постановка проблемы национальной самоидентификации и рассмотрение категории «странное» в сравнительно-типологическом и сравнительно-генетическом аспектах позволяют исследовать шукшинского героя в связи с традициями русской классики, прежде всего Достоевского. Странность, по мнению писателей, более всего выражает национальное и эпохальное содержание. Юродство, архаическая форма религиозного подвижничества, ставшая в культуре нового времени психологической особенностью, является одной из важных составляющих в формировании феномена странного человека.
3. Изучение разрушительного потенциала национального характера, воссозданного в творчестве Достоевского и Шукшина через архаические образы бесовства, позволяет создать своеобразную типологию героев-«бесов», обнаружив в них разные проявления злого и инфернального, в связи с воплощением темы «преступления и наказания», «двойничества», «подполья».
4. Анализ философии и психологии лжи в художественном мире Достоевского и Шукшина приводит к выводу о ее сложной природе, связанной с особенностями национального характера: она может быть разрушительной и созидательной одновременно, о чем свидетельствует изучение героев-лжецов и героев-мечтателей. Неотъемлемой чертой русского сознания XIX-XX вв. является самозванство, утратившее историко-философскую функцию, но отразившее глубочайшие сдвиги в области социальной психологии.
5. Кризис веры, особенно остро почувствованный в эпоху «взрыва» и наиболее драматично воплощенный Л. Толстым, позволил именно автору «Воскресения» поставить целый ряд экзистенциальных проблем: осознание таинства смерти, поиски смысла человеческого существования, отрицание Евангельского Воскресения и обращение к идее абсурда, мысль о самоубийстве как одном из путей его преодоления и признание самоценности и торжества жизни. XX в., усиливший тенденцию к тотальной утрате смысла человеческого существования, предопределил необходимость усвоения художественного опыта Л.
Толстого, тем более если речь идет о Шукшине, так много и так мучительно рассуждавшем о вечных вопросах бытия.
6. Несмотря на разницу общественного устройства России в XIX и XX вв., несмотря на те коренные изменения, которые произошли после революции, однако преемственность в области социальной проблематики свидетельствует о существовании устойчивых «инвариантов» художественного и общественного сознания. Шукшинское творчество, как и наследие Достоевского и Л. Толстого, отражает противоречия между отдельным гражданином, его интересами, чувствами, чаяниями и Государством. Шукшин, вслед за писателями-классиками, в новых исторических условиях показал, как сильными мира сего эксплуатируется «мертвый» миф о патерналистской функции государства. Из всего арсенала средств воздействия «старших» на «младших» осталось только наказание. Поэтому столь часто писатели разных историко-литературных эпох обращаются к изображению государственного института суда, свидетельствуя о его неправедности.
7. В шукшиноведении не раз предпринималась попытка создания классификации героев. Однако одна из самых, на наш взгляд, универсальных классификаций принадлежит Достоевскому. В связи с тем, что опыт автора «Братьев Карамазовых» для Шукшина в воплощении национального характера оказался столь существенным, мы считаем возможным в качестве рабочей гипотезы ее использование: низшие типы для писателей отнесены к определенному классу «бестиария», высший несет в себе духовные ценности, откристаллизованные вековой традицией православия. На первый взгляд, такой вывод спорен относительно Шукшина, писателя, у которого не было и не могло быть индивидуального религиозного опыта, но он был у народа, из которого писатель вышел.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Шукшинский герой и традиции русской литературы XIX в."
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В эпоху, когда многие литературоведческие исследования становятся своеобразной «мозговой игрой», многочисленные реинтерпретации, часто возникшие в ходе переоценки идеологических ценностей, делают релятивистскими любые суждения о тексте, особенно важно не утерять представление о магистральном развитии русской литературы, о том постоянном духовном потенциале, который присущ ей. Изучение проблемы «Шукшин и русская классика» и частного ее аспекта «Достоевский и JT. Толстой в творческом сознании Шукшина» находится в русле сравнительного литературоведения и выполнено отнюдь не для того, чтобы «подтянуть» творчество писателя XX в. до высот русской культуры.
Мы отдаем отчет как в важности и обширности поставленной проблемы, так и в том, что в нашей работе она лишь обозначена. Многое (например, на наш взгляд, истоки шукшинской публицистики следует искать прежде всего в «Дневнике писателя» Достоевского, в котором синтетично слился личный интерес автора и национальная потребность в обсуждаемой проблеме, и в субъективно окрашенной, суггестивной публицистике JI. Толстого) осталось вне поля зрения данной работы. Не все аспекты анализа представлены одинаково глубоко и некоторые выводы могут, несомненно, представляться спорными. Однако сравнительно-генетический и сравнительно-типологический подходы плодотворны, потому что позволяют сменить «точку зрения», обозначить новый «фокус» рассмотрения изучаемых объектов.
Не только XIX, но и XX в. уже прошлое. Находясь в потоке движущего времени, будучи современниками XX в., отталкиваясь от него, мы часто с ностальгией вспоминали эпоху Толстого и Тургенева. В парадигме «большого времени» М.М. Бахтина это два непрерывных исторических этапа общечеловеческого и национального развития. Естественно, что XX в. во многом отличался от предыдущей эпохи, развеяв некоторые утопические представления о человеке и мире, воплотив иную, более «жесткую» диалектику добра и зла, проверив «на прочность» национальные мифы, рожденные русской классикой.
Однако именно русская литература XIX в. сформировала национальное самосознание и обозначила весь диапазон русских «проклятых» вопросов. Она создала тот культурный духовный потенциал, который будет востребован последующими эпохами.
Диалог историко-литературных периодов, реализуясь в творчестве отдельных художников, существует как преемственность и как преодоление, как страх влияния и как сознательная установка на освоение чужого опыта. Как правило, диалог этот возникает и не может не возникнут в сфере осмысления национального. Более того, выбор имен в работе — Толстого, Достоевского, с одной стороны, и Шукшина, с другой, - продиктован не только репрезентативностью авторов в сфере отражения русской ментальности, но и «перекличками» эпох - второй половины XIX и XX в., что воплотилось в творчестве писателей.
Не только проза, но и герои Шукшина часто представляются простыми, схематичными, «линейными». Если использовать для сравнения масштаб, предложенный Достоевским, то, на первый взгляд, кажется, что шукшинский художественный мир развертывается по законам геометрии Евклида, а герои и мир Достоевского и Толстого живут в соответствии с геометрией Лобачевского.
Лубочность» шукшинского творчества оказалась иллюзорной. Шукшиноведение последних лет все чаще демонстрирует неисчерпаемость смыслов творчества писателя XX в. Глубина его осмысления проблем национального мира становится наиболее ощутимой в контексте русской классики. Совершенно очевидным является тот факт, что общение с текстами русских писателей, как и вообще с любыми чужими текстами, у Шукшина подчеркнуто диалогично. Даже раннее творчество автора «Любавиных» не позволяет рассматривать Л. Толстого и Достоевского, с одной стороны, Шукшина, с другой, в парадигме «учитель — ученик». В шукшинском особом типе «текста в тексте» «чужое» оказывается многофункциональным и строго избирательным.
Большим количеством типологических «схождений» характеризуется творчество Достоевского и Шукшина, что нашло отражение в логике нашего исследования. Их прежде всего сближает отношение к слову, произнесенному, звучащему, написанному, слову подчеркнуто «адресному» и принадлежащему и характеризующему его носителя. Пристальный интерес к слову в художественных мирах писателей разных, но во многом сходных историко-литературных эпох объясняется парадоксально: недоверием к слову, его смысловой обветшалостью, которые отражают глубинные процессы переосмысления традиционного в переходное время; с другой стороны, слово оказывается главным средством саморефлексии и самоидентификации героя-маргинала. Внимание к слову как преимущественному объекту изображения повышает роль чужого слова, делает его заметным конструктивным признаком текста.
Язык русской литературы предшествующей эпохи раздвигает рамки эпического повествования в шукшинском рассказе, вводя историческое время: рассказ за счет этого становится поистине емким. Шукшин, характеризуя малый эпический жанр, обязательно предполагает сотворчество читателя, умение «досочинить». Классика, часто представленная в прозе Шукшина в подчеркнуто школьном варианте, становится универсальным коммуникативным знаком, позволяющим многое домыслить, вписав произведение в нужный автору контекст прочтения. В связи с шукшинской характеристикой творчества как «зашифрованного» можно говорить о задаче сознательного создания автором не только контекста, но и подтекста. Темы, образы, мотивы русской классики, часто данные посредством приема банализации, позволяли обозначить проблему, заговорив в эпоху всеобщего безгласия о несвободе, духовном «подполье» и воле.
Язык русской классики — чужой, во многом архаичный для литературы XX в., позволяющий Шукшину использовать прием остранения, воплотить камерный бытовой сюжет многоаспектно. Использование реминисценций часто связано с переосмыслением основных национальных мифов, созданных русской классикой. Упрощение, вплоть до пародирования, ее образной системы призвано подчеркнуть недоверие к ее «языку», к ее основным представлениям о человеке и мире, к ее утопическим выводам и благодушным прогнозам.
Не ограничивая анализ поиском реминисценций, стремясь сохранить при сопоставительном подходе системный характер исследования, в работе мы остановились, на наш взгляд, на основных эстетических принципах писателей второй половины XIX и XX вв., выявляя структурные элементы категории национального. Особенности русского национального характера писателями разных эпох даются в свете общечеловеческих ценностей — извечного конфликта добра и зла, божеского и бесовского, правды и лжи, жизни и смерти, «я» - «не-я», жертвенности и своеволия. И хотя русские художники в разные периоды жизни России своим творчеством удостоверяют библейскую истину, что без праведника не стоит ни город, ни страна, они, особенно Достоевский и Шукшин, воплощают трагическую борьбу, где часто в душе человека побеждает зло. Состояние мира порождает предупреждение: «Нам бы про душу не забыть!» - и недоумение: «Что с нами происходит?». Почти век назад русская классика по сути дела сформулировала эти тезисы. И все же не растерянностью и признанием абсурдности бытия характеризуется «горький, мучительный» талант Шукшина. Как и русская классика, творчество писателя XX в. проникнуто верой в человека, в его нравственный выбор.
Список научной литературыЛевашова, Ольга Геннадьевна, диссертация по теме "Русская литература"
1. Абашева М.П. Феномен самозванства в художественной интерпретации В. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 3-5.
2. Аверинцев С.С. Антихрист. Георгий // Мифы народов мира. Энциклопедия в 2 т. М., 1987. Т 1. С. 85-87; 273-275.
3. Аллен Луи. Ф.М. Достоевский. Поэтика. Мироощущение. Богоискательство. СПб, 1996. 171 с.
4. Альтман М.С. Достоевский по вехам имен. Саратов, 1975.280 с.
5. Анненский И. Книги отражений. М., 1979. 680 с.
6. Аннинский Л.А. Путь Василия Шукшина // Л.А. Аннинский. Тридцатые семидесятые. Литературно-критические статьи. М., 1978. С. 228-268.
7. Апухтина В. В зеркале сатиры Шукшина // Литературная учеба. 1981. №1. С 156-163.
8. Апухтина В.А. О сатире В. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 28-37.
9. Апухтина В.А. Проза В. Шукшина. М., 1981. 80 с.
10. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов: В 3-х т. М., 1995.
11. Бабаев Э.Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. М., 1978.158 с.
12. Базанова А.Е. Некоторые особенности типологии сюжета комического рассказа в творчестве Шукшина // Актуальные проблемы филологии. М., 1983. Ч. 1. С. 2-12.
13. Базанова А.Е. Традиции русской классической литературы (Ф.М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов) в прозе Шукшина. Дис. канд. филол. наук. М., 1986. 182 с.
14. Базанова А.Е. Ф.М. Достоевский и В.М. Шукшин // Функциональное и системно-типологическое изучение языка и литературы. М., 1984. С. 12-19.
15. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. 470 с.
16. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.502 с.
17. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.444 с.
18. Бахтинология: Исследования, переводы, публикации. СПб., 1995.374 с.
19. Белая Г. Антимиры Василия Шукшина // Литература и современность. Статьи о литературе 1976-77 годов. М., 1978.1. С. 269-279.
20. Белая Г. Искусство есть смысл. // Вопросы литературы. 1973. №7. С. 62-94.
21. Белая Г.А. Парадоксы и открытия Василия Шукшина // Г.А. Белая. Художественный мир современной прозы. М., 1983. С. 93-118.
22. Белопольский В.Н. Достоевский и философская мысль его эпохи: концепция человека. Ростов н/Д., 1987. 206 с.
23. Белый О.В. Тайны «подпольного» человека (Художественное слово обыденное сознание - семиотика власти). Киев, 1991.309 с.
24. Бердяев Н.А. Миросозерцание Ф.М. Достоевского. М., 2001.173 с.
25. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философскойIкультуре. М., 1990. С. 43-271.
26. Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии войны и национальности. М., 1990. 207 с.
27. Бодрова JI.T. «Чужое слово» как фактор поэтики в коротком рассказе В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 12-14.
28. Бодрова JI.T. Культура диалога с классикой в поэтике // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 39-41.
29. Бодрова JI.T. Приемы создания народного характера в рассказах В. Шукшина // Стилевые традиции русской реалистической прозы XIX века. Челябинск, 1983. С. 108-133.
30. Бодрова JI.T. Русская классика в творчестве В.М. Шукшина // Жанрово-стилевое своеобразие советской литературы. Челябинск, 1980. С. 116-149.
31. Бодрова JI.T. Ф.М. Достоевский: культура диалога с классикой. Ее осмысление и развитие в коротком рассказе Шукшина // Достоевский в культурном контексте XX века. Омск, 1995. С. 38-44.
32. Болынев А.О. Повесть-сказка Шукшина «Точка зрения». Проблема контекста // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 40-42.
33. Бочаров А. Общее и индивидуальное в прозе Ю. Трифонова, В. Шукшина, В. Распутина // Шукшинские чтения. Барнаул, 1984. С. 50-73.
34. Будникова Е.А. «Бунтующий человек», или экзистенциальный подтекст в творчестве В. Шукшина ( на материале рассказа «Приезжий») // Актуальные проблемы филологии. Барнаул, 1998. С. 86-90.
35. Будникова Е.А. «Из каких же он?» // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 86-89.
36. Бурков Г. Живой Шукшин // Шукшинские чтения, Барнаул, 1984. С. 104-113.
37. Бурсов Б.И. Личность Достоевского. Л., 1974. 672 с.
38. Быстров В.Н. Шукшин и Ф. Достоевский: К проблеме гуманизма // Русская литература. 1984. № 4. С. 18-34.
39. Бэлнеп Роберт Л. Структура «Братьев Карамазовых». СПб.,1997. 144 с.
40. Ваняшова М. Шукшинские лицедеи // Лит. Учеба. 1979. №4. С. 160-168.
41. Василевская Л.И. Роль имени персонажа в рассказах В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина: Проблемы, поэтика, стиль. Барнаул, 1991. С. 150-162.
42. Васильев В.К. Тема самоубийства в позднем творчестве В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул,1998. С. 50-55.
43. Васильев В.К. Философско-культурологические смыслы творчества В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 87-100.
44. Васильева И.В. К проблеме житийной традиции в прозе В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999.1. С. 148-150.
45. Вересаев В.В. Живая жизнь: о Достоевском и о Толстом: Аполлон и Дионис (о Ницше). М., 1991. 336 с.
46. Вертлиб Е. Василий Шукшин и русское духовное возрождение. New York, 1990. 269 с.
47. Вертлиб Е. Русское от Загоскина до Шукшина. СПб., 1992.403 с.
48. Веселовский А.Н. Из поэтики розы // А.Н. Веселовский. Избранные статьи. Л., 1939. С. 132-139.
49. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989. 404 с.
50. Ветловская В.Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977. 200 с.
51. Ветловская В.Е. Роман Достоевского «Бедные люди». Л., 1988. 205 с.
52. Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1991. 544 с.
53. Волоцкий М., Швырев Ю. «Душу свою донести людям» // Искусство кино. 1981. №7. С. 111-119.
54. Воробьева И.А. Вариативность антропонимов в рассказах В.М. Шукшина как отражение антропонимической вариативности в речевой коммуникации // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 151-163.
55. Гачев Г. Русская Дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991.272 с.
56. Геллер Л. Опыт прикладной стилистики. Рассказ В. Шукшина как объект исследования с переменным фокусом расстояния // Wiener Slawistischer Almanach. 1979. № 4. С. 95-123.
57. Геллер М. Василий Шукшин: В поисках воли // Вестник русского христианского движения. Париж Нью-Йорк - Москва. 1977. № 120. С. 159-181.
58. Гивенс Дж. Экзистенциалистские начала в прозе В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 7-9.
59. Гивенс Дж. Особенности реализации экзистенциалистских идей в прозе В.М. Шукшина // В.М. Шукшин философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 11-36.
60. Givens John R. Provincial polemics: folk discourse in the life and novels of Vasilii Shukshin. Ann Arbor, 1993. 389 c.
61. Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1990. 432 с.
62. Горн В. Василий Шукшин. Личность. Книги. Барнаул, 1990.288 с.
63. Горн В. Характеры Василия Шукшина. Барнаул, 1981. 248 с.
64. Горн В.Ф. «Истинное величие почвенно» // Алтай. 1993. № 5. С. 10-20.
65. Городецкая А.Г. Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000. 264 с.
66. Горышин Г. Где-нибудь на Руси. // Аврора. № 6. 1975. С.24.28.
67. Гришаев В. Василий Шукшин // В. Гришаев. Тропою памяти. Барнаул, 1987. С. 45-111.
68. Гришин Д.В. Достоевский — человек, писатель и мифы. Достоевский и его «Дневник писателя». Мельбурн, 1971. 369 с.
69. Громов Е. Поэтика доброты // О Шукшине: Экран и жизнь. М., 1979. С. 15-29.
70. Гусейнов Г.Ч. Ложь как состояние сознания // Вопросы философии. 1989. № 11. С. 64-77.
71. Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1989.317 с.
72. Даль В. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Материалы по русской демонологии. СПб., 1994. 480 с.
73. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 Т. М., 1989-1991.
74. Десятов В.В. Птица-тройка, семерка, туз: «уроки родной литературы» в рассказе «Забуксовал» // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 56-58.
75. Десятов В.В. Шукшин и мудрецы (духовные прототипы персонажа сказки «До третьих петухов») // «.Горький, мучительный талант». Барнаул, 2000. С. 160-174.
76. Джексон Роберт Луис. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М., 1998. 285 с.
77. Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. СПб, 1999.347 с.
78. Днепров В. Идеи, страсти, поступки. Из художественного опыта Достоевского. Л., 1978. 384 с.
79. Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. 541 с.
80. Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. 244 с.
81. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1986.
82. Дубровская В.В. «Алеша Бесконвойный»: опыт мифологизированного прочтения рассказа Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 74-77.
83. Дудкин В.В. Достоевский Ницше (Проблемы человека). Петрозаводск, 1994. 151 с.
84. Дуров А.А. «Авторские маски» в прозе В.М. Шукшина (К проблеме генезиса) // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 48-50.
85. Дуров А.А. Некоторые проблемы трансляции народной культуры на примере сказки «До третьих петухов» В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 10-11.
86. Дуров А.А. Трансформация традиционного образа дурака в прозе В.М. Шукшина: Автореф. дис. канд. филол. наук, Ставрополь, 1996. 20 с.
87. Евнин Ф.И. Об одной историко-литературной легенде: (Повесть Достоевского «Двойник») // Русская литература. 1965. № 3. С. 3-26.
88. Емельянов Л.И. Василий Шукшин: Очерк творчества. Л., 1983. 152 с.
89. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М., 1999. 511 с.
90. Ершов Л.Ф. Правда и нравственность: Своеобразие сатиры
91. B. Шукшина //Л.Ф. Ершов. Память и время. М., 1984. С. 247-263.
92. Есаулов И.А. Юродство и шутовство в русской литературе // Литературное обозрение. 1998. № 3. С. 108-112.
93. Жданова О.П. «Штрихи к портрету» героев В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 78-80.
94. Живов В. Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции // Новое литературное обозрение. 1999. №37. С. 37-51.
95. Жилякова Э.М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского. Томск, 1989. 272 с.
96. Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994. 426 с.
97. Жолковский А.К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М., 1999.391 с.
98. Заболоцкий А. Шукшин в кадре и за кадром: Записки кинооператора. М., 1997. 256 с.
99. Залыгин С.П. Герой в кирзовых сапогах // Шукшинские чтения. Барнаул, 1989. С. 11-22.
100. Зубков В.А. Шукшин Есенин: Общность художественного сознания // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992.1. C. 48-50.
101. Иванов В.В. Достоевский и народная культура (юродство, скоморошество, балаган). Дис. канд. филол. наук. JL, 1989. 188 с.
102. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. 432 с.
103. Ильин В.Н. Миросозерцание графа Льва Николаевича Толстого. СПб., 2000. 479 с.
104. Каверин В. Рассказы Шукшина // Новый мир. 1977. №6. С. 261-266.
105. Калинина И.А. Мифологема «круг» в рассказе В.М. Шукшина «Верую!» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 80-82.
106. Кантор В.К. «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского. М., 1983. 192 с.
107. Карлова Т.С. Лев Толстой в движении истории. Казань, 1978. 190 с.
108. Карпова В.М. Талантливая жизнь. Василий Шукшин -прозаик. М., 1986. 302 с.
109. Карпова Г.И. Мотив «русского духа» в повести-сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов» // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 92-94.
110. Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. М., 1989.656 с.
111. Касаткина Т.А. Характерология Достоевского: Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М., 1996. 335 с.
112. Кашкина Н.В. Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М., 1986.316 с.
113. Кирпотин В. Достоевский и Белинский. М., 1976. 301 с.
114. Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. М., 1983. 472 с.
115. Кирпотин В.Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М., 1970. 448 с.
116. Козлова А.В. Феномен двойничества и формы его выражения в русской прозе 1820-30-х годов. Автореф. дис. канд. филол. наук. Томск, 1999. 20 с.
117. Козлова С.М. Что же жизнь — комедия или трагедия? (нравственно-эстетические основания шукшинской концепции «жизнь -театр») // Россия и театр Шукшина. Барнаул, 1997. С. 48-73.
118. Козлова С.М. Мирообразующая функция точки зрения в одноименных рассказах А.П. Чехова и В.М. Шукшина «Горе» // В.М. Шукшин — философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 46-56.
119. Козлова С.М. Нравственно-эстетические аспекты проблемы воли в творчестве В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 11-14.
120. Козлова С.М. Политические «апокрифы» В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина: Проблемы, поэтика, стиль. Барнаул, 1991. С. 72-101.
121. Козлова С.М. Поэтика рассказов В.М. Шукшина. Барнаул, 1992. 184 с.
122. Козлова С.М. Поэтическая номинация в рассказе В.М. Шукшина «Алеша Бесконвойный» // Актуальные проблемы филологии. Барнаул, 1998. С. 94-96.
123. Козлова С.М. Региональная концепция национального возрождения в прозе В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Поэтика. Стиль. Язык. Барнаул, 1994. С. 3-17.
124. Козлова С.М. Судьба народной песни в прозе В.М. Шукшина // Культурное наследие Алтая. Барнаул, 1992. С. 3-24.
125. Козлова С.М. Цикл «Внезапные рассказы». К проблеме творческого синтеза // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 45-60.
126. Комаров С.А. Сатирическая повесть для театра «Энергичные люди» В.М. Шукшина в контексте русской комедии //
127. B.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 52-54.
128. Комаров С.А. Слово божье и слово бесовское в киноповести «Калина красная» В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1977. С. 50-53.
129. Конюшенко Е.И. Шукшин и Достоевский // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 16-19.
130. Конюшенко Е.И. Заметки о межтекстовых связях в прозе В. Шукшина // Пародия в русской литературе XX в. Барнаул, 2002. С. 7279.
131. Кормилов С.И. «Исторический» и «современный» взгляд на убийство в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю» // В.М Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 11-13.
132. Коробов В.И. Василий Шукшин. М., 1984. 286 с.
133. Короленко В.Г. Современная самозванщина // В.Г. Короленко. Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1914. Т. III. С. 271-368.
134. Кофанова Е.В. Проблема художественной целостности творчества В.М. Шукшина. Дис. канд. филол. наук. М., 1997. 194 с.
135. Кофанова Е.В. Феномен Василия Макаровича Шукшина (к проблеме творческого метода) // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 60-71.
136. Кофанова Е.В. Характер структурных взаимосвязей в художественной системе В.М. Шукшина // «.Горький, мучительный талант». Барнаул, 2000. С. 109-118.
137. Кофанова Е.В., Кощей Л.А., Чувакин А.А. Творчество В. Шукшина как функционирующая целостность: проблемы, поиски, решения // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул, 1998.1. C. 3-11.
138. Кудрявцев Ю.Г. Бунт или религия (О мировоззрении Ф.М. Достоевского). М., 1969. 171 с.
139. Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского: Событийное. Временное. Вечное. М., 1991. 400 с.
140. Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1964.527 с.
141. Кузьмук В.А. Василий Шукшин и ранний Чехов // Русская литература. 1977. №3. С. 198-205.
142. Куляпин А.И. Основные этапы эволюции прозы Шукшина и проблема интертекстуальности // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 20-28.
143. Куляпин А.И. Проблемы творческой эволюции В.М. Шукшина. Барнаул, 2000. 200 с.
144. Куляпин А.И. Психоаналитический код в рассказах Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Поэтика. Стиль. Язык. Барнаул, 1994. С. 26-36.
145. Куляпин А.И. Рассказ В.М. Шукшина «Сураз». Эхо интертекстуальности // В.М. Шукшин философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 57-63.
146. Куляпин А.И. Роль интертекста в прозе В.М. Шукшина // Проза В.М. Шукшина как лингвокультурный феномен. Барнаул, 1997. С. 38-60.
147. Куляпин А.И., Левашова О.Г. «Жестокий талант» (Шукшин и Достоевский) // Филологический анализ текста. Сборник статей. Вып. П. Ф.М. Достоевский. Барнаул, 1998. С. 77-99.
148. Куляпин А.И., Левашова О.Г. «Завет великого учителя» (Шукшин и Лев Толстой) // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул, 1998. С. 28-42.
149. Куляпин А.И., Левашова О.Г. В.М. Шукшин и русская классика. Барнаул, 1998. 102 с.
150. Курляндская Г.Б. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. Тула, 1986. 254 с.
151. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. М.,1978.
152. Л.Н. Толстой о литературе. Статьи, письма, дневники. М., 1955. 764 с.
153. Лаут Райнхард. Философия Достоевского в систематическом изложении. М., 1996. 446 с.
154. Лебедев Е. Частица народа // О Шукшина: Экран и жизнь. М., 1979. С. 237-245.
155. Левашова О.Г. Анализ рассказа В.М. Шукшина «Крепкий мужик» (В.М. Шукшин и Ф.М. Достоевский) // В.М. Шукшин — философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 63-72.
156. Левашова О.Г. Анализ шукшинского рассказа «Обида» в свете оппозиции «Жизнь-театр» (Ф.М. Достоевский и В.М. Шукшин) // Россия и театр Шукшина. Барнаул, 1997. С. 83-89.
157. Левашова О.Г. Герои-лгуны в творчестве Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Актуальные проблемы филологии. Барнаул, 1998. С. 102-104.
158. Левашова О.Г. К проблеме типологии творчества Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 142-145.
159. Левашова О.Г. Образы самозванцев в творчестве Ф.М. Достоевского и В.М. Шукшина // «Горький, мучительный талант». Барнаул, 2000. С. 234-253.
160. Левашова О.Г. Проблема традиции в связи с анализом рассказа В.М. Шукшина «Верую!» // Культура и текст. Вып. I. Литературоведение. Часть II. СПб.- Барнаул, 1997. С. 101-104.
161. Левашова О.Г. Рассказ В.М. Шукшина «Капроновая елочка» и рождественский рассказ // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 109-114.
162. Левашова О.Г. Творчество В.М. Шукшина 1960-х годов и русская классика // Проблемы литературных жанров. Томск, 1996. С. 61-63.
163. Лейдерман Н. Мироздание по Шукшину // Урал. 1982. № 3. С. 175-185.
164. Лейдерман Н. Трудная дорога возвышенья // Сибирские огни. 1974. №8. С. 163-169.
165. Лейдерман Н.Л. Рассказ Василия Шукшина // Н. Лейдерман. Движение времени и законы жанра. Свердловск, 1982. С. 49-65.
166. Лихачев Д.С. «Небрежение словом» у Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2.1. С. 30-41.
167. Лихачев Д.С., A.M. Панченко, Н.В. Понырко. Смех в Древней Руси. Л., 1984. 295 с.
168. Лихачев Д.С., Панченко А.М «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976. 204 с.
169. Ломунов К.Н. Л.Н. Толстой в современном мире. М., 1975.493 с.
170. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1991. Т. I.480 с.
171. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.272 с.
172. Лотман Ю.М. О Хлестакове // Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 293-325.
173. Луис Джексон Роберт. Искусство Достоевского: Бреды и ноктюрны. М., 1998. 285 с.
174. Маймин Е.А. Лев Толстой: Путь писателя. М., 1978. 191 с.
175. Малькольм Джоунс. Достоевский после Бахтина: Исследование фантастического реализма Достоевского. СПб., 1998. 252 с.
176. Маркин П.Ф. Шутовство как тип поведения героев в рассказах В.М. Шукшина // Алтай. 1994. № 3. С. 174-180.
177. Маркин П.Ф. Путь к человеку: Традиции Ф.М. Достоевского в творчестве В.М. Шукшина // Алтай. 1987. №1. С. 105112.
178. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2000. 169 с.
179. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. 407 с.
180. Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. 624 с.
181. Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество // К. Мочульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 219-562.
182. Муравинская Л. Василий Шукшин: Хроника жизни и творчества // Алтай. 1982. №3. С. 74-103.
183. Набоков В.В. Лекции по русской литературе: Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М., 1998.438 с.
184. Наривская В.Д. Мифопоэтика киноповести В. Шукшина «Калина красная» // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 100-109.
185. Наривская В.Д. Национальный катастрофизм как проблема в творческом наследии В. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 22-24.
186. Неупокоева Л.Ф. Литературные традиции в рассказе В.М. Шукшина «Охота жить» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 22-25.
187. Никелл У. Смерть Толстого и жанр публичных похорон в России // Новое литературное обозрение. 2000. №44. С. 43-61.
188. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990. 302 с.
189. О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881 1931 годов. М., 1990. 432 с.
190. Овчинникова О.С. Историзм точки зрения В.М. Шукшина на проблему «бесов» русской жизни (На материале сказки «До третьих петухов») // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 4345.
191. Овчинникова О.С. Модель «Бесов» в сказке В.М. Шукшина «До третьих петухов» // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 115-122.
192. Овчинникова О.С. Народность прозы В.М. Шукшина. Бийск, 1992. 114 с.
193. Огнев А.В. А.П. Чехов и В.М. Шукшин // В.М. Шукшин: Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 25-28.
194. Огнев А.В. Чеховские традиции в прозе В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина: Проблемы, поэтика, стиль. Барнаул, 1991. С. 123-139.
195. Огнев В.А. О «житийной» тенденции в рассказах Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 45-47.
196. Одиноков В.Г. Литературный процесс и духовная культура в России: Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Тургенев. Новосибирск, 1995. 80 с.
197. Одиноков В.Г. Поэтика романов Л.Н. Толстого. Новосибирск, 1978. 160 с.
198. Одиноков В.Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского. Новосибирск, 1981. 145 с.
199. Панкин Б. Василий Шукшин и его «чудики» // Юность. 1976. №6. С. 74-80.
200. Панфилов Г. Три встречи // О Шукшина: Экран и жизнь. М., 1979. С. 255-261.
201. Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. 208 с.
202. Печерская Т.Н. Разночинцы шестидесятых годов XIX века: феномен самосознания в аспекте филологической герментевтики (мемуары, дневники, письма, беллетристика). Новосибирск, 1999.300 с.
203. Писемский А.Ф. Русские лгуны // А.Ф. Писемский. Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 7. С. 339-404.
204. Пищальникова В.А. Особенности менталитета жителя сибирской деревни, выявляемые в анализе речевых характеристик героев Шукшина // Творчество В.М. Шукшина. Поэтика. Стиль. Язык. Барнаул, 1994. С. 112-121.
205. Плеханова И.И. Диалогизм В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 165-167.
206. Плеханова И.И. Образ переживания бесконечности у В. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997.1. С. 62-64.
207. Плеханова И.И. Особенности сюжетосложения в творчестве В. Шукшина, Ю. Трифонова, В. Распутина: К проблеме художественной условности // Русская литература. 1980. №4. С. 71-88.
208. Плохотнюк Т.Г. Мифопоэтика рассказа В. Шукшина «Стенька Разин» // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 122-131.
209. Поддубная Р.Н. Двойничество и самозванство // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1994. Т. 11. С.28-40.
210. Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. 622 с.
211. Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. 342 с.
212. Проза В.М. Шукшина как лингвокультурный феномен 6070-х годов. Барнаул, 1997. 192 с.
213. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2000. 333 с.
214. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969. 168 с.
215. Пряхина А.С. Родословная В.М. Шукшина. Бийск, 1998.100 с.
216. Распутин В. Твой сын, Россия. // Шукшинские чтения. Барнаул. 1984. С. 12-40.
217. Рассказ В.М. Шукшина «Срезал»: Проблемы анализа, интерпретации, перевода. Барнаул, 1995. 150 с.
218. Редко Я.П. Богородичные мотивы в романе Шукшина «Я пришел дать вам волю» и поэме Клюева «Погорелыцина» // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 131-142.
219. Редько Я.П. Богородичные мотивы в творчестве Н.А. Клюева и В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 48-50.
220. Розанов В.В. О писательстве и писателях. М., 1995. 734 с.
221. Розов А.В., Сильченкова Л.С. Игра «литературностью» как прием в повести-сказке В.М. Шукшина «Да третьих петухов» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 71-73.
222. Румянцева О. Говорить правду, только правду // О Шукшине: Экран и жизнь. М., 1979. С. 263-278.
223. Рыбальченко T.JI. Проблема Бога в романе В. Шукшина «Я пришел дать вам волю» // А.С. Пушкин и В.М. Шукшин. Проблемы национального самосознания. Барнаул, 2000. С. 85-108.
224. Рыбальченко Т.Л. Проекция на роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в повести В.М. Шукшина «Калина красная» // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 162-165.
225. Рыбальченко Т.Л. Текст и письмо в художественном мире В. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул, 1998. С. 11-28.
226. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.366 с.
227. Саранцев А. «Что с нами происходит?» Василий Шукшин. М., 1999. 192 с.
228. Сараскина Л. «Бесы» роман-предупреждение. М., 1990.480 с.
229. Селезнев Ю. Фантастическая в современной прозе: фантастика как элемент реализма // Москва. 1977. №2. С. 198-206.
230. Селезнев Ю.И. В мире Достоевского. М., 1980. 376 с.
231. Семенова С. О бессмертии // Опыты. Литературно-философский ежегодник. М., 1990. С. 97-132.
232. Сигов В.К. Герой и антигерой в прозе В.М. Шукшина // В.М. Шукшин: Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С: 34-36.
233. Сигов В.К. Проблема народа в творчестве В.М. Шукшина и современность // Творчество В.М. Шукшина. Метод. Поэтика. Стиль. Барнаул, 1997. С. 72-78.
234. Сигов В.К. Русская идея В.М. Шукшина. Концепция народного характера и национальной судьбы в прозе. М., 1999. 302 с.
235. Сигов В.К. Социально-философская концепция В. Шукшина и современность // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 52-54.
236. Скубач О.А. К семантике образа героя-путешественника в произведениях В.М. Шукшина // Творчество В.М. Шукшина как целостность. Барнаул, 1998. С. 55-59.
237. Слово Достоевского. М., 1996. 302 с.
238. Слоним М.Л. Три любви Достоевского. Ростов н/Д., 1998.319с.
239. Смирин И.А. Шукшин и Чехов // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 57-59.
240. Снигирева Т.А. Категория правды в эстетике В. Шукшина и «Нового мира» А. Твардовского // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 59-61.
241. Снигирева Т.А. А.Т. Твордрвский. Поэт и его эпоха. Екатеринбург, 1997. 382 с.
242. Сохряков Ю. .Которая породила: Человек и земля в современной прозе // Наш современник. 1987. №2. С. 157-168.
243. Спиридова И.А. Проблема идеального и реального человека в творчестве В.М. Шукшина // В.М. Шукшин: Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 42-44.
244. Стопченко Н. Мир говорит о Шукшине // Сибирские огни. 1981. №1. С. 178-183.
245. Стопченко Н.И. Шукшин за рубежом // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 164-166.
246. Сухотина Толстая Т.Л. Дневник (1878-1935). М., 1987.573 с.
247. Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул, 1999. 320 с.
248. Творчество В.М. Шукшина: Опыт энциклопедического словаря-справочника. Барнаул, 1997. 196 с.
249. Тевс О.В. Семиотический аспект моделирования природы и социума в художественном мире В.М. Шукшина: Автореф. дис. канд. филол. наук, Барнаул, 1999. 22 с.
250. Типологические исследования по фольклору. М., 1975.320 с.
251. Типология литературного процесса. Пермь, 1990. 136 с.
252. Толкование на Апокалипсис святого Андрея Археипископа Кесарийского. Музей Библии. Иосифо-Волокаламский монастырь, 1992. 221 с.
253. Толстая А. Отец. Жизнь Льва Толстого: В 2-х т. М., 1989.503 с.
254. Толстой И.Л. Мои воспоминания. М., 1969. 455 с.
255. Толстой Л. Полн. собр. художеств, произв. М.-Л., 1930. Т. X. 384 с.
256. Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. М., 1972-1976.
257. Толченова Н.П. Василий Шукшин его земля и люди. Литературные заметки. Барнаул, 1978. 206 с.
258. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. 624 с.
259. Тульчинский Г.Л. Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб., 1996. 412 с.
260. Туниманов В.А. «Милочка» С.П. Победоносцева и «Слабое сердце» Ф.М. Достоевского // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. VIII. Л., 1988. С. 243-247.
261. Туниманов В.А. Творчество Достоевского 1854-1862. Л., 1980. 294 с.
262. Турбин В.Н. Характеры самозванцев в творчестве Пушкина // В.Н. Турбин. Незадолго до Водолея. М., 1994. С. 63-82.
263. Ульянов М. Сын родной земли // О Шукшине: Экран и жизнь. М., 1979. С. 309-316.
264. Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990.
265. Федотов Г.П. Юродивые // Г.П. Федотов. Святые Древней Руси. М., 1997. С. 179-189.
266. Филиппов Ю.Л. Герой Шукшина (К вопросу о национальном характере) // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997. С. 86-87.
267. Филиппова С.И. Трансформация образа «маленького человека» в концепт «чудик» в прозе В.М. Шукшина // Провинциальная экзистенция. Барнаул, 1999. С. 82-84.
268. Филологический анализ текста. Барнаул. 1998. Вып. 2 (Ф.М. Достоевский). 100 с.
269. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.605 с.
270. Фридлендер Г.М. Достоевский и Лев Толстой // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3. С. 67-91.
271. Халина Н.В. Мотивы философии персонализма в рассказе В.М. Шукшина «Медик Володя» // В.М. Шукшин философ, историк, художник. Барнаул, 1992. С. 79-90.
272. Халина Н.В. Первичный язык образного мышления, или «язык другого» в «Трех грациях» В.М. Шукшина // «.Горький, мучительный талант». Барнаул, 2000. С. 22-29.
273. Хлебникова В.Г. Образ земли и жизнь сельских тружеников в творчестве В. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 32-33.
274. Хомич Э.П. Функция притчи (опыт типологического исследования: «Три смерти» JI.H. Толстого и «Как помирал старик» В.М. Шукшина//В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. 1992. С. 65-67.
275. Хонг Сан У. Художественные образы В.М Шукшина в свете концепции человеческой жизни как «дороги» // «.Горький, мучительный талант». Барнаул, 2000. С. 83-101.
276. Хоц А.Н. Типология «странного» в художественной системе «Преступления и наказания» // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. X. СПб., 1992. С. 30-41.
277. Христианство. Словарь. М., 1994. 559 с.
278. Хромушина С.А. Рассказ В.М. Шукшина «Охота жить» (К вопросу о традициях Ф.М. Достоевского) // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1994. С. 70-72.
279. Цветов Г.А. Литературная судьба шукшинских «чудиков» // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 67-69.
280. Цветов Г.А. Опередивший время // В.М. Шукшин: Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 47-49.
281. Цветова Н.С. Концепция «настоящего человека» в рассказах В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1992. С. 33-35.
282. Чернова Н.В. «Господин Зимовейкин» в диалогах с господином Прохарчиным // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. XIV. СПб., 1997. С. 96-107.
283. Черносвитов Е. Народные характеры Шукшина: О «чудиках», чудачестве и русской традиции в произведениях Шукшина // Наш современник. 1988. №12. С.179-185.
284. Черносвитов Е.В. Духовность и народность в мироощущении шукшинских героев // Творчество В.М. Шукшина: Проблемы, поэтика, стиль. Барнаул, 1991. С. 5-27.
285. Черносвитов Е.В. К истокам русской духовности. Шукшин, Есенин // Культурное наследие Алтая. Барнаул, 1992. С. 79-81.
286. Черносвитов Е.В. Пройти по краю. М., 1989. 237 с.
287. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. М., 1967. 303 с.
288. Чувакин А.А. Тип диалога как фактор композиционно-речевой структуры рассказов В.М Шукшина // В.М Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 83-85.
289. Шарден Ф. Роман Светотени: «Идиот» Достоевского // Новые зарубежные исследования о Достоевском. Реферативный сборник. М., 1982. С. 84-93.
290. Шкловский В.Б. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1974.
291. Шрейдер Ю. Предисловие редактора перевода // Ги де Маллак. Мудрость Льва Толстого. М., 1995. С. 6-10.
292. Штайн К.Э. К вопросу о диалоге «непонимания» в рассказах В.М. Шукшина // В.М Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1989. С. 89-91.
293. Шукшин В.М. Беседы при ясной луне. Рассказы. М., 1974.319 с.
294. Шукшин В.М. Вопросы самому себе. М., 1981. 256 с.
295. Шукшин В.М. Земляки. Рассказы. М., 1970. 208 с.
296. Шукшин В.М. Киноповести. Повести. Барнаул, 1986.496 с.
297. Шукшин В.М. Любавины: Роман. Книга вторая. Рассказы. Барнаул, 1988. 384 с.
298. Шукшин В.М. Любавины: Роман. Книга первая. Сельские жители: Ранние рассказы. Барнаул, 1987. 463 с.
299. Шукшин В.М. Нравственность есть Правда. М., 1979. 352 с.
300. Шукшин В.М. Рассказы. Барнаул, 1989. 592 с.
301. Шукшин В.М. Сельские жители. М., 1963. 191 с.
302. Шукшин В.М. Слово о «малой родине». М., 1989. 63 с.
303. Шукшин В.М. Собр. соч.: В 3-х т. М., 1984-1985.
304. Шукшин В.М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1992-1993. Т. I-III.
305. Шукшин В.М. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1998.
306. Шукшин В.М. Сцена в ночном клубе. Сцена в лагере (фрагменты сценария фильма «Венский лес») // А.С. Пушкин и В.М. Шукшин. Проблемы национального самосознания. Барнаул, 2000. С. 9-23.
307. Шукшин В.М. Там, вдали. Рассказы, повесть. М., 1968.344 с.
308. Шукшин В.М. Характеры: Рассказы. М., 1973. 222 с.
309. Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю. Публицистика. Барнаул, 1991.512 с.
310. Шукшинские чтения: Творчество В.М. Шукшина в современном мире. Барнаул, 2001. 104 с.
311. Щенников Г.К. Достоевсковедение сегодня: смена исследовательской парадигмы // Дергачевские чтения 2000: В 2 частях. Екатеринбург, 2001. Ч. 1. С. 254-257.
312. Щенников Г.К. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» как явление национального самосознания. Челябинск, 1996. 192 с.
313. Щенников Г.К. Художественное мышление Ф.М. Достоевского. Свердловск, 1978. 176 с.
314. Щербатых Ю. Искусство обмана. М., 2000. 544 с.
315. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960.296 с.
316. Экман Пол. Психология лжи. СПб., 2000. 272 с.
317. Эшельман Р. Эпистемология застоя. О постмодернистской прозе В. Шукшина // Russian literature. XXXV (1994) / North-Holland. С. 67-91.
318. Юдалевич Б. Несказанный свет // Алтай. 1979. №3. С. 63-68.