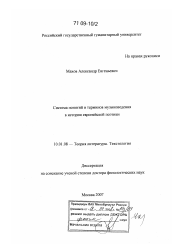автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.08
диссертация на тему: Система понятий и терминов музыковедения в истории европейской поэтики
Полный текст автореферата диссертации по теме "Система понятий и терминов музыковедения в истории европейской поэтики"
На правах рукописи
Махов Александр Евгеньевич
Система понятий и терминов музыковедения в истории европейской поэтики
Специальность 10.01.08 - Теория литературы. Текстология
Автореферат диссертации на соискание ученой степени Л о кто па йилологических наук
ООЗиЬ4«3х
" Москва -"2007
003064851
Работа выполнена на кафедре теоретической и исторической поэтики Российского государственного гуманитарного университета
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, доцент Доманский Юрий Викторович доктор филологических наук, профессор Косйков Георгий Константинович доктор филологических наук, профессор Рымарь Николай Тимофеевич
Ведущая организация:
Институт мировой литературы имени A.M. Горького Российской Академии наук
Защита состоится года часов на заседании диссер-
тационного совета Д 212.198.04 в Российском государственном гуманитарном университете по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., б.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного гуманитарного университета.
Автореферат разослан * года
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент В.Я. Малкина
Общая характеристика работы
В диссертации рассматривается функционирование музыкальных терминов и понятий в европейских поэтологических текстах. На протяжении всей своей истории поэтика обращалась к музыкальной терминологии для решения собственных задач: в формулировках представлений об устройстве и назначении словесного произведения, о системе родов и жанров в той или иной мере использовались аналогии с музыкой. Многих поэтологи, воспринимавшие музыку как область моделей, на которые литературе в некоторой степени надлежало ориентироваться, полагали, что словесное произведение, не сливаясь с музыкой, должно было развить в себе собственную музыкальность, стать «другой музыкой» («l'autre musique»), по определению Эсташа Дешана (14 в.) В исследовании анализируются общие принципы взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных категорий, описывается эволюция представлений о словесном произведении как «другой музыке», выявляются основные концепции словесной музыкальности.
Актуальность темы исследования. Использование в современном литературоведении музыковедческих терминов для обозначения словесных явлений — давняя практика, восходящая к античной поэтике. Однако представление о соотношении словесного и музыкального в современном литературоведении основано на двух проблематичных посылках: 1) музыкальная форма - внеисторическая данность, некая идеальная структура, которая может воплощаться в произведениях различных эпох; 2) музыкальная форма может находить непосредственное воплощение в словесном произведении. Практика некритического, неотрефлексированного - ни теоретически, ни исторически - использования в литературоведении музыкальных терминов свидетельствует о том, что сама проблема соотношения поэтики и музыкознания остро нуждается в историко-теоретическом осмыслении. Такое осмысление и предлагается в настоящей работе.
Цель работы состоит в том, чтобы реконструировать механизм взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и идей и проследить исторический процесс этого взаимодействия, который привел к современному состоянию данной проблемы. Исследование, таким образом, имеет теоретический аспект, поскольку в нем реконструируется система факторов, которая обеспечивала и обеспечивает взаимодействие между поэтикой и представлениями о музыке; но оно имеет и исторический аспект, поскольку это взаимодействие показано в его диахронном развертывании.
Новизна работы определяется двумя моментами. Во-первых, в ней впервые выделен в качестве предмета исследования сам процесс взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и терминов: не предлагая собственных аналогий между музыкой и словом, автор делает предметом теоретической рефлексии поэтологический механизм, порождающий подобные аналогии. Во-вторых, феномен функционирования изначально музыкальных понятий в качестве поэтологических метафор впервые рассмотрен в широкой исторической перспективе, определены особенности, отличающие применение музыкальных терминов в поэтологических системах разных эпох - античности, Средневековья, Ренессанса, барокко, романтизма.
Объектом исследования служат поэтологические тексты (от античности до 20 века включительно), в которых устройство и назначение словесного произведения истолковано посредством музыкальных терминов и понятий.
Методологическая основа исследования. В настоящей работе использованы результаты двух направлений литературоведческих исследований: с одной стороны, это междисциплинарные (или, как их принято называть в последние годы, «интермедиальные») работы по проблеме соотношения музыки и словесности (труды А. В. Михайлова, В. Н. Холоповой, Д. М. Магомедовой, О. Людвига, О. Вальцеля, В. Виоры, В. Флемминга, И. Миттенцвая, К. Брауна, С. П. Шера, Дж. Уинна, В. Вольфа, Ж.-Л. Купера, Дж. Фетцера, X. Фрике, X. Кронеса и др.); с другой, - работы по истории поэтики и риторики, в кото-
рых так или иначе затрагивается вопрос об использовании в них музыкальных понятий (монографии и статьи К. Берри, С. Бернар, К. Борински, А. Бука, С. Лемпицкого, К. Шерпе, X. Пейера, Ф. Клодона, К. К. Гринфилд, С. К. Хенинге-ра-младшего, Э. Каллхед и др.). В работах первого направления во второй половине 20 в. было выработано важное для настоящего исследования представление об интенсивном взаимообмене терминами между музыкознанием и теорией словесности; в ходе этого взаимообмена музыкальные термины теряли свое «буквальное» значение и превращались в метафоры, наделенные новыми, поэтологическими смыслами. Работы второго направления показали значимость музыкальной терминологии в истории поэтики.
Практическое значение работы. Материалы диссертации могут быть использованы в курсах и учебных пособиях по теории литературы, истории поэтики, эстетике; в специальных междисциплинарных курсах по теме взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусств, прежде всего литературы и музыки.
Апробация. Основные положения работы изложены в двух авторских монографиях («Ранний романтизм в поисках музыки». — М., 1993. 128 е.; «Música literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике». — М„ 2005. 224 е.), в публикациях в журналах «Музыкальная академия», «Российский литературоведческий журнал», «Вопросы литературы»; сборниках «Наука о литературе в XX веке (История, методология, литературный процесс)» (ИНИОН РАН), «Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры» (Гос. институт искусствознания), «Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах» и др. Отдельные идеи работы излагались в 1994-2006 гг. на конференциях и семинарах в ИМЛИ, ИНИОН РАН, МГУ, Гос. институте искусствознания, РГГУ, Государственном республиканском центре русского фольклора, Тверском государственном университете и др. Основные положения диссертации легли в основу статей в энциклопедиях, подготовленных на базе ИНИОН РАН: «Литературная энциклопедия терминов
и понятий» и «Западное литературоведение XX века». Работы по теме диссертации включены в ряд учебных программ (в т. ч. курс «Введение в музыкальные культуры мира» кафедры Теории и истории культуры Российского университета Дружбы Народов; курсы «История мировой культуры», «История зарубежной литературы первой половины XIX века» Института высших гуманитарных исследований РГГУ; курс «История культурологии» кафедры теории и истории культуры РГГУ).
Содержание работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения.
Во введении дается очерк истории вопроса: рассматриваются как междисциплинарные исследования литературно-музыкальных связей, так и работы по истории риторики и поэтики, обращающиеся к теме «поэтика и музыка». На протяжении 19-20 вв. интермедиальные исследования в целом эволюционировали от «наивного» отождествления музыкальных и словесных форм, обусловленного верой в единство принципов формообразования во всех искусствах (работы О. Людвига, О. Вальцеля, В. Флемминга и др.) к осознанию опосредованного характера «словесной музыки» (К. Браун, С. П. Шер, Ж.-Л. Купер, В. Вольф). К концу 20 в. утвердилось мнение, что музыку и словесность связывают не отношения статичного сходства, но взаимообмен терминами и понятиями; этот вывод подтверждают и работы по истории поэтики и риторики, обнаруживающие в теоретических текстах различных эпох пласт музыкальной терминологии.
В первой главе выявляются общие принципы взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных категорий. Представление о том, что слово обладает некой особой музыкой, которая нетождественная музыке звуковысот-но фиксированных тонов, имеет глубокие исторические корни. Оно появилось сразу же, как только стал уходить в прошлое синкретизм античной то1шкс с ее единством «слова, гармонии и ритма», как только началось осознание принци-
пиального различия между музыкой и словом. Утраченное единство сменилось отношением аналогии; разделившись, музыка и слово тут же устремились друг к другу, наталкиваясь, однако, на раз и навсегда возникшую «недоступную черту». Начальное для нашей темы событие (в исторической перспективе, разумеется, представлявшее собой длительный процесс) - событие разделения музыки и слова и, одновременно, их устремления друг другу, — отражено в трактате «О расположении слов» Дионисия Галикарнасского. Дионисий понимает речь как своего рода «мелодию»; при этом он отличает мелодичность речи от мелодии музыкальной. Так совершается первый перенос музыкальной категории в область словесного искусства: «мелодичное» отличено от собственно «мелодии» и осмыслено уже не как свойство музыки и не как момент синкретического единства музыки и слова, но как собственное свойство слова, свидетельствующее о его способности быть «другой музыкой».
Практику перенесения музыкальных категорий в область поэтики нельзя интерпретировать как свидетельство прямого влияния музыки на словесность. Поэтика всегда взаимодействовала не с музыкой как непосредственной звуковой реальностью, но с комплексом музыкальных категорий и отвлеченно-умозрительных идей о музыке, которые в европейской культуре появились благодаря философским спекуляциям пифагорейцев. Комплекс же идей о музыке в своей эволюции не зависел напрямую от истории собственно музыки, развиваясь вполне автономно. Пифагорейское учение о музыке сфер, «музыка природы» сентиментализма и романтизма и иные подобные им идеи музыкантами-профессионалами нередко воспринимались с откровенной иронией, как словесные фикции, не имеющие никакого отношения к музыке. Особо выразительный пример расхождения между музыкой и идеями о музыке дает рубеж ХУШ-Х1Х веков, когда в словесной культуре романтизма широкое распространение получила метафора музыки как неструктурированного, изменчивого потока, в то время как реальная музыка этой эпохи тяготела к обратному: строгой логике синтаксиса, ясной и симметричной формальной структуре. ,,
Комплекс идей о музыке, который занимает промежуточную область между поэтикой и собственно музыкой, мы определяем термином «трансмузыкальное», введенным немецким музыковедом В. Виорой. Отмечая, что слово «музыка» со времен античности нередко «применялось к тому, что имело лишь смутное сходство с музыкой, и использовалось как метафора», Виора называет «трансмузыкальным» круг представлений, связанных с таким расширенным значением слова «музыка». Можно выделить три основные идеи, составляющие основу всей трансмузыкальной сферы. Музыка в своей космической ипостаси («музыка сфер», música mundana, в терминологии основополагающего для европейской философии музыки трактата Боэция) - это принцип архитектоники, структурного устройства: она обуславливает устроенность космоса — внешнего мира; гармоническая устроенность словесного произведения - отражение этой музыкально-космической гармонии. Но наряду с музыкой сфер существует еще и человеческая музыка (música humana) - отражение не внешней стройности космоса, но внутренней, цельной и неделимой сути человека; в этой своей ипостаси музыка - выражение внутреннего мира, а в предельном случае (у романтиков) - она и его содержание, ибо для романтиков человеческая субъективность по сути своей музыкальна. И наконец, музыка -принцип, лежащий в основе всех искусств. «Без музыки ни одна наука не может быть совершенной; ничто не может существовать без музыки (sine música nulla disciplina potest esse perfecta, nihil enim est sine ilia)», - эта сентенция стала общим местом средневековых трактатов и в различных обличиях продолжала существовать в новейшее время.
Через область трансмузыкального между музыкальным и словесным шел постоянный понятийный взаимообмен. С одной стороны, музыка притягивала на свою орбиту термины грамматики, риторики и других наук о слове. С другой стороны, сама музыка, так или иначе понимаемая, становится моделью и для формы словесного произведения, и для его содержания. Таким образом, взаимодействие между поэтикой и комплексом идей о музыке можно предста-
вить как сосуществование двух понятийных потоков: от слова к музыке и от музыки к слову.
От слова к музыке. Освободившись от единства со словом (и тем самым от подчинения ему), музыка сразу же вступила с ним в отношения аналогии: устройство музыки трактовалось как сходное с устройством словесного произведения. Будучи, с одной стороны, «наукой о величинах» и попадая в квадри-вий вместе с арифметикой, геометрией и астрономией, музыка, с другой стороны, ассоциируется и с грамматикой, поскольку звуки речи трактовались как «дискретные», прерывные величины, различаясь по долготе. Общая аналогия между музыкой и грамматикой порождает в музыковедческих трактатах целый ряд детальных аналогий (сходство музыкальных тонов и букв алфавита, и т. п.).
Импорт в музыку грамматических категорий продолжится и много позднее: так, Иоахим Бурмейстер на рубеже XVI-XVII веков впервые применит к музыкальному «предложению» грамматическое понятие синтаксиса. Однако аналогии с грамматикой постепенно вытесняются аналогиями с риторикой: влияние риторики на музыкознание, начавшееся уже в эпоху Средневековья (в середине XIII века музыкознание усваивает термин color, обозначающий украшение, а в узком смысле - фигуру повтора), достигает кульминации в эпоху барокко, проделавшую грандиозную работу по переводу всей системы музыкальной техники на язык риторики. В риторических категориях осмыслялись и отдельные музыкальные «фигуры», и композиция музыкального произведения как целого: музыка была осознана как воссоздание самой структуры ораторской речи. К концу XVIII века модель музыки как «ученой» речи, построенной по всем правилам риторики, устаревает, однако общее представление о том, что музыка по-своему «говорит», укореняется - и это представление связывается отнюдь не только с вокальной, но и с инструментальной музыкой: по выражению Иоганна Маттезона, инструментальная музыка - «музыкальная речь» (Klang-Rede oder Ton-Sprache), инструменты одни, без человеческого голоса, «как бы производят понятную речь».
Если музыкальное звучание - речь, то должно существовать и мышление в звуках, обладающее своей «логикой»; музыка должна быть осознана как «особая форма мысли»1. Слова Л. Тика о том, что в музыке «человек мыслит, не делая утомительного обходного пути через слово», показывают, как уже ранний романтизм доводит аналогию «музыка-мысль» до парадоксального вывода: «музыкальная речь» выражает мышление в известном смысле более совершенное, чем мышление в словах. Эта идея впоследствии найдет углубленную разработку в музыкальной эстетике и философии музыки (Э. Ганслик, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Т. Адорно).
Таким образом, история импорта в музыкознание словесных категорий предстает в виде трех этапов, каждому из которых соответствует ключевая аналогия: 1) музыка - язык, описываемый грамматикой; 2) музыка - «украшенная речь», описываемая риторикой; 3) музыка - мышление, причем качественно «другое», более быстрое и совершенное, чем мышление посредством слова.
В обратном движении - от музыки к слову - можно различить две понятийных группы, соответствующих двум представлениям о словесной музыке, которая осмысляется либо как отражение внешней устроенности космоса, либо как выражение внутреннего - «нрава», «души», «субъективности» и т. п. Представление о музыке как принципе архитектонического устройства обнаруживает себя уже в упомянутом выше трактате Дионисия Галикарнасского, где «мелодичность» трактуется как один из организующих моментов ораторской речи. Трактат «О возвышенном» Псевдо-Лонгина определяет композицию как «некую гармонию слов», явно имея в виду аналогию с «гармонией» музыкальной мелодии. Музыка, уже осознаваемая как нечто автономное и отличное от словесного, все же сохраняется в словесном на правах некоего композиционного принципа: слова, будучи связанными «гармонично», «как звуки в мелодии»,
1 Михайлов А. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века // Музыкальная эстетика Германии XIX века - М., 1981. — Т. 1. — С. 60.
обладают над слушателем особой властью, которая превосходит власть рациональной аргументации.
Итак, первый, еще в античности совершившийся перенос понятий от музыки к слову породил идею мелодичного/гармоничного устройства словесного произведения. Музыка слова - это небесная, космическая гармония, как бы извне сошедшая в словесное произведение. Эпоха Средневековья разделяла эту идею: так, для Роберта Килуордби (трактат «О возникновении наук», ок. 1250) «речь, в той мере, в какой она определяется [категорией] количества, принадлежит к гармонии (ad harmonicum) и есть не что иное, как некое число гармонически соединенных звуков, будь то звуки песен, звучание букв в слогах, звуки в стихотворных стопах и метрах». Понимание музыки слова как некой архитектоники развито в поэтике Ренессанса; позднее - в предромантизме и романтизме - оно будет вытеснено иными идеями, но затем обретет новую жизнь -прежде всего в поэтологической концепции Стефана Малларме, понявшего музыку как интеллектуальный, свободный от звуковой чувственности «ритм соотношений», которым должно быть пронизано словесное произведение.
В эпоху античности возникает и иной род музыкальных метафор: музыкальные термины становятся обозначениями внутренних, душевных процессов и состояний. Так, уже для Платона «рассудительность ... походит на некое созвучие и гармонию» («Государство», 4, 430е) и т. п. У Платона музыкальность души пока еще не отличается от музыкальности-гармоничности космоса: и та, и другая воплощают принцип устроенности, слаженности, который одинаков и для внешнего (космоса), и для внутреннего (человеческой души).
В эпоху Средневековья перенос музыкальных понятий в область внутреннего-духовного приобретает систематический характер: в экзегетике практически все музыкальные реалии, упомянутые в Священном Писании, были осмыслены как аллегорические именования духовных сущностей и событий. Наделение музыкальных терминов аллегорическим смыслом позволило понять весь духовный уклад sub specie musicae. При этом музыка человеческой души
для средневековых авторов уже не столь космична, сколь моральна: она теперь не образ космической устроенности, как это было у Платона, но выражение «добродетели», качества чисто человеческого. У музыки души, человеческой музыки появляется новый особый источник - праведность христианина; и хотя средневековые авторы продолжают повторять общие места о música mundana, заимствованные из Боэция, очевидно, что música humana для них теперь гораздо важней. У некоторых авторов, например, у Хильдегарды Бингенской, «музыка космоса» становится чем-то вторичным, производным от музыки души: «небесная симфония» интериоризируется, звучит отныне из души человека.
Так открывается путь к словесному воссозданию субъективного опыта как музыкального феномена. Однако если для Средневековья музыкальность души все-таки чаще всего остается не более чем аллегорией, то романтизм воспринимает эти идею вполне буквально, всерьез: музыкальное - уже не словесное одеяние душевного опыта; оно и есть сам душевный опыт, подлежащий воссозданию в слове; музыкальное входит в слово изнутри, из глубин души.
Во второй главе определяется общий характер эволюции представлений о словесной музыке. Топос «поэзия — это музыка» на протяжении многих веков почти полностью сохранял внешнюю неизменность: утверждения, что тот или иной писатель является музыкантом, а его произведения — музыкой, встречаются у различных авторов в очень сходной форме. Однако, несмотря на внешнюю статичность топоса, его смысл в ходе истории поэтики неоднократно менялся на противоположный, поскольку радикально менялось само понимание сущности музыки. Можно выделить по крайней мере три оппозиции, оба полюса которых в ходе истории поэтики на том или ином ее этапе ассоциировались с «музыкальным».
Первая из них - естественное/искусственное. Для поэтики Ренессанса словесная музыка - «естественна», в то время как собственно музыка - искусственна и «искусна». Уже Эсташ Дешан в трактате «Искусство сочинять и делать песни...» (1392) определяет то, что мы сейчас называем поэзией, как
«естественную музыку» (musique naturele), в отличие от «искусственной музыки» (musique artificiele). Поэтика предромантической и романтической эпох переворачивает это соотношение: музыка - и есть самая естественная речь, собственно же слово - искусственно, вторично; музыка теперь воплощает не высшее «искусство», вообще не принцип «искусности», но саму естественность, непосредственность в выражении чувства.
Вторая оппозиция - космическое / человеческое, или, формулируя иначе, — внешнее-мировое / внутреннее-личное. Для ренессансной поэтики музыкальность никак не связана с «душой», с «субъективностью» поэта - она отражала космическую гармонию, музыку сфер. Следуя за Боэцием, предлагавшим искать música mundana «в том, что находится на небе», ренессансные теоретики словесности вводят в свои трактаты сопряженный с музыкой мотив космоса. Колуччо Салутати определяет «поэтическое искусство» как «некое возвышенное небо, заключающее в себе согласие всех тех музыкальных гармоний, которые платоники приписывали небу или небесным сферам»; Ф. Сидни называет поэзию «планетоподобной музыкой» (planet-like music of poetry). Гармония, став принципом поэтики, остается космичной — космосом, сошедшим в поэзию, или поэзией, устремившейся к космосу. Предромантизм и романтизм, напротив, интериоризируют «словесную музыку», помещая ее в глубину человеческой души: музыкальное из внешне-космического превращается во внутренне-человеческое. Формула «поэзия - это музыка» получает характерное уточнение «поэзия - это музыка души»; этот новый вариант формулы впервые появляется, видимо, у И. Г. Гердера. У романтиков музыкальность поэзии отражает музыкальную основу человеческого сознания, которую и пытается выявить в своих фрагментах Новалис.
Третья оппозиция - структурное-архитектоническое / аструктур-ное-текучее. Для поэтики Ренессанса, не отказавшейся от средневекового представления о музыке как науке чисел, музыкальность словесного произведения обнаруживается в числовых пропорциях, возникающих между «частями»
(стопами) стиха. Таким образом понятая словесная музыка предполагает прежде всего симметричность, упорядоченность, пропорциональность. Предроман-тическая эпоха приносит новые идеи: музыкальное противопоставляется «логическому» — сначала Ф. Шиллером, отличившим (в статье «О стихотворениях Маттисона», 1794) «музыкальную установку от логической», затем Новалисом, определившим «волшебный романтический порядок» словесного произведения как господство акцентов «не логических, но (метрических) и мелодических». Новое ключевое определение музыкального как «струящегося потока» - в противовес прежнему определению музыки слова как «пропорциональности» -предлагает В. Г. Вакенродер («Особенная внутренняя сущность музыки»); а самую лаконичную формулировку совершившегося сдвига дает У. Хезлитт: поэзия, отражая в себе «музыку души», «описывает текучее, а не застывшее (flowing, not the fixed)».
Оппозиции космического / душевного, с одной стороны, и архитектонически-стройного / аструктурно-текучего, с другой, обнаруживают определенную корреляцию. «Музыка космоса» открывает себя в словесном произведении архитектонически, как систему пропорций (не случайно понятие пропорции становится одним из центральных в поэтике Дж. Патнема); «музыка души», напротив, проявляется как изменчивый поток настроений, как беспредельная текучесть.
В третьей главе выявляются и детально реконструируются две основные концепции «словесной музыки». Первый раздел третьей главы посвящен концепции словесного произведения как музыкально устроенного космоса. Эта идея в эпоху античности и Ренессанса претворялась главным образом в понятиях мелодии и гармонии, а с 19 века — ив терминах конкретных музыкальных форм, которые фиктивно «переносились» в литературу (словесные фуги, сонаты, симфонии и т. п.), но свидетельствовали лишь о готовности по-прежнему видеть в музыке область идеальных форм, ту область космической упорядоченности (música mundana), к которой словесность желала бы приоб-
щиться. Словесность по-своему ассимилирует и идею полифонии, воссоздавая собственными средствами музыкальное «согласие несогласного» и одновременность различного.
Мелодия как соотношение тонов фиксированной высоты - исключительная принадлежность музыки: ведь звуки речи не обладают точной высотой тона. Именно здесь, казалось бы, и пролегает одна из «недоступных черт» между словесностью и музыкой. Тем не менее идея, что существует особая мелодия слов, что звуки, слова и даже образы поэзии складываются в мелодию, — одна из древнейших в сфере словесной музыки. Уже у Дионисия Галикарнасского «мелодия» (тЫоя), понятая как словесное явление, фигурирует среди необходимых моментов «приятной и красивой речи», доставляющих «наслаждение слуху»; мелодия речи - такое «сплетение букв» и такой «склад слогов», при которых достигается, во-первых, соответствие речи «возбуждаемым чувствам», а во-вторых, «многообразность и красота» речи. Дионисий далек от того, чтобы понимать мелодию речи как точное расположение тонов и тем самым отождествлять ее с мелодией музыкальной; по природе своей - это уже совсем иная мелодия, сохраняющая, однако, с музыкой одно общее свойство - способность услаждать слух.
Попытку не только применить к поэзии понятие мелодии, но и придать ему вполне точный смысл предпринимает в начале XV столетия Колуччо Салу-тати. Чтобы найти «мелодию» в стихе, он проводит параллели между поэтическим метром и музыкальными интервалами: «слоги» и «стопы» уподобляются «тонам» и «нотам», соотношения частей строки по числу слогов и содержащихся в слогах и стопах мор подобны интервалам, какие возникают между «тонами» музыки. Такова, пожалуй, первая «научная» попытка доказать, что поэзия располагает своей точно фиксируемой мелодией. Во второй половине XVIII века подобные опыты возобновляются с развитием фонетики, но имеют уже иной характер: объектом применения становится не поэзия, но устная речь, а вдохновляющей идеей - концепция изначальной музыкальности речи. Джо-
шуа Стил в книге «Опыт по установлению мелодии и меры речи» (1775) пытается фиксировать точную высоту, длительность, динамику звуков речи, используя особую систему знаков; он, в частности, записывает «мелодию» декламации Д. Гарриком монолога «Быть или не быть...». К. Г. Шохер в книге «Должна ли речь навсегда остаться скрытым пением...» (1791) расположил гласные звуки как музыкальный звукоряд и впервые попытался записать декламацию нотами.
Поэтика этого периода, независимо от подобных опытов, по-своему осмысляет мелодию слова. Гердер, определяя поэзию как «музыку души», уточняет: музыка - не в отдельных словах; именно «в самой последовательности слов преимущественно и возникает и проявляет себя мелодия образов и тонов». Мелодия понята Гердером как особая - надлогическая и надсинтаксическая -связь элементов словесного произведения; обоснование числовой (как у Ко-луччо) или акустико-тоновой (как у фонетистов Стила и Шохера) аналогии между словесной и музыкальной мелодиями Гердера нисколько не занимает. Он разрабатывает мысль, восходящую еще к Дионисию: мелодия - такой тип связи слов, при котором слова взаимодействуют между собой не в силу своей логико-синтаксической соподчиненности, но иначе - перекликаются звуками, оттенками смыслов, оставляя друг в друге «след» и образуя особую линию, для обозначения которой нет иного слова, кроме «мелодии».
Это понимание словесной мелодии усваивается романтической и постромантической поэтикой. Новалис в «мелодии стиля» усматривает «духовное единство и истинную душу книги»; у символистов слова, свободные от рациональной взаимосвязанности - «высвобожденные из эксплицитных структур»2, вступают в отношения высшего, надлогического порядка - и такой порядок символисты называют «музыкальным». Если в музыке даны, по словам С. Малларме, «модель моделей, тип музыкальной архитектуры, применимый ко
3 Кеппег Н. ТЬе Роипа Ега. - Ь., 1972. — Р. 125.
всем искусствам»3, то в поэзии эта «архитектура» достигается не соблюдением числовых пропорций (как думали ренессансные теоретики), но таким расположением слов, которое не определяется ни логикой, ни синтаксисом, ни даже единством произносящего субъекта: «чистое произведение» предполагает исчезновение поэта, «уступающего инициативу словам» (С. Малларме). Мелодия стиха - это инобытие синтаксиса: иная, не лингвистическая, а эстетическая форма соединения слов, которая для ренессансных теоретиков просто «ласкает слух», а в представлениях символизма - заставляет слова «загораться взаимными отсветами» (Малларме, «Кризис стиха»). Мелодия слова в таком понимании - «цепь», если воспользоваться гердеровским словом, всех возможных внесинтаксических соотношений звуков и смыслов. К такому пониманию словесной мелодии близки и рассуждения Томаса Элиота в лекции «Музыка поэзии» (1942). Музыка слова для него сосредоточена «в точке пересечения», она возникает на пересечении двух «отношений»: отношения слова к другим словам того же контекста (как к ближайшим, рядом стоящим словам, так и ко всему контексту в целом) и отношения «непосредственного значения слова в данном контексте ко всем другим его значениям в других контекстах».
В недрах античной риторики вызревает идея, что слова в речи должны быть соединены гармонично; аналогии с музыкой свидетельствуют, что имеется в виду именно музыкальная гармония. Псевдо-Лонгин в трактате «О возвышенном» (гл. XXXIX) определяет удачное соединение слов как их «гармонию», посредством которой оратор заставляет слушателя сопереживать ему. Данте называет поэтов, сочинителей канцон, armonizantes verba - «те, кто гармонично соединяют слова»; сама же канцона состоит из verba armonizata - красиво согласованных, «гармонизированных» слов («О народном красноречии», II, 8, 5-6). Мотив гармонии фигурирует почти как общее место и в ренессансных риториках и поэтиках: так, Бернардино Томитано в «Рассуждениях о тос-
3 Слова из разговора с Лораном Тайадом на концерте, где исполнялась 9 симфония Бетховена; воспроизведены в мемуарах: Tailhade L. Quelques fantômes de jadis... - P., 1920. — P. 146.
канском диалекте» (1545) говорит о пяти частях риторики как о «пяти струнах, из которых оратор составляет ровнейшую гармонию».
Представление о «гармонии» словесной композиции фактически сводится к двум моментам. Прежде всего, гармония понимается как «сила», позволяющая оратору (или писателю) заставлять слушателя/читателя погружаться в те или иные эмоциональные состояния: «чувствовать силу гармонии» - значит переживать некое насильственное воздействие (здесь трудно не вспомнить идею Боэция о невозможности для человека избежать воздействия музыки, «даже если бы мы этого и хотели»). Этот мотив появляется уже в трактате Псевдо-Лонгина: подобно тому как звуки авлоса «внушают слушателям некие страсти», так и гармоничное расположение слов «вводит страсть, испытываемую говорящим, в душу другого», принуждая слушателей к «участию» (гл. XXXIX).
Речь, таким образом, может воздействовать двояко: логикой рациональных аргументов и музыкальной «силой гармонии»; она может убеждать - но может и обольщать, и это второе свойство связано именно с ее музыкальной стороной. Характерному топосу средневековых музыкальных трактатов - перечислению удивительных воздействий музыки на душу (она «вызывает различные состояния чувств» - «воспламеняет сражающихся», «облегчает душу труждающихся», «успокаивает возбужденные души» и т. д.), соответствуют аналогичные перечисления сходных чудесных воздействий риторики: она «движением языка умеет доставлять смятенным - мир, а мирным - смятение, веселых заставляет плакать, печальных - веселиться (laetos in lacrymas, tristes in laeta ciebat)», - говорит о риторике Бальдерик Бургейльский (конец XI - начало XII вв.).
Идея об особой «силе» речи, обусловленной гармоническим расположением слов, переходит и в поэтологические трактаты XV-XVII веков. У Колуччо Салутати поэзия не просто содержит в себе некую «сладостность» (dulcedo), но и не может ее не содержать — в этой «сладостности» есть нечто принудитель-
ное. При этом «сладостность» гармонического расположения достигается не в последнюю очередь благодаря риторическим фигурам. Дж. Патнем именно в разделе о фигурах излагает концепцию гармоничной/мелодичной речи, причем словесная гармония у него, как и у Псевдо-Лонгина, оказывается способом некоего насильственного воздействия на душу слушателя или читателя, а сам оратор/поэт, по справедливому замечанию Дж. А. Уинна, превращается у Пат-нема «в своего рода обольстителя»4.
Второй момент, определяющий идею словесной гармонии, — понимание ее как числовой пропорции. Эта идея выдает несомненное влияние музыки как «науки о числах». Ренессансная поэтика переносит на слово пифагорейские по своим истокам представления о «музыке сфер» и «небесной гармонии»; правда, эта процедура нередко сопровождается (например, у Дж. Патнема и Т. Кемпиона) явной или неявной ссылкой на «Книгу Премудрости Соломона», в которой нашлось вполне пифагорейское по своему духу речение: «Ты все расположил мерою, числом и весом» (11, 21). Применение к поэзии принципов числовой гармонии мотивировано ее причастностью к «музыке сфер».
В музыкальной полифонии поэтика нашла по крайней мере два момента, воспринятые ею как идеальные модели, заслуживающие воссоздания в слове: полифония умозрительно воспринималась, во-первых, как «согласное» сопряжение «несогласного», конфликтно-противоположного, диссонансного; во-вторых, как сосуществование различного в некой идеальной одновременности.
Поэтологическая рецепция первой из этих моделей тесно переплетена с историей топоса «concordia discors»: словесное и музыкальное начала в этой истории настолько тесно сопряжены, что границу между их сферами провести крайне трудно. Представление о музыке как о «согласии несогласного» сформировалось задолго до появления профессионального многоголосия, в котором этот принцип осуществлен самым непосредственным, очевидным образом.
4 Winn J. A. Unsuspected eloquence. A history of the relations between Poetry and Music. - New Haven; L„ 1981. — P. 162-163.
Чтобы выразить это представление, средневековые авторы заимствуют у древнеримских поэтов формулу «concordia discors» (Овидий, «Метаморфозы», I, 430-433; Лукан, «Фарсалия», I, 98; Гораций, «Послания», кн. I, 12, 19), которая становится общей собственностью музыки и словесности. Средневековый поэт Алан Лилльский в прозиметре «О плаче Природы» (ХП в.) использует античную формулу, чтобы описать музыку как воплощенное concordia discors: звучание музыкальных инструментов - «это согласие несогласного... разлад голосов, один и тот же и одновременно иной».
В полифонической музыке принцип concordia discors (или, что безразлично, discordia concors) проявляется с особой очевидностью, и вполне естественным кажется применение этой формулы в трактатах по теории музыки для описания техники многоголосия. К XVI веку формула становится неким общим местом, выражающим в узком своем значении характер многоголосной музыки, а в широком - сущность одновременно и космической, и музыкальной гармонии: об этом свидетельствует, например, рисунок из трактата Франкино Га-фури «О гармонии музыкальных инструментов» (1518), где автор изображен на профессорской кафедре изрекающим перед слушателями фразу «Harmonía est discordia concors».
В то время как музыка осваивает, под знаком идеи concordia discors, искусство многоголосного «согласно-несогласного» пения, в литературе происходит нечто аналогичное: словесное произведение стремится передать «разноголосицу», несогласие, спор, внутреннее противоречие, снимаемое, тем не менее, в единстве целого, - одним словом, воссоздать concordia discors. Начиная с каролингских времен в поэзии на латинском, а затем и на народных языках чрезвычайное распространение приобретает жанр «спора». Огромное количество поэтических текстов этого рода (определяемые в своих заглавиях как «спор», «конфликт», «диспут», «диалог», «ссора», «битва» и т. п.) в совокупности своей создают впечатление, что весь мир пребывает в состоянии спора и разногласия, во всеохватной discordia. Слово discordia дает имя провансальско-
му и старофранцузскому поэтическому жанру descort, в котором мотив «раздора» воплощался и на тематическом уровне (безответная любовь, разлад в чувствах), и на структурном (строфы различной длины, иногда написанные на разных языках, в одном из дескортов Раймбаута де Вакейраса — на пяти). Многошинным воплощением concordia discors стали политекстовые мотеты Гильома де Машо и других мастеров Ars nova: чисто музыкальная полифония сочеталась здесь с полифонией языковой (в разных голосах одновременно исполнялись тексты на разных языках) и смысловой - нередко весьма смелой (в одном из мотетов латинский текст, славивший св. Екатерину, сочетался с фривольным провансальским текстом в верхнем голосе).
Однако наивысшее выражение принцип discordia concors получил в творчестве английских поэтов метафизической школы. Формула утвердилась в литературоведении как определение их стиля благодаря С. Джонсону, применившему ее к «метафизикам» в негативном смысле: «Остроумие... представляет собой разновидность discordia concors: соединение несходных образов или обнаружение скрытого сходства в очевидно несходных вещах... Самые разнородные идеи насильно привязывались друг к другу...» («Биография Каули»). Придавая формуле discordia concors негативный смысл, Джонсон тем самым бросает вызов риторической традиции: в риториках XVII века остроумие нередко определялось посредством этой формулы как истинный, позитивный принцип словесного искусства. Так, Джон Ньютон («Введение в искусство риторики», 1671) истолковывает остроумие (Sharpness) как «согласное несогласие, или несогласное согласие (an agreeing discord, or a disagreeing concord)».
Возникает ситуация, когда определения музыки в музыковедческих трактатах и остроумия — в трактатах риторических дословно совпадают в формуле concordia discors. Если Атанасиус Кирхер в трактате «Musurgia universalis» (1650) определяет музыку как «discors concordia vel concors discordia variarum rerum...», то теоретик риторики Михаэль Радау дает остроумию следующее определение: «Acumen est concors discordia seu discors concordia». Таким образом,
формула concordia discors становится местом встречи музыки и словесности, и не удивительно, что это происходит в эпоху, ознаменованную в музыке - развитием полифонии свободного стиля, предполагающем индивидуализирован-ность несхожих голосов, а в поэзии — господством принципа остроумия как «соединения несходных образов» (по выражению Джонсона).
Для эстетического сознания этой эпохи диссонанс, разногласие гораздо более интересны, чем итоговое согласие; гармония - будь то гармония поэтического произведения, самой природы или даже всего мироздания - оказывается зависимой от диссонанса. Эту пародоксальную идею английский поэт Дж. Нор-ден сформулировал в сочинении «Лабиринт человеческой жизни» (1614): «Без диссонанса не может быть и гармонии; гармония возникает там, где согласуются противоположности».
Идея конечного согласования, гармонии отступает на второй план и в по-этологических определениях. Так, Т. Блаунт («Академия красноречия», 1654) считает, что поэт должен, «находя согласие в вещах наиболее несходных», «вызывать восхищение слушателей и заставлять их думать, что эта странная гармония и должна быть выражена в таком диссонансе». Словесное произведение воспринимается как воплощение разноголосия, сосуществование взаимо-противоречащего. В поэзии XVI-XVII веков (прежде всего у английских «метафизиков») нагромождение парадоксальных антитез ставит целью передать переживание одновременности различных (обратных) смыслов, одновременное восприятие взаимоисключающих образов. Здесь мы сталкиваемся с тем случаем, когда словесность посредством утонченнейшего искусства пытается присвоить себе то, что для музыки является естественной формой существования.
Литературная техника остроумия — словесная concordia discors — и в самом деле воспринималась современниками как своего рода музыка; в английских поэтологических экскурсах XVII века - как в стихотворных, так и в прозаических - именно в связи с идеей остроумия появляется образ музыки слова. Дж. Мейн в стихотворном панегирике поэту У. Картрайту, определяет идеаль-
ное остроумие как «заостренную музыку (pointed Musick)». Б. Грасиан в трактате «Остроумие и искусство изощренного ума» (1642) описывает типы «острот», остроумных сравнений (concepto) при помощи музыкальных терминов: один из этих типов «состоит в определенной гармонии (armonia)» понятий, другой, напротив, - в их «диссонансе (disonancia)». Традиция соположения остроумия и музыки как родственных начал найдет продолжение и в иенском романтизме: «Остроумие - уже вступление к универсальной музыке» (Ф. Шлегель).
В эпоху романтизма представление о поэтическом/музыкальном произведении как concordia discors сохраняется в модифицированном виде: диссонанс больше не воспринимается как самоценный «эффект», на первый план вновь выступает идеал конечного гармоничного согласования, однако появляется еще один эстетический критерий: музыкант/поэт тем гениальнее, чем больше противоречиво-разнородных «чувств» он умеет «примирить» в пределах одного произведения. В трактовке С. Т. Кольриджа («Biographia literaria») воображение (категория, заменившая в романтической поэтике барочное «остроумие» и взявшая на себя некоторые его функции), эта «синтетическая и магическая сила», «обнаруживает себя в балансе или примирении противоположных или диссонирующих (discordant) качеств».
Использование полифонии в качестве модели идеальной «одновременности различного» облегчалось, по-видимому, тем обстоятельством, что полифония, по всей видимости, сама изначально не была чисто музыкальным и «вне-смысловым» феноменом. Альфред Эйнштейн предположил, что в возникновении средневековой полифонии важную роль сыграли «религиозные и мистические концепции»5. Эту идею подробно развивает Дж. Уинн, считающий, что полифония «сначала была метафорой, попыткой создать музыкальный эквивалент литературной и теологической технике аллегории»: музыканты «заимст-
5 Einstein A. Fictions that have shaped musical history // Einstein A. Essays on music. - N. Y., 1956, —P. 7.
вовали идею соединения двух или более мелодий из литературной концепции аллегории, осознав, что мистическая одновременность ветхозаветных событий и их новозаветных аналогов в музыке может стать реальной одновременностью»6. И здесь словесное настолько тесно переплетено с музыкальным, что корректней говорить о словесной полифонии не как о заимствовании из музыки, но как об общей собственности музыки и словесности.
Соединение мелодий в одновременном звучании могло иллюстрировать соединение образов в едином смысловом пространстве средневековой аллегории: так, ветхозаветная Рахиль не просто обозначала новозаветную Марию -они обе пребывали вместе в смысловой вечности как единое и вместе с тем раздельное - неслитно и неразделимо. Так понятие полифоническое музыкальное мышление можно в известной степени рассматривать как разновидность аллегорического мышления: ведь оно, как и техника аллегорического толкования, направлено на соположение различного в пределах некой одновременности - только одновременности музыкально-звуковой. В соединении со словом музыкальное многоголосие могло создавать не только звуковое, но и смысловое полифоническое пространство. Примером такого музыкально-смыслового полифонического пространства могут служить Пассионы Баха. Смысловая полифония «Страстей по Матфею», как показал Генрих Поос в своем исследовании топоса «креста-славы» (сгих^1опа-1ороз) у Баха7, задана уже в музыкальной символике первых тактов вступительного хора, где прослеживается сплетение двух контрастных мотивов: скорбный нисходящий хроматический ход, носящий в музыкальной риторике название развиБ с1игш5си1и8 («жесткий ход»), символизирует страдания Христа, а восходящий тетрахорд - его вознесение и славу. Полифоническое сплетение мотивов в музыке и такое же сплетение противоположно-контрастных идей в тексте Пикандера сообща преследуют одну
6 Winn J. A. Op. cit. P. 87-88, 75.
7 Poos H. Kreuz und Krone sind verbunden: Sinnbild und Bildsinn in geistlichen Vokalwerk J. S. Bachs. Eine ikonografische Studie // Musik-Konzepte. H. 50/51. - München, 1986.
цель - выразить одновременную истинность противостоящих идей: страдания Христа - то же, что наше исцеление; его смерть - наша жизнь; его уничижение вместе с тем — его слава; терновый венец - та же корона и т. п. Помимо музыкальной одновременности - звучания различных поющих и играющих голосов, и «семантической» одновременности - соприсутствия противоположных смыслов, в Пассионах есть еще один вид одновременности — пребывание в едином музыкально-смысловом пространстве личностных голосов, собранных в этом музыкальном «сейчас» из различных времен (в этом смысле «Страсти» во многом наследуют богословскую аллегорическую технику, также направленную на создание такой мистической одновременности). Рядом с непосредственными участниками событий - Христом, Пилатом и др. — здесь присутствует и свидетель-евангелист, уже отделенный от происходящего некой временной дистанцией; сюда же - в хоралах и ариях - как бы включены и современники Баха, переживающие события из многовековой перспективы (обозначаемые в тексте формой «мы»), и, наконец, некая вневременная, исторически далекая от Христа, но внутренне предельно близкая ему «душа» (в тексте Страстей - «я»). Планы этой трансвременной структуры находятся, благодаря музыке, в постоянном взаимодействии: здесь все существуют в идеальной одновременности, все видят друг друга (этот визионерский мотив дан уже в диалоге вступительного хора: «Узрите! Кого? Жениха!»), так что христианская община («мы») включается в диалог, происходивший много столетий назад, а христианская «душа» (liebe Seele) - субъект арий и хоралов — также ощущает себя участницей евангельских событий. Таким образом, музыкальная полифония здесь в самом деле перестает быть формально-звуковым явлением и создает, при помощи слова, полифоническую модель сверхреальной, идеальной одновременности.
Такая семантизация полифонии как диалога личностных голосов, индивидуальных смысловых позиций, точек зрения, собранных в некой идеальной (или в реальной, но имеющей и сверхреальное измерение) одновременности для нас прежде всего ассоциируется с работами М. М. Бахтина. Между тем подобное понимание полифонии было заложено в недрах самого
музыковедения, издавна уподоблявшего голос в полифонической музыке личности, характеру. Г. К. Кох в «Музыкальном лексиконе» (1802) определяет полифонию как музыку, «в которой выражаются чувства нескольких людей». И. Форкель в том же году писал о Бахе: «Голоса в его произведениях были для него как бы личностями, которые, как некое замкнутое общество, общаются друг с другом».
Романтическая поэтика, откровенно ориентированная на музыкальные категории, переносит идею контрапункта как диалога голосов на литературное произведение, прежде всего на крупные жанры — роман и драму, которые представляются полифоническим сплетением личностных голосов, но также и тем, мотивов, чувств. Образцовыми полифоническими писателями становятся Гёте (в «Вильгельме Мейстере») и, в еще большей степени, Шекспир. Финал первой книги «Годов учения Вильгельма Мейстера», пишет Ф. Шлегель, «подобен духовной музыке, где самые различные голоса стремительно сменяют друг друга...». Пьесы Шекспира трактуются как виртуозное контрапунктическое сплетение мотивов или характеров. Начало этому музыкальному пониманию Шекспира кладет Гердер, противопоставивший древнегреческую трагедию, в которой «царит один тон характера», пьесам Шекспира: «главный аккорд его концерта составлен из всех характеров, сословий и форм жизни». Идею подхватывает Ф. Шлегель: «В шекспировском обращении с новеллами много контрапункта»; за ним Ф. В. Шеллинг в «Философии искусства» характеризует Шекспира как «величайшего мастера гармонии и драматического контрапункта».
Однако наибольшую настойчивость в применении к драмам Шекспира полифонических форм проявил в середине XIX в. О. Людвиг; в своих «Шекспировских штудиях» он постоянно говорит о «контрапункте характеров», «двойном контрапункте», «фуге действия» и т. п. Особый интерес представляет глава «Полифонический диалог» (из штудий 1851-1855 гг.), в которой понимание словесно-смысловой полифонии выходит на принципиально новый уровень. В «полифоническом диалоге», по мнению Людвига, количество «голо-
сов» определяется не количеством реальных физических участников, но количеством внутренних смысловых позиций (или, в терминологии Людвига, «мнений», «умыслов»). Прийти к такому пониманию «полифонического диалога» ему помогла музыкальная аналогия - если в музыке количество физических исполнителей не равно числу голосов (двухголосная музыка может исполняться любым составом певцов), то нечто подобное может происходить и в словесном диалоге. Людвиг первым из адептов идеи словесной полифонии интериоризи-ровал музыкальное понятие голоса: голос в словесной музыке был отождествлен им не с внешней данностью говорящего персонажа, но с внутренней позицией - «умыслом», «стремлением» и т. п. Именно эту линию продолжил в XX в. Бахтин, благодаря которому роль «образцового» полифонического писателя перешла к Достоевскому. Топос concordia discors в скрытом виде и у него сохраняет известное значение, что видно из разбросанных по книге о Достоевском определений полифонического романа: «вечная гармония неслиянных голосов или ... их неумолчный и безысходный спор»; «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний». «Неслиянность» - бахтинское слово для discordia; но и идея concordia - силы, объединяющей разногласное, -находит у него выражение в понятии «события»: «художественная воля полифонии есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию», «множественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события».
Точкой, где совершается переход от музыкальной к словесной полифонии, у Бахтина становится понятие «голоса» — метафора выражающего себя (но не воплощенного или овеществленного!) сознания. Музыкальный образ нужен Бахтину именно потому, что в музыке выражение не сопровождается воплощением или овеществлением; в музыке всё выражено, но нет ничего внешнего. Так и у Достоевского герой «не объектный образ, а полновесное слово, чистый голос; мы его не видим, мы его слышим...».
В книге Бахтина с понятием многоголосия соотнесены мотивы одновременности и вечности («в вечности, по Достоевскому, все одновременно, все сосуществует»), Оба этих мотива включились у Бахтина в перекличку с идеей полифонии не случайно: ведь оба они были и до Бахтина вовлечены в ее смысловое развитие. Если идея многоголосия с самого своего зарождения в монашеской среде раннего Средневековья была связана со способностью экзегета воспринимать все смыслы, личности и голоса как сосуществующие в вечности; если она, таким образом, изначально была трансмузыкальной, - то и книгу Бахтина можно рассматривать в контексте этой традиции. Диалог как «гармония неслиянных голосов», как concordia discors по Достоевскому и Бахтину, представляет собой идеальную одновременность, данность всех голосов в вечности - данность музыкально-религиозную.
Итак, полифония для словесности — модель и «согласия несогласного», и идеальной одновременности различного: эти модели словесность претворяет в средневековой аллегории, в барочном принципе остроумия, в романтическом концепте воображения, в текстомузыкальной структуре баховских Пассионов, в романной поэтике (у Достоевского).
Идея словесного произведения как музыкально организованного космоса не могла однажды не навести на мысль о воплощении в нем музыкальных форм. Широкое «заимствование» музыкальных форм литературой начинается, по-видимому, с эпохи романтизма, однако и Средние Века оставили по крайней мере один памятник словесной музыкальности именно такого рода - «Книгу мелодий» (Liber melorum) Герберта Босхэма (XII в.), представляющую собой «музыкальное» продолжение им же написанного жития (vita) архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета, как бы словесную постлюдию к ней. Систематическую работу по перенесению музыкальных жанров в область словесного творчества начинают романтики (JI. Тик и К. Брентано первыми пишут словесные «симфонии»). В литературоведении опыты по применению к словесному тексту музыкальных форм начинаются с середины XIX в. Пионером здесь вы-
ступил, видимо, уже упомянутый О. Людвиг, доказывавший, что универсальная форма шекспировской композиции - сонатная. Примерно полвека спустя О. Вальцель дает общеэстетическое обоснование для подобных изысканий: главный движущий фактор в историческом развитии искусства - «воля к форме» (Formwille), которая сходным образом проявляет себя в литературе и других искусствах. Вера в универсальность законов художественной формы позволяет Вальцелю переносить на литературу практически полный набор известных ему музыкальных форм (от простых «песенных» до сонатной).
На мысль о фиктивности такого рода построений наводит тот факт, что в одном и том же произведении разные исследователи усматривают разные, нередко взаимоисключающие музыкальные формы. Литературоведческие фикции музыкальных форм, как правило, основаны на подмене частно го общим: чтобы обнаружить в тексте «сонатность», достаточно любую пару контрастирующих элементов объявить главной и побочной партиями, любой варьированный повтор этого контраста - назвать репризой или, по желанию, разработкой. Ту же претензию можно предъявить и собственно литературным имитациям музыкальных форм: так, в «Фуге смерти» Пауля Целана от фуги заимствовано только повторение (с видоизменениями) начальной фразы. Это стихотворение с таким же успехом можно было бы считать, например, вариациями, а при некотором усилии усмотреть в нем и сонатность. Топос «nulla disciplina sine musica» проявляется здесь в понимании музыкальной формы как формы идеальной, внеисторической и универсальной.
Исторический генезис той или иной формы литературоведа, как правило, не интересует, что приводит к парадоксальной ситуации: находя в сонате «идеальную форму», якобы выражающую некие «общеэстетические принципы», литературовед не вспоминает о том, что сама же эта форма возникла под воздействием риторики: принцип трехчастности, характерный для сонатной формы, отразил трехчастную структуру ораторской речи (exordium - médium -finis), разработка как элемент музыкальной формы возникает из учения о таких
элементах ораторской речи, как confirmatio и confutatio (обоснование и опровержение). Музыкальное, к которому здесь стремится литература, оказывается хорошо забытым словесным; обращаясь к «чужому» как к недостижимому пределу, литература, не ведая о том, получает «свое».
Второй раздел третьей главы посвящен концепции словесного произведения как «музыки души». Боэцианская формула «человеческой музыки» (música humana) не создала столь разветвленного понятийного аппарата, как идея «музыкально устроенного космоса», однако и она порождает свой образ словесного произведения; ключевой для этого образа становится метафора потока, который отображает изменчивость субъективного и отменяет структурную упорядоченность.
В эпоху Средневековья продолжается начатый уже Платоном перенос музыкальных категорий в область антропологии. Это не значит, однако, что «душевное» действительно было в полной мере отождествлено здесь с музыкальным, как это произойдет позднее в романтизме: для средневекового автора музыкальные термины были лишь частью обширного круга понятий и образов, которые могли входить в состав аллегорий, описывающих духовную жизнь христианина. Тем не менее именно благодаря средневековой аллегорике музыкальные понятия обрели устойчивое метафорическое измерение, «переносный смысл», и утвердились вне «своей» технической сферы - в области словесного.
Музыкальные категории в ходе своего превращения в метафоры претерпевали своеобразную интериоризацию: они обращались внутрь человека, образуя в его душе область той «другой музыки» (alia música), о которой говорит в одной из своих проповедей Абсалон Шпрингирсбахский; элементами этой внутренней музыки оказываются уже не звуки, но моральные свойства человека. Человек был осмыслен как музыкальный инструмент Бога; мысли, поступки человека - музыка, этой музыке учит человека Христос - великий музыкант, который сам для Бога-Отца является музыкальным инструментом. Моральное,
антропологическое и музыкальное в этой аллегорике теснейшим образом переплетается.
Систематическая метафоризация музыкальных категорий в средневековой аллегорике открывает для словесного искусства новую возможность: уже не отдельные образы, но целые сюжеты воссоздаются в музыкальных терминах; словесная музыка становится «сплошной», все повествование разворачивается как музыкальный процесс. Теолог Гуго де Фольето (XII в.) всю историю грехопадения и спасения представляет как череду музыкальных событий, «песен» (cantus) дьявола, человека и Христа.
Музыкальная аллегорика Средневековья была усвоена в образности позднейшей европейской литературы. Центральный мотив «человек - музыка Бога» сохраняется, хотя его первоначальная мотивация библейской экзегезой забыта, и из аллегории он превращается в метафору, имеющую порой глубоко личное биографическое звучание (например, в «Гимне к Богу в моей болезни» Дж. Донна). Сохраняется и тесное переплетение музыкальной и моральной терминологии, идея добродетели как «внутренней музыки». Когда Шекспир в знаменитых строках «Венецианского купца» призвал не доверять человеку, «не имеющему музыки в себе», он лишь продолжил тысячелетнюю традицию, восходящую к словам Кассиодора: «когда грешим, то музыки не имеем» («quando vero iniquitates gerimus, musicam non habemus»).
Впервые полное и серьезное отождествление музыкального и душевного совершается в романтизме. До него все применения музыкального к сфере внутренней жизни человека имели все же характер литературно-словесной условности; романтики же всерьез приняли гипотезу о музыкальной сущности душевных феноменов, что отразилось и в их словесном творчестве, которое было поставлено перед необходимостью выражать эту внутреннюю музыку.
Набор музыкальных образов, вырабатываемых словесностью со времен раннехристианской экзегетики, был романтизмом в полной мере усвоен; им было воспринято и сопоставление человека с музыкальным инструментом. Од-
нако то, что для отцов церкви было аллегорией, для романтиков становится своего рода антропологической гипотезой. Об этом свидетельствуют, в частности, дневники Ж. Жубера. Видя в человеческой душе музыкальный инструмент, Жубер описывает внутреннюю жизнь как последовательность консонансов и диссонансов; единство человеческой жизни, внешней и внутренней, оказывается музыкальным единством - поступки, слова, чувства складываются в мелодии. Новалис несколько раньше разрабатывает проект музыкальной основы человеческого сознания: «совершеннейшее сознание», по его мнению, не может не быть музыкальным; «оно - пение, всего лишь модуляция настроений (Stimmungen), подобная модуляции гласных звуков или музыкальных тонов».
Понятие музыкальности, примененное к внутренней жизни, становится у романтиков критерием душевных и духовных достоинств: «Благородный человек сам в себе всё ощущает музыкально» (Л. Тик). Словосочетание «внутренняя музыка» на правах психологической и моральной характеристики появляется в дневниках и письмах немецких и французских романтиков независимо друг от друга.
Поэзия призвана выразить эту внутреннюю музыку. Ф. Шиллер в статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) выделяет «музыкальную» поэзию как особый тип, противостоящий поэзии «пластической»: если «пластическая» (или «изобразительная», bildende) поэзия «подражает определенному предмету», то музыкальная - «вызывает определенное состояние души, не нуждаясь для этого в определенном предмете». Музыкальная поэзия, таким образом, связана с «душой» напрямую, без всякого опосредования предметным. Однако для Шиллера музыкальность - лишь одно из возможных состояний поэзии, как и одно из возможных состояний души. Романтизм распространяет понятие музыкальности на саму сущность поэзии: характерно, что статья У. Хезлитта, в которой поэзия определяется как «музыка языка, отвечающая музыке души», называется «О поэзии в целом».
Музыкальное в таком понимании связано с «внутренним» в его автономности, независимости от всякого внешнего предмета; именно так позднее истолкует принцип музыки Г. В. Ф. Гегель: музыка - «искусство души, которое непосредственно обращается к душе». Однако для того, чтобы могло появиться это определение, «душевное» и «музыкальное» должны были быть осмыслены как структурно сходные феномены, описываемые в одинаковых терминах. Работу по обнаружению таких терминов-медиаторов между душевным и музыкальным проделали романтики, и прежде всего - В. Вакенродер, который и предложил новую центральную метафору, служащую для описания как души, так и музыки: метафору потока. Главное свойство душевного потока, которое в состоянии выразить лишь музыка, — бесконечная изменчивость. Под влиянием нового представления о потокообразном и вместе с тем музыкальном характере душевной жизни в европейском воображении меняется сам образ музыкального: если прежде оно воплощало архитектоническую стройность, то теперь - текучесть, «неартикулированность». С точки зрения типичного музыканта эпохи Просвещения, поэзия может лишь завидовать той симметричности и упорядоченности, какой обладает музыка и архитектура. К концу XVIII века ситуация, по крайней мере в романтических кругах, разительно меняется: музыка теперь служит для поэзии скорее уже образцом беспорядка; ее сущность все чаще определяется не идеей симметричной стройности, но образом аструктурного потока. «Мелодия состоит в некоторой текучести звуков, струящихся и нежных, как мед, от которого мелодия получила свое имя», - пишет Ж. Жубер. Изменчивость провозглашается основой музыкального выражения: предромантиче-ски настроенный музыкальный писатель М. П. Шабанон объявляет, что «одна из обязательных функций» музыки - «постоянно варьировать свои видоизменения».
Именно в таком ее понимании - как бесструктурного, бесконечно изменчивого потока, в котором, как в зеркале, отражается поток душевных движений, — музыка становится образцом для поэзии. В работе романтического вооб-
ражения над уподоблением поэзии так понятой музыке можно выделить по крайней мере три момента.
Первый из них связан с попытками переосмыслить в позитивном духе, реабилитировать понятие беспорядка. В словесном произведении должен царить, по выражению Новалиса, некий «волшебный романтический порядок», образцом которого служит «Вильгельм Мейстер»: в нем господствует музыка -«акценты не логические, но (метрические) и мелодические», а отсюда и возникает такой «порядок», который «не обращает внимания на ранг и достоинство, первость и последнесть (Erstheit und Letztheit), великость и малость». «Волшебный порядок», о котором пишет Новалис, первым делом отменяет прежний порядок и потому может с равным успехом быть назван «волшебным беспорядком». Если доромантическая поэтика также в известной мере и в определенных случаях признавала необходимость беспорядка (например, «одического»), то новый, навеянный музыкой романтический беспорядок представляет собой нечто гораздо более радикальное: «Если философ все упорядочивает, все ставит на место, то поэт отменяет все связи. Его слова - не всеобщие знаки; они — тоны...» (Новалис).
Под знаменем музыкальности романтическое воображение трудится над разрушением веками вырабатывавшегося классической риторикой представления о логически обусловленном поступательном движении речи, ее «расположенности» по вытекающим друг из друга разделам (exordium - medium - finis). Основная идея, рождающаяся во фрагментах Новалиса и Жубера, состоит в том, чтобы противопоставить «порядку речи» эстетическую самоценность «слов», которые «прекрасны» независимо от того, какое место они занимает в общей структуре. В этих новых представлениях о словесно-прекрасном музыка- а шире, всякое «прекрасное звучание», - служит моделью: полное незнание принципов музыкальной формы позволяло романтикам воспринимать музыку как прихотливо-бессвязный поток звуков, прекрасных в своей - разумеет-
ся, мнимой! - обособленности. Самой совершенной музыкой для них оказывалась музыка эоловой арфы, которая и в самом деле была вполне бессвязной.
Однако на этой вдохновленной музыкой реабилитации бессвязности романтики не останавливаются: далее бессвязность осмысляется как «текучесть», в чем и состоит второй момент романтического уподобления словесного музыкальному. Но и сама по себе эта текучая изменчивость - не конечная цель; ситуация усложняется тем (и здесь мы подходим к третьему моменту в романтическом понимании словесной музыки), что поток мыслится на фоне того особого единства, которое романтики также определяют музыкальным словом -«тон». Можно сказать, что структура произведения - как, впрочем, и человеческой личности, - для романтиков двухуровнева: верхний уровень образует поток-мелодия в его изменчивости, нижний — устойчивый тон, обуславливающий идентичность личности или художественного организма. «Стихия духа», по словам Новалиса, «лишь на поверхности дробится на тысячи волн»; глубина его спокойна, неподвижна или по крайней мере медленна.
Всякий образ, как бы сложен он ни был, в конечном счете сводится к простому неделимому тону: «Тон каждому образу (Gestalt) — образ каждому тону», — провозглашает Новалис. Поэту, чтобы быть поэтом, достаточно выразить один тон: «Великому поэту достаточно передать лишь один тон чувства и воодушевления», — пишет Ф. Шлегель в письме к брату А. В. Шлегелю. Ф. Шлегель и Ф. Гёльдерлин набрасывают проекты своеобразной типологии литературных явлений в соответствии с присущими им «тонами». Шлегель, играя в дневнике с понятием тона, «классической поэзии» приписывает «пластический тон», «сентиментальной» - «музыкальный тон», «прогрессивной» — «поэтический»; «тон романа должен быть элегическим, а форма романа - идиллической»; чуть ниже возникает совсем иной поворот — Шлегель противопоставляет дух и тон как эстетические сущности: дух - это «определенное единство свойств», тон -«неопределенное единство свойств»; романтические произведения обладают именно «тоном». В статье Гёльдерлина «О различии литературных родов» в
основу классификации положено понятие «основного тона», «тоники» (Grundton), которое иногда замещается понятием «основного настроения» (Grundstimmung) - музыкальное переплетено с «психологическим», душевным: основное настроение лирики определяется «непосредственным чувством», тоника эпоса - «героическое» или «энергическое»; тоника трагедии - «идеальное», поскольку «в основе всех произведений этого рода лежит интеллектуальное созерцание».
В четвертой главе рассматривается роль музыкальных категорий в развитии теоретических представлений о лирическом роде и о жанре романа. Вплоть до XVIII века в европейских поэтиках доминировала схема трех родов, в которой лирика отсутствовала, а «лирические» жанры относились обычно к «повествовательному» роду (или к «простому» повествованию). Тем не менее термин «лирика» как обозначение особой разновидности поэтических произведений существовал издавна. Так, Скалигер посвящает лирике раздел своей «Поэтики», не выделяя ее как род, но относя к роду narratio simplex. При этом лирика определялась через ее внешнюю связь с музыкой: либо как стихи, исполняемые с музыкой (Скалигер), либо как стихи, наиболее удобные для сочинения музыки (М. Опяц, Э. Филиппе). Процесс, в ходе которого это «наивное» представление превратилось в теорию лирики как литературного рода, был в значительной мере стимулирован музыкальными аналогиями и включал по крайней мере три момента: 1) формирование нового представления о музыке как неизобразительном (и тем самым, в понимании теоретиков той эпохи, неподражательном), а по преимуществу выразительном искусстве; 2) формирование представления об особой «музыкальной поэзии» (т. е. предназначенной быть текстом для музыкальной композиции), которое позволило освободить лирику от внешней связи с музыкой; 3) нахождение нового определения лирики посредством аналогий с музыкой в ее новом понимании. Общая суть всего этого процесса состояла в том, что лирика, внешне отделившись от музыки, в то же время находит в музыке собственное сущ-
ностное определение: музыка из внешнего атрибута лирики стала ее внутренним свойством, «музыкальностью».
В эстетических текстах середины XVIII в. (Дж. Харрис, И. Гердер и др.) рождаются идея о том, что музыка - не подражательное искусство: ее цель -«вызывать» или «выражать» чувства; при этом за музыкой признается статус «естественного», первичного языка, непосредственного выражения чувств и страстей. Увидев в музыке идеальную модель непосредственного языка, якобы данного «от природы», теоретики попытались эту модель применить к лирике.
Однако чтобы обрести собственную внутреннюю музыкальность - собственно, тот набор представлений о сущности музыки, который доминировал в рассматриваемую нами эпоху, — лирика должна была в первую очередь освободиться от внешней связи с музыкой: она должна была перестать восприниматься как «стихи для пения». Для этого, в свою очередь, должно было возникнуть представление об особой «поэзии, предназначенной для пения», отличающейся от лирики в целом. Такое представление намечено в ряде трактатов конца XVII - XVIII вв. (Д. Г. Морхоф и др.). Особенно важен в этом процессе трактат К. Г. Краузе «О музыкальной поэзии» (1753), в котором из лирики выделен особый вид «поэзии для музыки»; его черты - формальная непритязательность при сильной аффективной окрашенности; или, как сказано у Краузе, - перевес «трогательности» над «красотой».
Далее лирика, освободившись от внешней подчиненности музыке, находит в музыке свое внутреннее, сущностное определение. Теория лирики ориентируется на музыку, находя в ней образец непосредственного, «немиметического» выражения; на смену традиционному представлению о поэте как «живописце» (в соответствии с формулой Горация Ш ркШга роез1з) приходит представление о поэте как «музыканте». Уже Ш. Баттё, давая четырем литературным родам (включая дидактический) определения, основанные на аналогии с другими искусствами, ассоциирует лирику с музыкальным началом: лирика
«связывает свое выражение с выражениями музыки и полностью посвящает себя страстям как единственному предмету этого искусства». Если у Баттё лирика, определяемая как музыкальное выражение страсти, еще связана с миметическим принципом, то далее, и прежде всего в поэтологических текстах Герде-ра, лирика рассматривается уже как искусство выражения, а не подражания, причем образцом-моделью ей в этом служит музыка.
Гердер разрабатывает метафорический «музыкальный» язык описания лирики, смело перенеся на лирику целый комплекс музыкальных понятий. Так, в рецензии на «Оды» Ф. Клопштока (1771) музыкальные термины превращены в метафоры, описывающие сущность оды как лирического жанра: Гердер говорит о «мелодии, модуляции каждой пьесы», о «танце тонов», об «одушевленном звуком ручье» как о природном прообразе оды, о «песне души» (Gesang der Seele). Выражение «песня души» ясно указывает на стремление Гердера ввести в учение о лирике интериоризированные музыкальные понятия. Лирику Гердер, как и многие теоретики его времени, определяет как выражение (а не изображение) чувства; в то же время чувство у Гердера выражает себя музыкально - поэтому лирика неизбежно несет в себе музыкальный элемент. Именно Гердер, полемизируя с представлением о поэзии как о некой словесной живописи (И. К. Готшед, И. Я. Бодмер), определит ее как ин-териоризированную музыку — «музыку души».
В поэтологии немецких романтиков представление о лирике как роде литературы, в котором музыкальность стала неким внутренним принципом, утверждается окончательно; при этом «музыкальное» связывается с непосредственным выражением чувств, с таким излиянием субъективности, которое не прибегает к внешним знакам-эквивалентам внутренних состояний. Предметность, если она как-то и вовлекается в этот поток выражения, теряет отчетливость, сливается с субъективностью воспринимающей мир души. Говоря совсем коротко: музыка воспринята как модель такой речи, которая может выражать не изображая. Так, Ф. Шлейермахер в «Лекциях по эстетике» находит в
искусстве два основных принципа - музыкальное выражение и миметическое изображение; в соответствии с ними он делит словесное искусство на «музыкальное» (или «субъективное») и «пластическое» или («объективное»). Лирика полностью отождествлена с музыкальным модусом выражения, а этот последний понят как выражаемая, но не изображаемая субъективность. Лирика полностью разорвала свое внешнее синкретическое единство с музыкой, но присвоила себе музыкальность как свое сущностное определение, ставшее основой для выделения лирики в особый литературный род.
Некоторую роль - хотя и несравнимо меньшую, чем в случае лирики, -музыкальные аналогии сыграли в теоретическом осмыслении романа. Здесь музыка была востребована совсем иной стороной и в совсем иных своих качествах, нежели в теории лирики: для романа музыка в некоторой степени (и в достаточно немногочисленных текстах) служила моделью разнообразия. К середине XVIII века музыка воспринималась как своеобразный эталон этого качества. Понятие разнообразия с начала XVIH века становится одним из ключевых характеристик романа, при этом многие рационалистически настроенные критики (в т. ч. С. Джонсон) оценивали разноообразие романа негативно. Контраргументом в полемике с рационалистами стала аналогия с музыкой, уже осмысленной как искусство смешения и разнообразия. Иначе говоря, разнообразие находит своё оправдание в сопоставлении с музыкой - это происходит, в частности, в анонимном тексте «Характеры Прево, Лесажа, Ричардсона, Фил-динга и Руссо», опубликованном в «Gentleman's Magazine» (1760). О Филдинге здесь говорится следующее: «Его стиль воздействует так же, как та старинная музыка, чье искусство заставляет душу нежно и как бы нечувствительно переходить от радости к печали, - он вызывает разнообразные и даже противоположные чувства». «Старинная музыка» - вероятно, полифоническая музыка строгого стиля: она служит для романа моделью одновременно и разнообразия, и сочетания противоположного.
Во второй половине XVIII века мотив разнообразия продолжает активно.
использоваться в критических отзывах на романы - при этом негативные оценки разнообразия практически исчезают, но появляются, хотя и нечасто, музыкальные аналогии. Особенно показательно музыкальное сравнение, использованное С. Ричардсоном в заметках по теории романа для оправдания избранной им формы романа в письмах, в котором «чувства персонажей» передаются не в авторском понимании, но «посредством их собственных слов». Обычный роман, в котором господствует авторское слово, Ричардсон называет здесь «повествовательным искусством» (art narrative), вкладывая в это выражение негативный смысл: в нем «романист движется своей собственной вялой поступью к концу своей главы или книги, вставляя неуместные отступления из страха, что его томительное пребывание при одном предмете и в одном и том же стиле истощит терпение читателя. Не будет неуместным сравнить это с монотонным звоном одного колокола, в противовес чудесному разнообразию звуков, которое составляет гармонию Генделя».
Возникающее в конце сравнение романа с музыкой Генделя представляется кульминационным моментом в процессе сближения романа и музыки в английской критике XVIII в. Образ совмещенного в едином звучании «разнообразия звуков», предоставляемый музыкой, Ричардсон трактует как метафору совмещенного в одном романе разнообразия личных точек зрения — разнообразия, которое находит оправдание и обоснование в музыкальной аналогии, в «гармонии» Генделя: то, что позволено музыке, должно быть позволено и слову.
В пятой главе рассмотрены два типа понимания музыкального в литературоведении XX в. Если существуют два главных образа словесной музыки -космически стройная структура и изменчивый поток, то и все литературоведческие интерпретации этой музыки так или иначе тяготеют к одному из этих двух полюсов. Иначе говоря, музыкальность слова трактована либо как аномальное (на фоне «обычного» текста, признаваемого немузыкальным) усиление структурно-архитектонических моментов, либо, напротив, как их ослабление. В пер-
вом случае литературовед находит, что те или иные элементы текста в своем расположении образуют конфигурацию, аналогичную конфигурации структурных элементов музыкальной формы. Во втором случае литературовед исходит из убеждения, что «литература в целом становится музыкальной, когда проявляет презрение к любым ясноразличимым элементам формы»8.
Первый раздел пятой главы посвящен трактовке музыкальности как «дополнительной логики» текста. При попытках импортировать в текст музыкальную форму (или ее элементы) в тексте усматривается дополнительная структурная мотивированность, дополнительная логика - логика музыкального развития. Импорт музыкальной формы в текст приводит к его формальнологической сверхмотивированности: помимо словесно-смысловой связности в нем появляется еще и связность музыкальная. Эта музыкальная связность может усматриваться на разных уровнях текста. На нижнем уровне формально значимую конфигурацию (подобие музыкальной формы) могут образовывать звуковые (или звуко-смысловые) комплексы (так, Дж. Фетцер обнаруживает квази-музыкальные «партии» сонатной формы в звукосимволических комплексах текстов К. Брентано). На более высоком уровне конфигурацию музыкальной формы образуют мотивы и темы словесного произведения; наконец, носителем музыкальной формы может служить и система персонажей.
Тезис о воспроизведении музыкальной формы в словесном произведении может быть выражен и в ослабленном, компромиссном виде: воспроизводится не музыкальная форма в ее конкретности, но те или иные приемы музыкального формообразования. Под музыкальным понимаются не готовые формы, но нечто гораздо менее конкретное - общая линия, «мелодико-синтаксическая фигура» (Б. М. Эйхенбаум), типичная для музыкального произведения как такового. Среди литературных аналогов музыкальных формообразующих приемов важное место занимает словесный лейтмотив, сходный, по мнению многих исследователей, с лейтмотивом музыкальным. Концепция «основных тем» —
8 Fetzer J. Romantic Orpheus. Profiles of CI. Brentano. - Berkeley a. o., 1974. — P. 206-207.
СгапсШгетеп, сформулированная Вагнером, а также изобретение Г. Вольцоге-ном самого термина «лейтмотив» были сопряжены с существенными изменениями в представлениях о самом характере музыкальной формы. Традиционно музыкальная композиция понималась как некое «сочленение частей», которые можно ясно различить (будь то части в форме рондо, части в сонатной форме и т. д.); произведение подобно зданию, имеющему вход, ряд комнат и выход. Идея же лейтмотива требовала отказа от этой «архитектурной» метафоры и вводила вместо нее метафору «ткани», «плетения»: музыкальный текст стал пониматься как «ткань», а не как «здание». Смена ключевой композиционной метафоры проявилась и в литературоведении, где идея лейтмотива и сам термин были немедленно усвоены. И в музыке, и в литературе лейтмотив обычно проявляется не как «единичность», но в виде некоего множества: само понятие лейтмотива предполагает образ произведения как «тканевой», «сплетенной» структуры, образованной из целого множества лейтмотивов.
Второй раздел пятой главы посвящен пониманию музыкальности как особого качества текста, приводящее к разрушению или ослаблению его логической связности и/или структурности. Подобный подход, без сомнения, в значительной степени вобрал в себя романтическое понимание музыки как беспредельной текучести - понимание, которое в русской эстетической традиции было развито в книге А. Ф. Лосева «Музыка как предмет логики» (1927): «чистое музыкальное бытие» есть «всеобщая внутренняя текучая слитность всех предметов», «подвижная сплошность и текучая неразличимость». Музыкальное бытие, увиденное феноменологически, абсолютно противостоит музыкальному произведению в его архитектонической ясности: музыкальное бытие — бесформенно, слитно, сплошно, музыкальное произведение - структурно, «раздельно», архитектонично. Литературовед, в своем понимании музыкальности ориентирующийся не на форму музыкального произведения, но на такое слитно-нераздельное музыкальное бытие, не принижает значение музыкальной формы, но просто берет во внимание иную ипостась музыки, а именно — ту ее способ-
ность существовать как бы до формы и вне формы, в которой Лосев увидел саму природу музыкального бытия.
Многие литературоведческие анализы так понятой словесной музыки показывают, что разрушение или ослабление структурности текста - не самоцель, но лишь «побочный эффект» возникающего в нем нового особого качества (воспринимаемого как проявление «музыкальности»), которое делает ненужной саму эту структурность. Пример такого анализа - книга Г. А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» (1946), в которой словесная музыкальность истолкована в соответствии с восходящей к романтической поэтике метафорой музыки-потока. Основная метафора музыкальности, на которую опирается Гу-ковский, - это не метафора «здания» и не метафора «ткани» (т. е. не метафоры музыкальной формы), но та самая открытая романтиками метафора «потока», которая подчеркивает в музыке ее аструктурный момент: «Жуковский создает музыкальный словесный поток», слова у него связываются «в мелодию, в недифференцированный комплекс». У Жуковского логико-синтаксическая схема разрушена, расплавлена; однако на смену ей приходит иной тип единства: ключевые слова текста — «слова-символы», как называет их Гуковский, высвобожденные из синтаксических связей, вступают в надлогическую и надсинтаксиче-скую перекличку, словно «слова-ноты определенной мелодии»; они «как бы начинают просвечивать насквозь, становиться прозрачными, а за ними открываются глубины смысловых перспектив». Гуковский варьирует здесь мысль, которая неоднократно - и также в метафорической форме - возникала в поэто-логии рубежа Х1Х-ХХ вв.: «Всякое стихотворение - покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение» (А. Блок); слова стихотворения «загораются взаимными отсветами» (С. Малларме).
Может показаться странным, что такой «надструктурный» способ построения текста ассоциируется с музыкой, которая сама — сплошь структура, сплошь форма. Объяснение этого парадокса - в том, что представления о ело-
весной музыкальности непосредственно не связаны с музыкой как таковой, развиваясь в целом вполне независимо от современной им музыкальной практики. Словесная музыка «по Гуковскому» (как, впрочем, и по Жуковскому, и по Новалису) возникла не из «соприкосновения» реальной музыки и слова, но из длительной эволюции учения о словесной музыке. К древнейшим мотивам этого учения относится представление о том, что слова в тексте связаны силой не только грамматики, но и «гармонии». Развитие этого мотива мы и наблюдаем как в поэтике символизма, так и в литературоведении XX в., унаследовавшем некоторые его идеи. При этом значение этой «гармонической» (или «мелодической») формы связности становилось все более весомым: если у Дионисия, Колуччо Салутати, даже у Гердера мелодическая, музыкальная «связь слов» дополняла, но не заменяла и тем более не отрицала синтаксис, то в поэтике романтизма и, позднее, символизма она уже противопоставляет себя синтаксису и в известном смысле отменяет его. Так окончательно складывается идея о музыке слова как отмене формально-логической связности или даже структурности как таковой.
Два рассмотренных нами представления о словесной музыке в литературоведении Х1Х-ХХ веков кажутся взаимопротиворечащими, даже взаимоисключающими. Тем не менее они естественно вытекают из истории поэтики, в ходе которой были выработаны и две основные концепции словесной музыки (отражение космического порядка - выражение души), и две соответствующие этим концепциям ключевые метафоры (стройный космос - изменчивый поток). Эти концепции представляют собой два необходимых конститутивных момента идеи словесной музыки, без которых невозможны были бы ни ее существование, ни ее эволюция: они не противоречат друг другу, но друг друга дополняют. Таким взаимодополнением и достигается целостность и полнота истори-ко-теоретического рассмотрения концепта словесной музыки в ее изначальной и неустранимой двойственности.
В заключении подведены итоги исследования, приводятся общие выво-
ды о роли музыкальных аналогий в европейской поэтике, в которой на протяжении всей ее истории существовало представление о «музыке слова», словесной музыке» как особом типе организации литературного произведения. Эффект музыкальности слова, отмечаемый в многочисленных поэтологических и литературоведческих текстах, всегда остается в значительной степени иллюзорным, поскольку специфически музыкальные средства выразительности, связанные с фиксированной звуковысотностыо, литературе недоступны. Аналогии между музыкой и словесным искусством, проводимые поэтологами различных эпох, как правило, имели опосредованный характер и фактически включали в себя три момента: 1) отождествление музыки с некой умозрительной идеей или общеэстетическим принципом; 2) перенос этой идеи или принципа на словесное произведение; 3) отождествление словесного произведения с музыкой на основании общности лежащего в их основе принципа. Так, утверждение Ф. Сидни о том, что поэзия - это «планетоподобная музыка» («planet-like music of poetry»), распадается на вышеуказанные три момента: 1) музыка отождествляется с космической гармонией сфер; 2) поэзия также рассматривается как проявление гармонии сфер; 3) из двух первых моментов следует, что поэзия - в своем роде музыка. Таким образом, в поэтологических сопоставлениях музыки и словесности под «музыкой» на самом деле имеется в виду не музыка как таковая, но некое теоретическое, умозрительное представление о ней.
Все многообразие высказываний о «словесной музыке» в европейской поэтике можно свести к двум базовым умозрительным идеям о сущности музыки: музыка понимается либо как отражение небесной гармонии, музыкально устроенного космоса; либо как выражение субъективной «музыки души». В соответствии с этими двумя базовыми типами умозрительной музыки «музыка слова» в европейской поэтике трактована либо как отражение рациональной космической гармонии, либо как выражение души в ее иррациональных глубинах: первому пониманию сопутствовали мотивы «меры и числа», строгой и стройной пропорциональности, второму - мотивы гибкой и безграничной изменчивости, прихот-
ливости, непредсказуемости. В первом случае «музыка слова» являла себя как космически стройная структура, во втором - как изменчивый поток.
Первый базовый тип понимания музыкальности в наибольшей степени характерен для поэтики Средневевековья и особенно Ренессанса (впрочем, он в некоторой степени сохранял значимость и в позднейшие эпохи, проявляясь, например, в опытах переноса на словесное произведение музыкальных форм). Музыка в эти эпохи трактуется как «наука о числах», описывающих систему небесной гармонии; поэзия должна уподобиться музыке и также стать «инструментом, заключающим в себе небесную гармонию» (Колуччо Салутати). Числовой трактовкой «словесной музыки» объясняются многочисленные безуспешные попытки средневековых и ренессансных теоретиков (Иоанн Гарландия, Колуччо Салутати, Дж. Патнем и др.) применить к поэзии арифметические пропорции, описывающие систему музыкальных интервалов.
Переход ко второму типу понимания музыкальности происходит в эпоху предромантизма и романтизма, когда меняется и представление о сущности музыки: из «космической» она становится «человеческой», трактуясь отныне как «естественный» язык чувства. Музыка перестает восприниматься как образец архитектонической стройности; в ней акцентируется аструктурная текучесть, которая идеально соответствует изменчивости человеческой души. Именно в таком качестве, как «поток», гибко следующий за переменами душевных состояний, музыка теперь служит моделью для литературы. Позднейшие поэто-логические концепции музыкальности (в частности, в символизме и модернизме) также в той или иной мере варьируют эти базовые типы. Так, парадоксальная позиция С. Малларме, считавшего, что именно в поэзии музыка очищается от чуждой ей чувственности звучания и обретает свою подлинную интеллектуальную «беззвучную» сущность, в целом ориентирована на первый тип: музыка слова — это «совокупность отношений, существующих во всём».
Два основных типа словесной музыки, соответствующих «образам» космически стройной структуры и изменчивого потока, обусловили и два направ-
ления трактовки музыкальности в литературоведении 20-21 вв. Музыкальность слова трактуется либо как «аномальное» (на фоне «обычного» текста, признаваемого «немузыкальным») усиление структурно-архитектонических моментов, либо, напротив, как их ослабление.
Каждому из двух типов словесной музыки соответствует определенный набор мотивов, которые и выделены в диссертации. Поскольку в позднейшей музыкальной эстетике, философии музыки, литературоведении эти мотивы продолжают существовать как бы инкогнито, не обнаруживая заложенной в них исторической памяти, то осуществленная в диссертации реконструкция истории терминов позволяет анализировать «историческую топику» (по выражению Э. Р. Курциуса), скрытую в поэтологических и литературоведческих текстах Новейшего времени. Так, когда Ф. Ницше в «Рождении трагедии...» определяет «аполлоническую» музыку как «дорическую архитектонику в тонах», а «дионисийскую» связывает с «потрясающим могуществом тона», то нетрудно заметить, что в этом высказывании противопоставляются два описанных нами типа музыкальности: формула «архитектоника в тонах» подразумевает пропорциональность и меру как основу музыки в ее ренессансном понимании, слова же о «могуществе тона» — ту существующую вне пропорциональности и меры стихийную основу музыки, которую открыли Гердер и романтики. То, что Ницше описал как столкновение аполлонического и дионисийского начал, в демифологизированном виде, в контексте реконструируемой нами «исторической топики» предстает как конфликт двух типов музыкальности, которые в истории поэтики обнаруживают себя в ренессансной метафоре музыкального космоса и в романтической метафоре потока, а в более общем контексте идей о музыке — в противостоянии двух боэцианских типов умозрительной музыки (música mundana и música humana). Изменчивость словесных формулировок и многообразие комбинаций, образуемых мотивами словесной музыкальности, не могут скрыть устойчивости общего состава этих мотивов и неизменности двух основных типов, к которым они так или иначе принадлежат.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Любовная риторика романтиков. М.: Знание, 1991. - 59 с. - 3,7 а. л.
2. Ранний романтизм в поисках музыки. - М.: Лабиринт, 1993. - 126 с. -7,8 а. л.
3. Música literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. - М.: Intrada - ИНИОН РАН, 2005. - 224 с. - 8,2 а. л.
4. Романтическая повесть на страницах журнала «Телескоп» // Ccchoslovenska rusistica.-Praha, 1984. №3,-С. 119-124.-0,37 а. л.
5. Журнал «Телескоп» и немецкая литература // Вестник МГУ. Серия: Филология. 1985, № 1. С. 44-50. - 0,38 а. л.
6. Некоторые методологические проблемы изучения произведения искусства в современной западноевропейской эстетике (совм. с К. А. Чекаловым). (Сер.: Общие проблемы искусства. Вып. 1). - М.: Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина, 1987.-31 с. -1,9 а. л.
7. Музыкальный мир античных мифов и лирика Пушкина // Крымская научная конференция «Пушкин и Крым». Тезисы докладов. - Симферополь: Симферопольский гос. университет, 1989. - С. 27-29. - 0,2 а. л.
8. Риторика поступка М. Бахтина (совм. с В. Л. Махлиным, И. В. Пешковым). -М.: Изд. «Знание», 1991.-40 с. -2,7 а. л.
9. Звукомузыкальная эротика романтиков // Апокриф: Культурологический журнал. М„ [1992]. № 1. С. 35-46. - 0,55 а. л.
10. Черед бросать кости: Бог, Николай Маркевич, Лев Толстой, Стефан Малларме, Пьетро Чероне, Пьер Булез, Джексон Поллок и другие // Апокриф: Культурологический журнал. - М., [1992]. № 2. - С. 70-89. - 1,25 а. л.
11. Перевод-присвоение: чужое слово «инкогнито» // Российский литературоведческий журнал. - М„ 1993, № 3. - С. 13-23. - 0,65 а. л.
12. Мужчина и женщина в зеркале романтического афоризма // Апокриф: Культурологический журнал. № 3. - М., [1993]. - С. 14-21. - 0,5 а. л.
13. «Эолова арфа» В. А. Жуковского и романтический миф об эоловой арфе // Романтизм: Эстетика и творчество. - Тверь: Тверской гос. университет, 1994. - С. 45-54. - 0,47 а. л.
14. «Печать недвижных дум» // Эмблемы и символы. - М., 1995. (2-е издание: 2000).-С. 5-20.-1,48 а. л.
15. Антиномии игры // Кентавр: Методологический и игротехнический журнал. -М., 1995. № 2. - С. 37-41. - 0,43 а. л.
16. Якоб Буркхардт - критик истории и историк «духа» // Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. - М., 1996 (2-е издание: 2001 г.). - С. 474-509. -2,2 а. л.
17. Последний труд А. Н. Веселовского // Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и "сердечного воображения". - М., 1999. - С. 3-9. - 0,48 а. л.
18. М. В. Юдина и Теодор Адорно: два пути эстетического «прорыва» // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999, №3.- С. 118-126.-1,5 а. л.
19. М. В. Юдина и Теодор Адорно: два пути эстетического «прорыва» (с изменениями и дополнениями) // Музыкальная Академия, 2000. № 3. - С. 97-101. -1,77 а. л.
20. Якоб Буркхардт и современная гуманитарная мысль: изобретение нового и вечное возвращение // Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры. М.: Наука - Гос. институт искусствознания, 2000. - С. 134-147.-0,83 а. л.
21. Эстетика удачи: Бенедетто Кроче и его книга // Кроче Б. Эстетика. - М., 2000. -С. 3-10.-0,42а. л.
22. «Музыкальное» как литературоведческая проблема // Наука о литературе в XX веке (История, методология, литературный процесс). - М.: ИНИОН РАН, 2001. С. 180-193.-0,76 а. л.
23. Антиномии игры (с изменениями и дополнениями) // Традиционная культура. -М.: Гос. республиканский центр русского фольклора министерства культуры Российской Федерации. 2001. № 1. - С. 3-7. - 0,45 а. л.
24. Статьи «Буря и натиск», «Вечная женственность», «Воображение», «Гений», «Голубой цветок», «Демоническое», «Игра», «Кладбищенская поэзия», «Местный колорит», «Мировая скорбь», «Музыкальное», «Остроумие», «Предро-мантизм», «Ролевая лирика», «Романтизм», «Топос», «Фрагмент», «Эмблема» // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: ИНИОН РАН, 2001. -С. 595-600.-4,1 а. л.
25. «Есть что-то, что не любит ограждений». Библейская доктрина границы и ран-неромантический демонизм // Темница и свобода в художественном мире романтизма. - М.: ИМЛИ РАН, 2002. - С. 27-87. - 3,7 а. л.
26. Якоб Буркхардт и современная гуманитарная мысль: изобретение нового и вечное возвращение (с изменениями и дополнениями) // Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. - М.: Наука, 2002. - С. 149-160. - 0,84 а. л.
27. Статьи «Г. Башляр», «А. Беген», «П. Бёкманн», «О. Вальцель», «С. Гринб-латт», «Э. Р. Курциус», «Ф. Гундольф», «В. Кайзер», «М. Коммерель», «Топос», «К. Фосслер», «Л. Шпитцер» // Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. - М.: ИНИОН РАН, 2004. - 4,4 а. л.
28. «О верности пойдет рассказ»: Вольфрам фон Эшенбах и его роман // Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль. - М., 2004. - С. 5-20. - 1,1 а. л.
29. «Музыка» слова: Из истории одной фикции // Вопросы литературы. 2005. № 5. -С. 101-123.-1,3 а. л.
30. Статья «Вальцель Оскар» // Большая Российская Энциклопедия. - М., 2006. -Т. 3.-0,1 а. л.
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Махов, Александр Евгеньевич
Введение.
Очерк истории вопроса.
1. Междисциплинарные исследования литературно-музыкальных связей.
2. Работы по истории риторики и поэтики.
Глава 1. Принципы взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных категорий.
1.1 Трансмузыкальное как промежуточная область между музыкой и поэтикой.
1.2 Обмен между музыкальным и словесным.
1.2.1 От слова к музыке.
1.2.2 От музыки к слову.
1.3. Музыка разрушает словесный текст? (Из истории представления о подчиненности слова музыке).
Глава 2. Принципы эволюции представлений о словесной музыке.
2.1 Оппозиция «естественное/искусственное» в истории словесной музыки.
2.2 Оппозиция «космическое / человеческое» в истории словесной музыки.
2.3 Оппозиция «структурное-архитектоническое / аструктурное-текучее» в истории словесной музыки.
Глава 3. Две основные концепции словесной музыки.
3.1 Словесное произведение как музыкально устроенный «космос».
3.1.1 Мелодия.
3.1.2 Гармония.
3.1.3 Concordia discors и словесная полифония.
3.1.4 Музыка как область идеальных словесных форм.
3.2 Словесное произведение как выражение «внутренней музыки».
3.2.1 Музыка в средневековой аллегорике.
3.2.2 «Внутренняя музыка» романтизма.
3.2.2.1 Интериоризация «музыки сфер».
3.2.2.2 Феномен личных музыкальных моделей.
3.2.2.3 Музыкальные модели в романтической поэтике: оправдание беспорядка, метафоры «потока» и «тона».
Глава 4. Музыкальные категории в теории родов и жанров.
4.1 Музыкальные модели в развитии теории лирического рода.
4.1.1 Новое представление о музыке как немиметическом искусстве.
4.1.2 Возникновение представления о «поэзии для музыки».
4.1.3 Перенос музыкальных моделей на лирику.
4.1.4 Лирика в системе трех родов.
4.2 Музыкальные аналогии в теории романа на примере английской критики 18 в.).
Глава 5. О двух типах понимания музыкального в литературоведении XX века.
5.1 Музыкальное как «усиление» формы.
5.2 Музыкальное как «разрушение» формы.
Введение диссертации2007 год, автореферат по филологии, Махов, Александр Евгеньевич
Использование музыкальных понятий и терминов в поэтологических текстах — давняя практика, восходящая к Аристотелю: именно он закладывает основу долгой традиции, когда называет «мелодию» (mélos), в числе средств, которыми поэты пользуются в ряде словесных жанров (дифирамбическая поэзия, номы, трагедия, комедия), чтобы достичь своей цели — «подражания» (Поэтика. 1447b.). Поэзия, по Аристотелю, включает в себя «мелодию» как свою составную часть. С другой стороны, уже в античности было возможно и обратное осмысление ситуации: «слово» является составной частью мелодии, «мелоса» — в соответствии с формулировкой Платона: «в мелосе есть три части: слово (логос), гармония и ритм» (Государство. III. 398d.).
Таким образом, уже в самых ранних и основополагающих текстах европейской поэтики заложена возможность не только тесного переплетения музыкальной и собственно поэтологической терминологии (у Платона и Аристотеля эти две области существуют пока еще в неразрывном единстве, соответствующем синкретическому состоянию самого словесно-музыкального искусства — mousikë), но и грядущего спора о соотношении музыкального и словесного — спора, в ходе которого то музыка будет «включать» в себя слово, то, напротив, слово «подчинять» себе музыку.
Поэтологи сохранят в своих схемах платоновско-аристотелевские понятия «мелодии» и «гармонии» даже и тогда, когда первоначальное единство музыки и словесности будет безвозвратно утрачено и тезис о мелодии и гармонии как составных частях поэзии станет уже не слишком понятным и очевидным. Так, Г. И. Фосс (Vossius) в своей поэтике (1647) определяет три способа имитации-подражания (re qua imitamur) как «речь, гармонию, ритм» (sermo, harmonía, rhythmus)1.
На протяжении многих веков в поэтике продолжает существовать и восходящий к античности пласт музыкальных понятий, и сама проблема соотношения словесности и музыки. Казалось бы, эта проблема находит решение в общем месте, которое повторяется на протяжении столетий многими поэтологами: словесное произведение, уже отделившее себя от музыки, может обладать некими качествами музыки, «музыкальностью»; в слове есть своя собственная «музыка», более того — без музыки нет и настоящей поэзии. Это общее место облекалось в различные словесные формулы: от средневековой сентенции «Без музыки ни одна наука не может быть совершенной, нет ничего без музыки (sine música nulla disciplina potest esse perfecta, nihil enim est sine ilia)»2 до требования поэтического манифеста П. Верлена («Art poétique»): «Музыки прежде всего (De la musique avant toute chose.).
Представление о музыкальности, присущей по крайней мере некоторым жанрам и формам словесного искусства, кажется вполне очевидным3. Но в чем, собственно, состоит музыкальность слова? Заключена ли она в соразмерности и пропорциональности, свойственной музыке как «науке о числах»
1 Vossiiis G. J. Poeticarum Institutionum Libri Tres. — Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1647. — Lib. II, Cap. 1: De divisione poematum. § 2.
2 Isidorus Hispalensis. Etymologiae // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 82. Col. 163 (Lib. 3, cap. 17); Rabanus Maurus. De universo // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1852. — Vol. 111. Col. 495 (Lib. 18, cap. 4); за ними этот топос повторяется в специальных музыкально-теоретических трактатах, например, у Якоба (Жака) Льежского в «Зерцале музыки» (конец XIII — начало XIV вв.), со ссылкой на Исидора: Jacobi Leodiensis Speculum musicae / Ed. R. Bragard // Corpus scriptorum de música. — Vol. 3. Part. 1. — Rome, 1955. — P. 23.
3 Среди немногих оппонентов идеи музыки слова — Сёрен Кьеркегор. музыка выражает «непосредственное», слово же связано с рефлексией, которая убивает все непосредственное, — вот почему «в слове невозможно выразить музыкальное» {Kierkegaard S. Entweder/Oder / Übersetzt von W. Pfleiderer und Ch. Schrempf. — Jena: Diderichs, o. J. — Bd 1. S. 63). определение, ставшее общим местом средневековых трактатов), — или, напротив, в бесструктурной текучести, увиденной в музыке романтиками, а вслед за ними — А. Ф. Лосевым («чистое музыкальное бытие» есть «предельная бесформенность и хаотичность»4)? Следует ли считать музыкальным то словесное произведение, которое обладает лишь «неким согласием звуков, услаждающим слух» (Дж. Патнем5), — или, быть может, то, в котором, как в музыке по Шопенгауэру, непосредственно выражена сущность вещей, «мировая воля»? Быть может, музыка слова — это уход в область чистой игры форм, если, конечно, прав Эдуард Ганслик, считавший, что «формы, движущиеся в звучании», и есть единственное содержание музыки?6 А может быть, музыкальное — это момент содержания, а не формы, если музыка в самом деле — аналог «внутренних движений души» (Ф. Шиллер7), или же «растворение нашего сознания в восприятии вечного» (К. Зольгер8), или же выражение «субъективного единства опыта» (Сьюзен Лангер9)?
Так что же имеют в виду, когда в словесном произведении в очередной раз находят музыку как нечто само собой разумеющееся, не требующее объяснений и оговорок? Ведь представление о музыкальном, взятое в своем историческом развитии, распадается на множество различных толкований.
Неопределенность, присущая идее «словесной музыки», объясняется, на наш взгляд, особенностями эволюции этой идеи. На протяжении веков
4 Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики (1927) // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. — М, 1990. — С. 209.
5 Pattenham G. The arte of English poesie. — Cambridge: University Press, 1970 (repr. ed. 1589). — P. 79.
6 HanslickE. Vom Musikalisch-Schönen. —Darmstadt, 1965 (repr. ed. 1854). — S. 32.
7 Schiller F. Über Matthissons Gedichte // Schillers Werke. Nationalausgabe: In 42 Bdn. — Weimar: H. Böhlaus, 1958. — Bd 22. — S. 272.
8 Solger K. W. F. Vorlesungen über Ästhetik. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. — S. 341.
9 Langer S. Feeling and Form: A theory of art developed from philosophy in a new key. — L.: Routledge and Kegan Paul, 1953. — P. 126. представления поэтологов о соотношении музыки и словесности не раз претерпевали изменения, — однако эта изменчивость скрыта за относительной простотой и единообразием конечного вывода: поэзия — в своем роде музыка, поэт — в своем роде музыкант. Не будет преувеличением сказать, что с этими утверждениями согласились бы разные поэтологи — такие как, например, Дионисий Галикарнасский, Эсташ Дешан, Новалис, Стефан Малларме; однако на самом деле все они поняли бы их по-разному.
Осознание этой ситуации обусловило необходимость рассматривать вопрос о функционировании музыкальных терминов и понятий в поэтологи-ческих текстах не только теоретически, но и исторически — как вопрос истории поэтики. Всякое представление о «музыкальном начале» в поэзии обусловлено той или иной поэтологической традицией. Вместе с тем ясное осознание этой исторической обусловленности чрезвычайно важно для современного литературоведения, в котором, при огромном количестве «типологических» и «междисциплинарных» работ, так или иначе применяющих к литературе музыкальные категории, практически отсутствует понимание того факта, что смысл самого понятия «музыка» далеко не безусловно и абсолютно. Во-первых, он практически всегда был различным для профессионалов-музыкантов и поэтологов, рассуждающих о музыке; а во-вторых, в пределах самой поэтики представление о музыке, воплощаемой в слове, неоднократно менялось на прямо противоположное.
Отсутствие исторической рефлексии в вопросе об усвоении поэтикой музыкальных терминов приводит к тому, что в литературоведении 20 века при применении музыкальных терминов к феноменам словесного ряда нередко возникали парадоксы, как правило, не замечаемые самими исследователями.
Первый из них — парадокс исторической несогласованности: он состоит в том, что к словесным произведениям одной эпохи и одного исторического типа художественного мышления применяются музыкальные модели, взятые из другой эпохи и соответствующие другому историческому типу художественного мышления. Так, О. Людвиг «общую форму» пьес У. Шекспира трактовал как музыкальную сонатную форму: тем самым на ренессансную драматургию переносилась форма, сформировавшаяся значительно позднее, в эпоху Просвещения10. Идея полифонического романа, развитая М. М. Бахтиным, тоже таит в себе исторический парадокс: из его концепции следует, что в литературе полифония возникает по меньшей мере на тысячу лет позднее, чем в музыке; при этом полифония, в музыке связанная прежде всего со средневековым и барочным художественным мышлением, в литературе проявляет себя в совершенно иной эстетической формации — в поэтике романа Новейшего времени. Ни в коей мере не утверждая, что такая историческая несогласованность представляет собой нечто невозможное, мы тем не менее считаем, что она требует по крайней мере теоретического осмысления.
Второй парадокс можно назвать парадоксом формальной неоднозначности. Он заключается в том, что в одном и том же словесном произведении усматриваются разные, и при этом нередко взаимоисключающие музыкальные модели. Так, в общепризнанном образце «словесной музыки» — одиннадцатом разделе «Улисса» Дж. Джойса («эпизод сирен») усматривали и сквозную форму, основанную на применении лейтмотивов (Э. Р. Курциус), и фугу (С. Джилберт, Л. Левин), и «контрапунктические вариации» (X. Петри)11.
Первый парадокс показывает, что применение музыкальных моделей к словесному произведению происходит, как правило, без учета исторической
10 Ludwig О. Allgemeine Form der Shakespearischen Komposition (Studien aus dem Jahren 18601865) // Ludwig O. Shakespeare-Studien. — Halle: Gesenius, 1901. — S. 375-376.
11 Обзор интерпретаций этого эпизода см. в кн.: Petri Н. Literatur und Musik. Form- und Strukturparalellen. — Göttingen: Sachse und Pohl, 1964. — S. 35-43. Fuga per canonem обна-руживется в этом эпизоде Лоренсом Левиным: Levin L. The «Sirens» Episode as Music: специфики этих моделей и без оглядки на возникающие при таком применении «анахронизмы»: исторически сложившаяся система музыкальных форм понимается литературоведом как набор идеальных универсальных вневременных структур.
Второй парадокс свидетельствует о том, что сам принцип прямой аналогии между словесными произведениями и музыкальными моделями крайне уязвим: если бы в словесном произведении на самом деле воплощалась та или иная музыкальная форма, то взаимоисключающие толкования этой формы были бы невозможны (ведь невозможно представить себе музыкальное произведение, которое можно интерпретировать одновременно, например, как фугу и как сквозную лейтмотивную форму).
Таким образом, представление о соотношении словесного и музыкального в современном литературоведении основано на двух крайне проблематичных посылках: 1) музыкальная форма — внеисторическая данность, некая идеальная структура, которая может воплощаться в произведениях различных эпох; 2) музыкальная форма может находить непосредственное воплощение в словесном произведении. Как видим, данные посылки порождают описанные выше парадоксы.
Практика крайне некритического, неотрефлексированного — ни теоретически, ни исторически — использования музыкальных терминов в современном литературоведении свидетельствует о том, что сама проблема соотношения поэтики и музыкознания остро нуждается в историко-теоретическом осмыслении. Такое осмысление и предлагается в настоящей работе. В ней ставятся две основные задачи. Первая из них состоит в том, чтобы реконструировать механизм взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и идей; вторая — в том, чтобы проследить исторический про
Joyce's experiment in prose polyphony // James Joyce Quarterly. — 1965. — Vol. 3, № 1. — P. цесс этого взаимодействия, который привел к современному состоянию данной литературоведческой проблемы. Исследование, таким образом, имеет теоретический аспект, поскольку в нем реконструется система факторов, которая обеспечивала и обеспечивает взаимодействие между поэтикой и представлениями о музыке. Но оно имеет и исторический аспект, поскольку это взаимодействие показано в его диахронном развертывании. Материалом исследования служат поэтологические и литературоведческие тексты (от античности до 20 века включительно), в которых устройство и назначение словесного произведения истолковано посредством музыкальных терминов и понятий.
Новизна работы определяется двумя факторами. Во-первых, в ней впервые выделен в качестве предмета исследования сам процесс взаимодействия между поэтикой и системой музыкальных понятий и терминов: не предлагая собственных аналогий между музыкой и словом12, автор делает
12-24.
12 Проблеме соотношения музыки и слова посвящены многочисленные отечественные и зарубежные работы, учтенные в настоящем исследовании, в т. ч.: Walzel О. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Berlin-Neubelsberg, 1923; Petri H. Literatur und Musik. Form- und Strukturparallelen. Göttingen, 1964; Winn J. A. Unsuspected eloquence. A history of the Relations berween Poetry and Music. New Haven and London: Yale University Press, 1981; Вейдле В. Музыка речи // Музыка души и музыка слова. Лики культуры: альманах. М., 1995; Михайлов А. В. Слово и музыка. Музыка как событие в истории Слова // Слово и музыка. Материалы научных конференций (Научные труды Московской гос. консерватории им. П. И. Чайковского. Кафедра истории русской музыки. Сб. 36). М., 2002. С. 6-23; Холопова В. Н. Язык музыкальный и словесный: их системное сопоставление // Там же. С. 43-51. В философском аспекте эта проблема рассмотрена С. Лангер: Langer S. Feeling and form: A theory of art developed from Philosophy in a New Key. N. Y., 1953.
Особо следует выделить работы, в которых предпринята попытка определить специфику словесной музыкальности, «музыки слова» как автономного явления, отличного от музыки: Peacock R. Probleme des Musikalischen in der Sprache // Weltliteratur. Festgabe für F. Strich zum 70 Geburtstag. Bern. 1952; Hollander J. Vision and resonance: Two senses of poetic form. N. Y., 1975; Бураго С. Музыка поэтической речи: Литературно-критический очерк. Киев, 1986; Азначеева Е. Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. Пермь, 1991; Магомедова Д. М. «Музыкальное» в литературе // Литературоведческие термины: Материалы к словарю. Коломна, 1999. С. 428-430; Не-взглядова Е. В. Интонационная теория стиха // Музыка и незвучащее. М.: Наука, 2000. С. предметом теоретической рефлексии поэтологический механизм, порождающий подобные аналогии. Во-вторых, феномен функционирования музыкальных понятий в качестве поэтологических впервые рассмотрен в широкой исторической перспективе, определены особенности, отличающие применение музыкальных терминов в поэтологических системах разных эпох — античности, средневековья, ренессанса, барокко, романтизма и др.
Методологическая основа исследования. В настоящей работе использованы результаты двух направлений литературоведческих исследований: с одной стороны, это междисциплинарные (или, как их принято называть в последние годы, «интермедиальные») работы по проблеме соотношения музыки и словесности (труды А. В. Михайлова, В. Н. Холоповой, Д. М. Магомедо-вой, О. Людвига, О. Вальцеля, В. Виоры, В. Флемминга, И. Миттенцвая, К. Брауна, С. П. Шера, Дж. Уинна, В. Вольфа, Ж.-Л. Купера, Дж. Фетцера, X. Фрике, X. Кронеса и др.); с другой, - работы по истории поэтики и риторики, в которых так или иначе затрагивается вопрос об использовании в них музыкальных понятий (монографии и статьи К. Берри, С. Бернар, К. Борински, А. Бука, С. Лемпицкого, К. Шерпе, X. Пейера, Ф. Клодона, К. К. Гринфилд, С. К. Хенингера-младшего, Э. Каллхед и др.). В работах первого направления во второй половине 20 в. было выработано важное для настоящего исследования представление об интенсивном взаимообмене терминами между музыкознанием и теорией словесности; в ходе этого взаимообмена музыкальные термины теряли свое «буквальное» значение и превращались в метафоры, наделенные новыми, поэтологическими смыслами. Работы второго направления показали значимость музыкальной терминологии в истории поэтики.
Апробация. Основные положения работы излагались в 1994-2006 на конференциях и семинарах в ИМЛИ (в т. ч. на конференции «Слово и музы
128-129; Махов А. Е. Музыкальность // Литературная энциклопедия терминов и понятий. ка», 1994), ИНИОН РАН (в т. ч. на конференции «Феномен М. В. Юдиной как духовный синтез», 1999), МГУ (в т. ч. на международной конференции «А. С. Пушкин и мировая культура», 1999, на конференции «Культура и литература XX века: между множественностью и единством», 2001), Гос. институте искусствознания (в т. ч. На конференции «Теория искусства в конце XX века: итоги и перспективы», 1999), РГГУ, Государственном республиканском центре русского фольклора, Тверском государственном университете и др. Идеи докладов использованы в публикациях в журналах «Музыкальная академия», «Российский литературоведческий журнал», «Вопросы литературы»; сборниках «Наука о литературе в XX веке (История, методология, литературный процесс)» (ИНИОН РАН), «Искусство и наука об искусстве в переходные периоды истории культуры» (Гос. институт искусствознания), «Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах». Основные положения диссертации легли в основу статей в энциклопедиях, подготовленных на базе ИНИОН РАН: «Литературная энциклопедия терминов и понятий» и «Западное литературоведение XX века». Работы по теме диссертации включены в ряд учебных программ (в т. ч. курс «Введение в музыкальные культуры мира» кафедры Теории и истории культуры Российского университета Дружбы Народов; курсы «История мировой культуры», «История зарубежной литературы первой половины XIX века» Института высших гуманитарных исследований РГГУ; курс «История культурологии» кафедры теории и истории культуры РГГУ). Идеи, сформулированные в публикациях по теме, нашли дальнейшее развитие в работах ряда современных исследователей (И. Е. Борисова, С. Г. Бочаров, К. Эмерсон13).
М., 2001. С. 595-600.
13 Борисова И. Е. Музыкальные интуиции русской романтической мистики // Вестник РХГИ: Электронный журнал. 2004, № 5; Бочаров С. Г. Бахтин-филолог: книга о Достоев
На защиту выносятся следующие положения:
Начиная с трактата Дионисия Галикарнасского «О расположении слов» (1 в. дон. э.)в поэтике существует представление о том, что словесное произведение обладает некой собственной музыкой — «музыкой слов», которая отлична от музыки звуковысотно фиксированных тонов; поэзия — «другая музыка» («l'autre musique») (Э. Дешан, 14 в.)14.
Моделируемая в поэтологических текстах музыка слов — автономное явление, которое нельзя рассматривать как непосредственное отражение современной ей музыкальной практики. Так, раннеромантическое представление о словесной музыке как изменчивом потоке намного опережает современное музыкальное мышление, предвосхищая сквозную лейтмотивную форму (оперы Р. Вагнера), которая появится в музыке лишь полвека спустя.
Устойчивое представление о существовании музыки слов стало возможным благодаря трем идеям о музыке, восходящим к пифагорейской традиции: 1) Музыка — принцип космической архитектоники, она обуславливает гармоничную устроенность космоса; 2) Музыка выражает внутреннюю природу человека — его «нрав»; 3) Музыка — высшее из искусств или присущий всем им универсальный принцип. Эти три идеи позволяют поэтологам воспринимать систему музыкальной терминологии как набор универсальных общеэстетических принципов, которые могут быть перенесены на словесное произведение.
Представления о словесной музыке формируются в процессе понятийного взаимообмена между поэтологическими системами, с одной стороны, и терминологической системой музыкознания и комплексом идей о муском // Вопросы литературы. 2006. Март-апрель. С. 48-67; Эмерсон К. Двадцать лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Там же. С. 12-47.
14 Deschamps Е. L'art de dictier et de fere chançons. // Oeuvres complètes: In 11 vol. / Ed. G. Raynaud. — P.: Firmin-Didot, 1891. — Vol. 7. — P. 270. зыке, с другой. В процессе этого взаимообмена некоторые термины и понятии успели побывать и на территории словесности, и на территории музыки, став, по сути дела, их общей собственностью.
В ходе эволюции представления о словесной музыке его центральный тезис (писатель — в своем роде музыкант, его произведение — в своем роде музыка) оставался неизменным, однако его смысл неоднократно менялся на противоположный; можно выделить по крайней мере три оппозиции, оба полюса которых на том или ином этапе ассоциировались с музыкальным: естественное / искусственное; космическое / человеческое; архитектоническое / текучее.
Первоначальное синкретическое единство поэзии и музыки не исчезло полностью, но перешло в скрытую, латентную форму, породив представление о музыкальности лирики (в современном понимании этого слова). Внешняя связь слова с музыкой претерпела интериоризацию: музыка, перестав быть необходимым внешним моментом в исполнении поэтического текста, была переосмыслена как его внутреннее качество. Этот процесс инте-риориоризации — превращения музыки во внутренний момент собственно словесного произведения — сыграл важную роль в формировании представления о лирике как литературном роде: музыкальность выступила в роли особого качества лирики, отличавшего ее от других литературных родов.
В истории поэтики постоянно соперничали две основные концепции словесной музыки: она понималась либо как отражение небесной гармонии, музыкально устроенного космоса, либо как выражение внутренней «музыки души». Эти две концепции определили два основных направления в понимании словесной музыки, характерных для литературоведения XX века.
Очерк истории вопроса
Если предметом данного исследования служат поэтологические тексты «нормативного» характера (те, в которых музыкальные понятия использованы для изложения представлений о том, каким должно быть словесное произведение, как нужно сочинять и т. п.), то его теоретическую основу составляют уже собственно литературоведческие работы (как интермедиальные исследования проблемы «литература и музыка», так и работы по истории поэтики и риторики), в которых нормативный подход уступил место аналитическому. Границу между текстами первого и второго типов, впрочем, не всегда легко провести.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Система понятий и терминов музыковедения в истории европейской поэтики"
367 Заключение
В европейской поэтике на протяжении всей ее истории существовало представление о «музыке слова», словесной музыке» как особом типе организации литературного произведения; это представление конкретизировалось при помощи понятий и терминов, заимствованных из учений о музыке. Однако эффект музыкальности слова, отмечаемый в многочисленных поэтологи-ческих и литературоведческих текстах, всегда остается в значительной степени иллюзорным, поскольку специфически музыкальные средства выразительности, связанные с фиксированной звуковысотностью, литературе недоступны. Аналогии между музыкой и словесным искусством, проводимые по-этологами различных эпох, как правило, имели опосредованный характер и фактически включали в себя три момента: 1) отождествление музыки с некой умозрительной идеей или общеэстетическим принципом; 2) перенос этой идеи или принципа на словесное произведение; 3) отождествление словесного произведения с музыкой на основании общности лежащего в их основе принципа. Так, утверждение Ф. Сидни о том, что поэзия — это «планетоподобная музыка» («planet-like music of poetry»), распадается на вышеуказанные три момента: 1) музыка отождествляется с космической гармонией сфер; 2) поэзия также рассматривается как проявление гармонии сфер; 3) из двух первых моментов следует, что поэзия — в своем роде музыка. Таким образом, в поэтологических сопоставлениях музыки и словесности под «музыкой» на самом деле имеется в виду не музыка как таковая, но некое теоретическое, умозрительное представление о ней.
Внутреннее, «умственное» созерцание музыки и выводимые их этого созерцания представление о ее структуре (представления, ни в коей мере не совпадавшие с «техническими» постулатами профессионального музыкознания) — вот что служило источником вдохновения для поэтологических построений, создатели которых, как правило, не обладали специальными музыкальными знаниями. Умозрительные модели музыки, ее воображаемые структуры (далеко не всегда имевшие отношение к реальной звучащей музыки) создавались и сменяли друг друга на протяжении многих веков — в эпоху романтизма возникает даже феномен «личных» музыкальных моделей, порождаемых воображением того или иного романтика на основе глубоко личного, субъективного слушательского опыта. Совокупность этих умозрительных (и нередко совершенно фантастических с точки зрения музыканта-профессионала) квази-музыкальных структур, воспринимавшихся поэтолога-ми как модели и образцы для словесного, образует область, которую мы обозначили заимствованным у В. Виоры термином «трансмузыкальное». Взаимодействие между музыкой и поэтикой, происходящее опосредованно, в области «трансмузыкального», описано нами не как статичное «уподобление» словесного произведения музыкальному, но как активный взаимообмен терминами и понятиями, идущий в двух направлениях: от слова к музыке и от музыки к слову. Стимулом этого взаимообмена служит взаимная направленность музыки и литературы друг на друга как на область моделей: в те или иные моменты истории определенные свойства музыки воспринимаются словесностью как «образец», к которому нужно стремиться, и наоборот, — музыка могла в определенные моменты устремляться к тем или иным свойствам литературы как к новонайденному «идеалу». Следует снова подчеркнуть, что с профессиональной, «технической» точки зрения образец/модель нередко оказывались фиктивными: так, модель бесконечной изменчивости (выражаемой в метафоре «потока»), которую романтическая поэтика открывает для себя в музыке, объяснима лишь абсолютно дилетантским подходом к музыке романтических поэтологов: профессиональное музыкознание этой эпохи, разумеется, ни о каком «потоке» ничего не ведает. Тем не менее этот «дилетантский» подход оказался в высшей степени продуктивным, поскольку словесная музыка», созданная романтиками на основе этой фиктивной модели, повлияла и на формирование собственно музыкального романтизма, и на позднейшую романтическую музыкальную эстетику (например, теория «бесконечной мелодии» Р. Вагнера)
С точки зрения профессионального ритора вряд выглядит реалистичным и представление о музыке как «второй риторике», возникшее как важный момент в истории ориентации музыки на словесность: тем не менее эта фиктивная идея также оказалась чрезвычайно продуктивной, поскольку перенос риторических моделей в музыкальную сферу в конечном итоге способствовал формированию классических музыкальных форм (в том числе и сонатной).
По ходу этого взаимообмена понимание музыки как модели для словесного произведения неоднократно менялось на противоположное; в работе выделено три оппозиции, с обоими полюсами которых музыка ассоциировалась на разных исторических этапах: естественное/искусственное; космическое / человеческое (или, формулируя иначе, — внешнее-мировое / внутреннее-личное; структурное-архитектоническое / аструктурное-текучее.
В целом все многообразие высказываний о «словесной музыке» в европейской поэтике можно свести к двум базовым умозрительным идеям о сущности музыки: музыка понимается либо как отражение небесной гармонии, музыкально устроенного космоса (música mundana, в терминах трактата Боэция); либо как выражение субъективной «музыки души» (по Боэцию, música humana). В соответствии с этими двумя базовыми типами умозрительной музыки «музыка слова» в европейской поэтике трактована либо как отражение
766 Парадокс формирования романтической музыки в словесной сфере, которое опережало музыкальную практику и послужило для нее образцом, рассмотрен нами в монографии: Махов А. Е. Ранний романтизм в поисках музыки: Слух. Воображение. Духовный быт. —М.: Лабиринт, 1993. — 127 с. рациональной космической гармонии, либо как выражение души в ее иррациональных глубинах: первому пониманию сопутствовали мотивы «меры и числа», строгой и стройной пропорциональности, второму — мотивы гибкой и безграничной изменчивости, прихотливости, непредсказуемости. В первом случае «музыка слова» являла себя как космически стройная структура, во втором — как изменчивый поток.
Первый базовый тип понимания музыкальности характерен для поэтики Средневевековья и особенно Ренессанса. Музыка в эти эпохи трактуется как «наука о числах», описывающих систему небесной гармонии; поэзия должна уподобиться музыке и также стать «инструментом, заключающим в себе небесную гармонию» (Колуччо Салутати). Числовой трактовкой «словесной музыки» объясняются многочисленные безуспешные попытки средневековых и ренессансных теоретиков (Иоанн Гарландия, Колуччо Салутати, Дж. Патнем и др.) применить к поэзии арифметические пропорции, описывающие систему музыкальных интервалов.
Переход ко второму типу понимания музыкальности происходит в эпоху предромантизма и романтизма, когда меняется и представление о сущности музыки: из «космической» она становится «человеческой», трактуясь отныне как «естественный» язык чувства. Музыка перестает восприниматься как образец архитектонической стройности; в ней акцентируется аструктур-ная текучесть, которая идеально соответствует изменчивости человеческой души. Именно в таком качестве, как «поток», гибко следующий за переменами душевных состояний, музыка теперь служит моделью для литературы. Позднейшие поэтологические концепции музыкальности (в частности, в символизме и модернизме) также в той или иной мере варьируют эти базовые типы. Так, парадоксальная позиция С. Малларме, считавшего, что именно в поэзии музыка очищается от чуждой ей чувственности звучания и обретает свою подлинную интеллектуальную «беззвучную» сущность, в целом ориентирована на первый тип: музыка слова — это «совокупность отношений, существующих во всём».
В XVIII веке ориентация литературной теории на музыкальные модели сыграла решающую роль в формировании теории нового литературного рода — лирики. Если прежде «лирика» трактовалась как вид поэзии, предназначенной для пения, то теперь она выделяется в род, объединяющее начало которого — идея немиметического выражения, образцом для которого служит музыка. При этом связь лирики с музыкой не исчезает, но претерпевает процесс своеобразной интериоризации: из внешнего атрибута лирики музыка становится ее внутренним принципом, поскольку музыка — модель особого типа творчества, основанного на «выражении без изображения».
Два основных типа словесной музыки, соответствующих «образам» космически стройной структуры и изменчивого потока, обусловили и два направления трактовки музыкальности в литературоведении XX вв.: музыкальность слова трактуется либо как «аномальное» (на фоне «обычного» текста, признаваемого «немузыкальным») усиление структурно-архитектонических моментов, либо, напротив, как их ослабление.
Каждому из двух типов соответствует определенный набор терминов, мотивов, топосов, которые и выделены в диссертации. Поскольку в позднейшей музыкальной эстетике, философии музыки, литературоведении эти термины продолжают существовать как бы инкогнито, без учета заложенной в них исторической памяти, то осуществленная в диссертация реконструкция истории терминов позволяет анализировать «историческую топику» (по выражению Э. Р. Курциуса), скрытую в текстах Нового и Новейшего времени. Покажем это на примере одного пассажа из «Рождения трагедии.» Ф. Ницше, в котором философ противопоставляет «аполлоническую» и «дионисийскую» музыку: «Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, но в тонах, едва намеченных, как они свойственны кифаре.
Тщательно устранялась, как неаполлоническая, та стихия, которая определяет характер дионисической музыки, а вместе с тем и для музыки вообще, — потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии»767. Нетрудно заметить, что в этом высказывании, по сути дела, противопоставляются два описанных нами типа музыкальности: формула «архитектоника в тонах» подразумевает пропорциональность и меру как основу музыки; этой «архитектонике» противопоставлено «могущество тона» — т. е. та существующая вне пропорциональности и меры стихийно-природная основа музыки, которую открыли Гердер и романтики. То, что Ницше описал как столкновение аполлонического и дионисийского начал, в демифологизированном виде, в контексте реконструируемой нами «исторической топики», предстает как конфликт двух типов музыкальности, которые в истории поэтики обнаруживают себя в ренессансной метафоре музыкального «космоса» и в романтическое метафоре «потока», а в более общем контексте идей о музыке — в противостоянии двух боэцианских типов умозрительной музыки (música mundana и música humana).
Другой пример выявления «исторической топики» — реконструкции поэтологических мотивов «словесной музыки» в современном тексте, не ссылающемся открыто на стоящую за ним традицию, — мы дадим, обратившись к «Анатомии критики» Нортропа Фрая. Канадский исследователь предлагает такое понимание словесной музыки: «Такие обороты, как "гладкий музыкальный поток" или "грубый немузыкальный выбор слов", демонстрируют сентиментальное понимание слова "музыкальное". Более вероятно, что
767 «Die Musik des Apollo war dorische Architektonik in Tönen, aber in nur angedeuteten Tönen, wie sie der Kithara zu eigen sind. Behutsam ist gerade das Element, als unapollinisch, ferngehalten, das den Charakter der dionysischen Musik und damit der Musik überhaupt ausmacht, die erschütternde Gewalt des Tones, der einheitliche Strom des Melos und die durchaus unvergleichliche Welt der Harmonie». — Nietzsche F. Die Geburt der Tragödie // Werke. — Leipzig: Alfred Kröner, 1917. — Abt. 1, Bd 1. — S. 28. именно грубое, шероховатое, диссонантное стихотворение. претворит в поэзии то напряжение и энергичный акцентированный напор, которые присущи музыке. Тщательно выверенный баланс гласных и согласных, мечтательный чувственный поток звуков, скорее всего свидетельствуют о том, что перед нами немузыкальный поэт. Острые акценты, трудный и темный язык, нагромождения согласных, тяжелые многосложные конструкции — вероятные признаки того, что мы имеем дело с мелосом, или с поэзией, которая обнаруживает в себе аналогию с музыкой.»
Понимание музыкального у Фрая соответствует его одному определенному историческому типу — а именно, барочному, для которого центральным становится понятие диссонанса; этому пониманию Фрай придает абсолютное вневременное значение, выдавая его за «музыку вообще» и поддаваясь тем самым часто подстерегающему литературоведа соблазну видеть в исторически обусловленном типе музыкального некую универсальную константу, якобы выражающему «сущность музыки» как таковую.
Пример Ницше показывает, что изменчивость словесных формулировок и многообразие комбинаций, образуемых мотивами словесной музыкальности, не могут скрыть устойчивости их общего состава и неизменности тех двух основных типов, к которым они так или иначе принадлежат. О другой стороне ситуации напоминает текст Фрая: сколь устойчивым ни был бы состав формул, лежащих в основе поэтологических текстов на тему словесной музыки, их комбинации образуют неповторимые исторические вариации
768 «Such phrases as "smooth musical flow" or "harsh unmusical diction" belong to the sentimental use of the word musical. It is more likely to be the harsh, rugged, dissonant poem . that will show in poetry the tension and the driving accented impetus of music. When we find a careful balancing of vowels and consonants and a dreamy sensuous flow of sound, we are probably dealing with an unmusical poet. When we find sharp accents, crabbed and obscure language, mouthfuls of consonants, and long lumbering polysyllables, we are probably dealing with melos, or poetry which shows an analogy to music.» —- Frye N. Anatomy of criticism. — N. Y.: Atheneum, 1967.—P. 256
374 подтипы, рассмотрение которых лишило нас возможности говорить о музыке как некоей неизменной эстетической универсалии, но зато позволило осмыслить эволюцию словесной музыкальности как историю постоянного переосмысления самой сущности музыки.
Список научной литературыМахов, Александр Евгеньевич, диссертация по теме "Теория литературы, текстология"
1. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Поэтика. Риторика / Перев. В. Г. Аппельрота, О. П. Цыбенко. — М.: Лабиринт, 2000. — С. 149-181.
2. БлокА. А. Записные книжки 1901-1920. — М.: Художественная литература, 1965. — 662 с.
3. Данте. О народном красноречии // Малые произведения. М.: Наука, 1968, — С. 270-304.
4. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов / Перев. М. Л. Гаспарова // Античные риторики. — М.: Издательство Московского университета, 1978, —С. 167-221.
5. Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи / Перев. Ю. Н. Стефанова. — М.: Искусство, 1976. — 766 с.
6. Жубер Ж. Дневники / Пер. О. Э. Гринберг // Эстетика раннего французского романтизма. — М.: Искусство, 1982. — С. 308-376.
7. Музыкальная эстетика Германии XIX века / Сост. Ал. В. Михайлова и В. П. Шестакова. — М.: Музыка, 1981. — Т. 1-2.
8. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII — XVIII веков / Сост. В. П. Шестакова. — М.: Музыка, 1971. — 688 с.
9. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Пер. Г. А. Рачинского // Сочинения: В 2 т. — М.: Мысль, 1990. — С. 47-157.
10. Платон. Государство / Пер. А. Н. Егунова // Собрание сочинений: В 4 т. —М.: Мысль, 1994. — Т. 3. — С. 79-420.
11. Платон. Лахет / Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн // Собрание сочинений:
12. В 4-х т. — М.: Мысль, 1994. Т. 1. — С. 268-294.
13. Шеллинг В. Ф. Философия искусства / Перев. П. С. Попова. — М.: Мысль, 1966.— 496 с.
14. Шлегель Ф. О «Мейстере» Гете // Шлегелъ Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. / Перев. Ю. Н. Попова. — М.: Искусство, 1983. — Т. 1. — С. 317-335.
15. Absalon Sprinckirsbacensis. Sermo XX: In annuntiatione Beatae Mariae // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855, —Vol. 211, —Col. 121-122.
16. Alarms de Insulis. Anticlaudianus // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855. — Vol. 210. — Col. 482-578.
17. Alanus de Insulis. De planctu Naturae // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855. — Vol. 210. — Col. 429-481.
18. Ambrosius Mediolanensis. De Noe at Arco // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1845. — Vol. 14. — Col. 361416.
19. Ambrosius Mediolanensis. Expositio Evangelii secundum Lucam II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855. — Vol. 15, —Col. 1527-1850.
20. Arnim B. von. Die Günderode. — Leipzig: Insel-Verlag, 1984. — 519 S.
21. Augustinus. De música II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1844. — Vol. 32. — Col. 1078-1193.
22. Augustinus. In psalmum XCIX enarratio. Sermo ad plebem // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1845. — Vol. 37.1. Col. 1272-1273.
23. Augustinus. Sermo CCXLIII. In diebus Paschalibus, XIV II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1845. — Vol. 38.1. Col. 1145-1146.
24. Aureliani Reomensis Musica disciplina / Ed. L. Gushee // Corpus scriptorum de musica. — Rome.: American Institute of Musicology, 1975. — Vol. 21.1. P. 53-135.
25. Ausonius. Epistola XXIV // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1846. — Vol. 19. — Col. 934.
26. Batteux Ch. Les beaux arts réduits à un même principe. — P.: Durand, 1746.6., XIII, 5], 291 p.
27. Batteux Ch. Principles de la littérature. 5-e ed. — P.: Desaint et Saillant. 1774, —Vol. 1-5.
28. Baumgarten A. Meditationes philosophicae de nonnulis ad poema pertinenti-bus. — Hamburg: Meiner, 1983. — 94 S.
29. Bayly A. The alliance of musick, poetry, and oratory. — L.: John Stockdale, 1789.—IV, 384 p.
30. Beattie J. Essays. On poetry and music, as they affect the mind. On laughter, and ludicrous composition. On the utility of classical learning. — Edinburgh: William Creech; L.: E. and C. Dilly, 1776. — VI, 555 p.
31. Beda Venerabiiis. De arte metrica // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 90. — Col. 149-186.
32. Beethoven L. van. Brief vom 8. April 1815 an J. von Kanka // Sämtliche Briefe / Hrsg. von E. Kastner und J. Kapp. — Leipzig, o. J. — S. 306.
33. Benci F. — Orationes. — Romae: Apud Iacobum Ruffmellum, 1590. — 8., 361, [5] p.
34. Benedictio Dei // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1853. — Vol. 129. — Col. 1399-1436.
35. BernhardiA. F. Sprachlehre. — Berlin: Heinrich Frölich, 1801. — T1 1-2.
36. Blount Th. Academy of Eloquence. — Menston: Scolar Press, 1971. — 15., 232 p. (Facsimile reprint of 1st ed., L.: Printed by T.N. for Humphrey Moseley, 1654).
37. Bodmer J. J. Critische Betrachtungen über die poetischen Gemähide der Dichter // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 236263.
38. Boetius. De institutione musica // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1847. — Vol. 63. — Col. 1167-1300.
39. Boileau N. L'art poétique // Oeuvres complètes / Ed. F. Escal. — P.: Gallimard, 1966, —P. 155-185.
40. Boileau N. Réflexions critiques (Réflexion III) / Boileau N. Oeuvres complètes / Ed. F. Escal. P.: Gallimard, 1966. — P. 498-508.
41. Brentano Cl. Brief an L. Hensel, 1816 // Brentano CI. Briefe: In 2 Bdn. — Nürnberg, 1951,—Bd 2.— S. 182-183.
42. Brown Th. A Dissertation on the rise, union, and power, the progression, separation, and corruption of poetry and music. — L.: L. Davis and C. Reymers, 1763, —244 p.
43. Buchner A. Der Poet // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982, —S. 24-36.
44. Butler S. Characters and passages from note-books. — Cambridge: University Press, 1908. — XII, 490 p.
45. Byron and Shelley on the character of Hamlet / Shelley's Critical Prose / Ed. by B. R. McElderry, Jr. — Lincoln: University of Nebraska Press, 1967. — P. 146-151.
46. Campion Th. A new way of making foure parts in counter-point // Campion Th. Works / Ed. by W. R. Davis. — L. : Faber, 1969. — P. 318-420.
47. Campion Th. Observations in the art of English Poesie // Campion Th. Works / Ed. by W. R. Davis. — L.: Faber, 1969. — P. 291-317.
48. Cassiodorus Vivariensis. Expositio in Psalterium // Patrologiae cursus complétas. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1847. — Vol. 70. — Col. 1052-1054.
49. Cassiodorus Vivariensis. Institutiones divinarum et saecularium litterarum. Lib II (De artibus et disciplinis liberarium litterarum) // Patrologiae cursus complétas. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1847. — Vol. 70. — Col. 1149-1218.
50. Chabanon M. P. G. de. Observations sur la musique et principalement sur la métaphysique de l'art. — Genève: Slatkine reprints, 1969. — 215 p.
51. The Characters of Prevot, Le Sage, Richardson, Fielding, and Rousseau (Gentleman's Magazine, XL, October 1770) // Novel and Romance. 17001800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and Ke-gan Paul, 1970. — P. 274-277.
52. Clément d'Alexandrie. Le Protreptique. — P.: Cerf, 1976. — 215 p. (=Sources Chrétiennes, 2).
53. Coleridge S. T. Biographia literaria // The Portable Coleridge / Ed. by I. A. Richards. — N. Y.: Penguin books, 1977. — P. 432-629.
54. Coleridge S. T. The notebooks. Ed. by K. Coburn, A. J. Harding. — L.; Princeton: Princeton University Press, 1957-2002. — Vol. 1-5.
55. Coleridge S. T. Shakespeare's poetry // The Portable Coleridge / Ed. by I. A. Richards. — N. Y.: Penguin books, 1977. — P. 413-415.
56. Coleridge S.T. To lord Byron, 1815 // Collected letters. Ed. by L. Griggs. — Oxford, 1956 -1959. Vol. 1-4. — Vol. 4. — P. 559-560.
57. Collins W. Ode to evening // Collins W. The Works / Ed. by R. Wendorf, Ch.
58. Ryskamp. — Oxford: Clarendon Press, 1979. — P. 43-45.
59. Collins W. «Ye genii who, in secret state.» // Collins W. The Works / Ed. by R. Wendorf, Ch. Ryskamp. — Oxford: Clarendon Press, 1979. — P. 76-77.
60. Colucci Salutati De laboribus Herculis / Ed. B. L. Ullman. — Zürich, 1951.1. Vol. 1-2.
61. Crescimbeni G. M. L'lstoria della volgar poesia. — Roma: II Chracas, 1698.402 p.
62. D'Alembert J. L.J. Discours préliminaire des éditeurs // Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. — P.: Briasson etc., 1751, —Vol. 1, —P. I-XLV.
63. Davenant W. Preface to Gondibert, an Heroick Poem // The works: In 2 vol.
64. N. Y.: B. Blom, 1968. — Vol. 1. — P. 7-20.
65. De libro psalmorum // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1847. — Vol. 93. Col. 477-1098.
66. Deschamps E. L'art de dictier et de fere chançons. // Oeuvres complètes: In 11 vol. / Ed. G. Raynaud. — P.: Firmin-Didot, 1891. — Vol. 7. — P. 266292.
67. De Rhythmico dictamine // I trattati medievali di ritmica latina / Ed. G. Mari.
68. Bologna: Forni, 1971. — P. 11-16.
69. Diomedes. Artis grammaticae libri très: De poematibus // Grammatici latini / Hrsg. von H. Keil. Leipzig: Teubner 1857. — Bd. 1. — S. 482.
70. Dionysius of Halicarnassus. Critical Essays / Ed. St. Usher. — Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1974-1985. Vol. 1-2.
71. Donne J. Hymne to God my God, in my sicknesse // Donne J. The Works. — Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1994. — P. 286.
72. Eliot T. The music of poetry // Eliot T. On Poetry and Poets. — N. Y.: Farrar, Straus and Cudahy, 1957. — P. 30-36.
73. Enfield W. Review of «The Mysteries of Udolpho, a Romance. (1794)». The Monthly Review, Series 2, XV, November 1794 // Novel and Romance. 1700-1800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and KeganPaul, 1970. — P. 392-393.
74. Eschenburg J. J. Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. — Berlin: Nicolai, 1783. — 296 S.
75. Ficino M. De divino furore II Ficino M. Opera. — Parisiis, 1641. — Vol. 1. — P. 599-600.
76. Forkel J. N. Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. — Leipzig: Hoffmeister und Ktihnel, 1802. — X, 69 S.
77. Galeazzi F. Elementi teorico-practici di musica. — Roma, 1791-96. — T. 12.
78. Geoffroi de Vinsauf. Poetria nova // Les arts poétique du XII et du XIII siècle / Ed. par E. Faral. — P.: Librairie ancienne, 1924. — P. 194-262.
79. Ghil R. Traité du verbe. — P.: Giraud, 1886. — 30 p.
80. Giles of Rome. Commentary on the Song of Songs: Prologue // Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100 — c. 1375 / Ed. A. J. Minnis, A. B. Scott. — Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 1988. — P. 243-244.
81. Goethe J. W. Annalen oder Tag- und Jahreshefte II Sämtliche Werke: In 36 Bde. — Stuttgart: J. G. Cotta, 1895. — Bd 26. — VI, 344 S.
82. Gottsched J. Ch. Versuch einer critischen Dichtkunst // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 174-217.
83. Guido Aretinus. Micrologus II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1853. — Vol. 141. — Col. 379-442.
84. Hanslick E. Vom Musikalisch-Schönen. — Leipzig: Weigel, 1854. — VI, 104 S. (repr. — Darmstadt, 1965).
85. Harris J. Three Treatises. The first concerning Art. The second concerning Music, Painting and Poetry. The Third concerning Happiness. — L.: J. Nourse and P. Vaillant, 1744. — 357 p.
86. Hawkesworth J. Статья без названия в. The Adventurer, 4, Saturday, November 18,1752 // Novel and Romance. 1700-1800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and Kegan Paul, 1970. — P. 190-193.
87. Hazlitt W. On poetry in general // Hazlitt W. Essays. — N. Y. etc: Scribner, 1924, —P. 230-260.
88. Hegel G. F. Ästhetik. — В.; Weimar: Aufbau-Verlag, 1976. — Bd 1-2.
89. Heinrich Eger von Kalkar. Das Cantuagium / Hrsg. von H. Huschen. — Köln: Staufen, 1952. — 67 S. (=Beiträge zur rheinischen Musikgeschichte, Heft 2).
90. Hemsterhuis F. Lettre sur l'homme et ses rapports. P., 1772. — 242 p.
91. Herbertus de Boseham. Liber melorum // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1854. — Vol. 190. — Col. 12931474.
92. Herder J. G. Briefwechsel mit Nicolai / Hresg. von O. Hoffmann. — Berlin: Stricker, 1887. — VIII, 144 S.
93. Herder J. G. Fragmente einer Abhandlung über die Ode // Sämtliche Werke: In 33 Bdn / Hrsg. von B. Suphan. — В.: Weidmann, 1877-1913. — Bd. 32. — S. 62-91.
94. Herder J. G. Kritische Wälder. Viertes Wäldchen // Herder J. G. Werke / Hrsg. H. Düntzer. — Berlin, o. j. — T1 20. — S. 393-552.
95. Herder J. G. Die Lyra. Von der Natur und Wirkung der lyrischen Dichtkunst // // Werke / Hrsg. von H. Düntzer. — Berlin: Hempel, o. J. — T1 3. — S. 175-191.
96. Herder J. G. Ob Malerei oder Tonkunst eine grössere Wirkung gewäre? Ein Göttergesprach. // Werke / Hrsg. von H. Düntzer. Berlin: Hempel, o. J. — T12. — S. 237-250.
97. Herder J. G. Oden (von Klopstock), Hamburg, 1771 // Allgemeine deutsche Bibliothek. — Berlin und Stettin, 1773. — Bd 16, Stuck 1. — S. 109-123.
98. Herder J. G. Shakespeare // Deutsche Dramaturgie vom Barock bis zur Klassik / Hrsg von B. von Wiese. — Tübingen: Niemeyer, 1979. — S. 52-56.
99. Herder J. G. Volkslieder. Zweiter Teil. Vorrede // Herder J. G. Werke in 5 Bde. — B.; Weimar: Aufbau-Verlag, 1978. — Bd 2,— S. 293-311.
100. Herder J. G. Über den Ursprung der Sprache // Herder J. G. Werke in 5 Bde. — B.; Weimar: Aufbau-Verlag, 1978. — Bd 2. — S. 89-200.
101. Hermann the German. Translation of Averroes' «Middle Commentary» on Aristotle's «Poetics» // Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100 — c. 1375 / Ed. A. J. Minnis, A. B. Scott. — Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 1988, —P. 293-294.
102. Hieronymus de Moravia. Tractatus de musica / Ed. S. M. Cserba. — Regensburg: F. Pustet, 1935. — LXXXIV, 298 p.
103. Hildebertus Cenomanensis. Liber dictus Mathematicus // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1854. — Vol. 171. — Col. 1365-1380.
104. Hildegard of Bingen. Symphonia. A critical edition of the Symphonia armonie celestium revelationum / Ed. B. Newman. — Ithaca: Cornell University Press, 1988. — XIV, 330 p.
105. Hill A. To the Editor of Pamela // Richardson S. Pamela. — 2 ed. — London: C. Rivington; J. Osborn, 1741. — P. XVII.
106. Hoffmann E. T. A. Brief an K. Kunz, 24.3.1814 // Hoffmann E. T. A. Briefwechsel: In 3 Bde / Hrsg. von Hans von Müller, F. Schnapp. — München, 1967. — Bd 1. — S. 454.
107. Hofmannsthal H. Einige Worte als Vorrede zu St.-J. Perse «Anabasis» // Hofmannsthal H. Gesammelte Werke: In 10 Einzelbänden. — Frankfurt/M.:
108. S. Fischer, 1980. — Bd 10: Reden und Aufsätze III, 1925-1929. — S. 142147.
109. Hölderlin F. Brief an L. Neuffer, 3.7.1799 // Sämtliche Werke: In 4 Bdn. — Berlin; Weimar, 1970. — Bd 4. — S. 375.
110. Hölderlin F. Über den Unterschied der Dichtarten II Übertragungen. Aufsätze. Briefen / Hrsg. K. J. Obenauer. — Berlin und Leipzig, o. J. — S. 283-284.
111. Hopkins G. M. Poems. — L.: H. Milford, 1918. — 124 p.
112. Hugo de Folieto. De claustro animae II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1854. — Vol. 176. — Col. 1017-1183.
113. Hugo de S. Victore. Eruditio didascalica II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1854. — Vol. 176. — Col. 741-838.
114. Hunold (Menantes) Ch. F. Academische Neben-Stunden II Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 155-173.
115. Isaac de Stella. Epistola de anima II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855. — Vol. 194. — Col. 1875-1888.
116. Isidorus Hispalensis. Differentiae II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 83. — Col. 9-128.
117. Isidorus Hispalensis. Etymologiae II Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 82. — Col. 9-728.
118. Jacobi Leodiensis Spéculum musicae / Ed. R. Bragard II Corpus scriptorum de musica. — Vol. 3. Part 1-7. — Rome: American Institute of Musicology, 1955-73.
119. Joannes Chrysostomus. Expositio in Psalmum XLI // Patrologiae cursus completus. Series graeca. —Parisiis: Petit-Montrouge, 1860. — Vol. 55. — Col. 157-158.
120. Joannes Saresberiensis. De Septem septenis // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1855. — Vol. 199. — Col. 945964.
121. Joannes Scotus Erigena. De divisione naturae // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1853. — Vol. 122. — Col. 439-1022.
122. John of Garland. The Parisiana Poetria / Ed., introduction, translation and notes by T. Lawler. — New Haven; L., 1974. — XXV, 352 p. (=Yale studies in English; 182).
123. Johnson S. The Life of Cowley (from «Lives of the Poets», 1779-81) // Johnson as critic / Ed. J. Wain. — L.; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1973,—P. 254.
124. Johnson S. Статья без названия в. Rambler, 4, Saturday, March 31, 1750 // Novel and Romance. 1700-1800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and Kegan Paul, 1970. — P. 144-146.
125. Jonson B. Hymenaei // Ben Jonson: In 11 vol / Ed. by С. H. Herford, P. Simpson. — Oxford: Clarendon Press, 1925-52. Vol. 7. — P. 203-241.
126. Jonson B. The art of poetry // Englische literaturtheoretische Essays / Hrsg. von R. Ahrens. — Heidelberg: Quelle und Meyer, 1975. — Bd 1. — S. 6771.
127. Joubert J. Carnets. — P.: Gallimard, 1938. — Vol. 1 -2.
128. Kames H. H. The Elements of criticism. — 6 ed. — Edinburgh: Printed for J. Bell and W. Creech, 1785. — Vol. 1-2.
129. Kierkegaard S. Entweder/Oder / Übersetzt von W. Pfleiderer und Ch. Schrempf. — Jena: Diderichs, o. J. — Bd 1-2.
130. Kilwardby Robert. De ortu scientiarum / Ed. by A. G. Judy. — L.: British Academy, 1976. — LXI, 255 p.
131. Kircher A. Musurgia Universalis, sive Ars Magna consoni et dissoni in X libros digesta. — Roma, 1650. — T 1-2.
132. Kleist H. von. Brief an M. Kleist, 1811// Werke und Briefe: In 4 Bde. — B.; Weimar: Aufbau-Verlag, 1984. — Bd 4. — S. 481.
133. Kleist H. von. Brief an W. von Zenge, Sept. 1800 II Werke und Briefe: In 4 Bde. — B.; Weimar: Aufbau-Verlag, 1984. — Bd. 4. — S. 126-127.
134. Klopstock F. G. Gedanken über die Natur der Poesie II Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 283-287.
135. Klopstock F. Von der Darstellung II Klopstocks Sämmtliche Werke. — Leipzig: Göschen, 1854-55. — Bd 10. — S. 199-202.
136. Koch H. Ch. Musikalisches Lexikon. — Frankfurt a. M.: Bey A. Hermann demjüngera, 1802. — XIV p., 1802 col.
137. Krause Ch. Von der musikalischen Poesie. — Berlin, 1753. — 484 S. (repr.1.ipzig: Zentralantiquariat d. DDR, 1973).
138. Lamartine A. de. Cours familier de Littérature. — P.: Chez l'auteur, 1856-68.1. T. 1-26.
139. Lindner J. G. Kurzer Inbegrif der Aesthetik, Redekunst und Dichtkunst. — Königsberg, Leipzig, 1771-72. — Th. 1-2.
140. Longinus Dionysius Cassius (?). Die Schrift vom Erhabenen dem Longinus zugeschrieben . I Hrsg. von R. von Scheliha. — B., 1938. — 134 S.
141. Mallarmé S. Crise de vers II Mallarmé S. Oeuvres complètes / Ed. H. Mondor, G. Jean-Aubry. — P., 1945. — P. 360-368.
142. Mallarmé S. Le Livre, instrument spirituel II Mallarmé S. Oeuvres complètes / Ed. H. Mondor, G. Jean-Aubiy. — P., 1945. — P. 378-382.
143. Manley M. de la Rivière. Préfacé to «The Secret History of Queen Zarah.» (1705) // Novel and Romance. 1700-1800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and Kegan Paul, 1970. — P. 33-34.
144. Marchetus de Padua. Pomerium // Scriptores ecclesiastic! de musica sacra potissimum / Ed. M. Gerbert. — Hildesheim, 1963. — Vol. 3. — P. 30-210.
145. Marius Victorinus. Ars grammatica // Grammatici latini ex recensione Henrici Keilii. — Lipsiae, 1857-1880. — Vol. VI. — S. 206.
146. Mattheson J. Das Neu-Eröffiiete Orchestre, Oder Universelle und grundliche Anleitung, Wie ein Galant Homme einen vollkommenen Begriff von der Hoheit und Würde der edlen Music erlangen . möge. — Hamburg: Schiller, 1713, —Bd 1-2.
147. Mattheson J. Der vollkommene Capellmeister. — Hamburg, 1739. — S. 28, 484 (Repr. — Kassel; Basel, 1954).
148. Meyfarts J. M. Teutsche Rhetorica; oder, Redekunst / Hrsg. von E. Trunz. — Tübingen: Niemeyer, 1977. — 441, 54, 51 S. (Deutsche Neudrucke. Reihe Barock; 25).
149. Milton J. At a solemn musick / Complete poetry and selected prose. — N. Y.: The Modern library, 1942. — P. 32-33.
150. Molinet J. Art de Rhétorique vulgaire // Recueil d'arts de seconde rhétorique / Ed. E. Langlois.—P., 1902.
151. Moore J. A view of the commencement and progress of romance // Novel and Romance. 1700-1800. A documentary record / Ed. by I. Williams. — L.: Routledge and Kegan Paul, 1970. — P. 435-439.
152. Morhof D. G. Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 102-125
153. Moritz K. Ph. Andreas Hartknopf // Moritz K. Ph. Werke / Hrsg. von H. Günther. — Frankfurt am Main: Insel, 1981. — Bd 1.
154. Morley Th. A plaine and easie introduction to practicall Musicke. — L.: Oxford university press, 1937. — XIII, 183, [35] p.
155. Musica Enchiriadis // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1853. — Vol. 132. — Col. 958-1040.
156. Musica enchiriadis; and, Scolica enchiriadis / Translated, with introd. and notes by R. Erickson. — New Häven: Yale University Press, 1995. — LIV, 106 p.
157. Musica quadrata seu mensurata // Patrologiae cursus completus. Series latina.
158. Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 90. — Col. 919-937.
159. Musica theorica // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1850. — Vol. 90. — Col. 909-918.
160. Newton J. An Introduction to the Art of Rhetorick. — L., 1671 (электронная публикация Центра электронных текстов библиотеки университета Виргинии: http: // etext.lib.virginia.edu / toc / modeng / public / NewArt0.html).
161. Nietzsche F. Die Geburt der Tragödie // Werke. — Leipzig: Alfred Kröner, 1917,—Abt. 1, Bd 1. — S. 1-172.
162. Nietzshe F. Über Musik und Wort // Sprache, Dichtung, Musik / Hrsg. von J. Knaus. — Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. — S. 20-32.
163. Novalis. Brief an A. W. Schlegel, 12.1.1798 // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1975. — Bd 4. — S. 246.
164. Novalis. Brief an Bruder Erasm, 1793 // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1975. — Bd 4. — S. 122.
165. Novalis. Фрагмент «Ein Märchen ist eigentlich wie ein Traumbild.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel.
166. Stuttgart: Kohlhammer, 1968. — Bd 3. — S. 454
167. Novalis. Фрагмент «Erzählungen, ohne Zusammenhang.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart:
168. Kohlhammer, 1968. — Bd 3. — S. 572.
169. Novalis. Фрагмент «Klarisse» // Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1975. — Bd 4. — S. 25.
170. Novalis. Фрагмент «Schiller musiziert sehr viel philosophisch.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1968. — Bd 3. — S. 320.
171. Novalis. Фрагмент «So sonderbar, als es manchen scheinen möchte.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1968. — Bd 3. — S. 568-569.
172. Novalis. Фрагмент «Unsre Sprache — sie war zu Anfang viel musicalischer.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1968. — Bd 3. — S. 283-284.
173. Novalis. Фрагмент «Vom vollkommensten Bewusstsein.» // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1965. — Bd 2. — P. 611.
174. Novalis. Фрагмент из цикла «Poesie», № 32 // Schriften: in 4 Bd. u. e. Begleitbd. / Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart: Kohlhammer, 1965. — Bd 2. — S. 533.
175. Opitz M. Buch von der Deutschen Poeterey // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 1-23.
176. Parthenio B. Deila imitatione poetica. — Venetia, 1560. — 16., 248 p.
177. Peacham H., the Younger. The complete gentleman, The truth of our times, and The art of living in London / Ed. by V. B. Heltzel. — Ithaca (N. Y.): Cornell University Press, 1962. — XX, 250 p.
178. Phillips E. Theatrum poetarum, or A compleat collection of the poets, especially the most eminent, of all ages. — L.: Charles Smith, 1675. — Vol.1.2.
179. Pound E. I gather the limbs of Osiris // Pound E. Selected prose, 1909-1965 / Ed. by W. Cookson. — L.: Faber, 1973. — P. 37.
180. Prosdocimo de Beldomandi. Tractatus practice de musica mensurabili // Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera: In 4 vols. / Ed. E. de Coussemaker. — P.: Durand, 1864-76. — Vol. 3. — P. 200-228.
181. Puttenham G. The arte of English poesie. — L.: Richard Field, 1589. — P. 25, 258. (repr. —Cambridge: University Press, 1970).
182. Quintilianus. Institution oratoire. — Paris: Société d'édition "Les Belles lettres", 1975-1980, —T. 1-7.
183. Rabanus Maurus. Commentaria in Ecclesiasticum // Patrologiae cursus com-pletus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1852. — Vol. 109. — Col. 763-1124.
184. Rabanus Maurus. De clericorum institutione // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1851. — Vol. 107. — Col. 293418.
185. Rabanus Maurus. De universo // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1852. — Vol. 111. — Col. 9-613.
186. Radau M. Orator extemporaneus. — L., 1657.
187. Regino Prumiensis. De harmonica institutione // Patrologiae cursus completus. Series latina. —Parisiis: Petit-Montrouge, 1853. — Vol. 132. — Col. 483-501.
188. Reimmann J. F. Versuch einer Einleitung in die Historiam literariam antediluvianam. — Halle imMagdeb., 1709. — 274, 28. S.
189. Richardson S. Clarissa: preface, hints of prefaces, and postscript / Introd. by R. F. Brissenden. — Los Angeles: University of California, 1964. — 61 p.
190. Rilke R. M. Tagebücher aus der Frühzeit / Hrsg. von R. Sieber-Rilke und C. Sieber. — Leipzig, Insel-Verlag, 1942. — 439 p.
191. Roberts W. Рецензия на «Чайлд-Гарольда» Байрона. // British Review (III, June 1812. P. 298) II Hayden J. O. The Romantic Reviewers, 18021824. — Chicago: University of Chicago Press, 1969. — P. 136-137.
192. Ronsard P. Abbrege de l'art poetique françois // L'art poétique / Ed. J. Char-pier, P. Seghers. — P.: Seghers. — P. 101-118.
193. Rotth A. Ch. Einleitung zu den eigentlich so benahmten poetischen Gedichten// Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 126142.
194. Rousseau J.-J. Dictionnaire de musique // Oeuvres complètes. — P.: Gallimard, 1995. — Vol. 5. —P. 603-1191.
195. Rousseau J.-J. Essai sur l'origine des langues // Oeuvres complètes. — P.: Gallimard, 1995. — Vol. 5. — P. 373-429.
196. Rupertus Tuitiensis. Commentaria in Joannem // Patrologiae cursus com-pletus. Sériés latina. — Parisiis: Petit-Montrouge, 1854. — Vol. 169. — Col. 201-826.
197. Scaligeri Julii Caesaris Poetices libri septem. — Lugduni: apud Ant. Vincentium, 1561. — 13., 366, [37] p.
198. Schiller F. Brief an J. W. Goethe, 18.3.1796 // Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe / Hrsg. von H. G. Gräf und A. Leitmann. — Leipzig, о. j. — Bd 1. — S. 156.
199. Schiller F. Über Matthissons Gedichte // Schillers Werke. Nationalausgabe: In 42 Bdn. —Weimar: H. Böhlaus, 1958. — Bd 22. — S. 270-281.
200. Schiller F. Über naive und sentimentalische Dichtung // Schiller F. Über Kunst und Wirklichkeit. — Leipzig: Reclam, 1975. — S. 435-534.
201. Schlegel A. W. Vorlesungen über Aesthetik I (1798-1803). — Paderborn: Schöningh, 1989. — VIII, 781 p. (Kritische Ausgabe der Vorlesungen, 1).
202. Schlegel F. Athenäum-Fragmente. Fragm. 174, 322, 325, 372, 392, 444 II Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. — München: Schöningh, 1967. — Bd 2, 1 Abt. — S. 193, 220, 221, 233, 239, 254.
203. Schlegel F. Brief an A. W. Schlegel, 11.2. 1792 II Romantiker Briefe / Hrsg. von F. Gundelfingen — Jena, 1907. — S. 52.
204. Schlegel F. Kritische Fragmente (Lyceum-Fragmente). Fragm. 64. II Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. — München: Schöningh, 1967. — Bd 2. 1 Abt. —S. 155.
205. Schlegel F. Literaiy notebooks. 1797-1801 / Ed. by H. Eichner. — L.: Athlone Press, 1957. — 342 p.
206. Schleiermacher F. Vorlesungen über die Aesthetik / Sämtliche Werke. — Berlin: Reimer, 1842. — 3 Abth., Bd 7. — XXII, 710 S.
207. Schleiermacher F. Über die Religion. — Stuttgart, 1985. — 250 S.
208. Schocher Ch. G. Soll die Rede auf immer ein dunkler Gesang bleiben, und können ihere Arten, Gänge und und Beugungen nicht anschaulich gemacht, und nach Art der Tonkunst gezeichnet werden? — Leipzig: Reinicke, 1791.6 Bl., 20 S., 1 Bl.].
209. Schönberg A. Brahms, der Fortschrittliche II Schönberg A. Stil und Gedanke.1.z., 1989, — S. 112-145.
210. Schönberg A. Das Verhältnis zum Text II Der blaue Reiter. Hrsg. von W.
211. Kandinsky und F. Marc / Neuausgabe von K. Lankheit. — München: Piper, 1965. — S. 64-70.
212. Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. — München: R. Piper & Co., 1911. — Bd 1-2 (=Arthur Schopenhauers sämtliche Werke, Hrsg. von P. Deussen; Bd 1-2).
213. Schröder F. J. W. Lyrische, elegische und epische Poesien; Nebst einer kritischen Abhandlung, einigen Anmerkungen über das Naturliche in der Dichtkunst und die Natur des Menschen. — Halle: Hemmerde 1759. — 746 S.
214. Schubart Ch. F. D. Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst / Hrsg. von L. Schubart. — Wien, 1806. — XI, VIII, 402 S. (repr. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969).
215. Shakespeare W. A Midsummers Night's Dream // Complete Works. — Hertfordshire: Wordsworth Editions, 1994. — P. 279-301.
216. Shelley P. B. A Defence of Poetry // Shelley's Critical Prose / Shelley's Critical Prose / Ed. by B. R. McElderry, Jr. — Lincoln: University of Nebraska Press, 1967. — P. 4-85.
217. Sidney Ph. A Defence of Poetry // Miscellaneous prose of sir Philip Sidney / Ed. by K. Duncan-Jones and J. Van Dorsten. — Oxford: Clarendon Press, 1973,—P. 59-121.
218. Smart Ch. The poetical works. — Oxford: Clarendon, 1980. — Vol. 1: Jubilate Agno / Ed. by K. Williamson. — XXXI, 143 p.
219. Solger K. W. F. Vorlesungen über Ästhetik. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. — XVIII, 475 S.
220. Steele J. An essay towards establishing the melody and measure of speech. — L.: W. Bowyer and J. Nichols, 1775. — XVIII, 1., 193, 4. p.
221. Sulzer J. G. Allgemeine Theorie der der Schönen Künste. — Leipzig; B., 1771,—Thl 1-2.
222. Summa musice: A thirteenth-century manual for singers / Ed., with transi, and introd. Ch. Page. — Cambridge: Cambridge University Press, 1991. — 275 P
223. Tasso B. Ragionamento della poesia. — Vinegia, 1562.
224. Temple W. Of Poetry (1692) / Englische literaturtheoretische Essays / Hrsg. von R. Ahrens. — Heidelberg: Quelle und Meyer, 1975. — Bd 1. — Heidelberg, 1975, —P. 124-127.
225. TieckL. Symphonien // Wackenroder W. H. Werke und Briefe: In 2 Bde. — Jena: Diederichs, 1910. — Bd 1. — S. 299-310.
226. Tinctoris J. Liber de arte contrapuncti // Opera theoretica / Ed. by A. Seay. — Rome.: American Institute of Musicology, 1975. — Vol. 2. — 177 p.
227. Twining Th. Aristotle's treatise on Poetry, translated: with notes on the translation, and on the original; and two dissertations, on Poetical, and Musical. — L.: Payne & Son, 1789. — XIX, 565 p.
228. Usher J. An introduction to the theory of the human mind. — L.: T. Davies, 1771, —XVI, 96 p.
229. Usher J. Clio, or a Discourse on taste. — L., 1767. — XIII, 247 p.
230. Valéry P. Предисловие к «Connaissance de la déesse» Люсьена Фабра. // Valéry P. Oeuvres / Ed. par J. Hytier. — P., 1957. Vol. 1 (Bibliothèque de la Pléiade, no. 127) —P. 1272.
231. Valéry P. Pièces sur l'art. — P.: Gallimard, 1934. — 251 p.
232. Valéry P. Stéphane Mallarmé II Valéry P. Oeuvres / Ed. par J. Hytier. — P., 1957. Vol. 1 (Bibliothèque de la Pléiade, no. 127) — P. 622.
233. Varnhagen R. Brief an A. Marwitz, 1812 II Varnhagen R. Briefwechsel. — München: Winkler, 1979. — Bd 1. — S. 215.
234. Vigny A. de. Journal d'un poète. — London: Scholartis Press, 1928. —XXIII, 263 p.
235. Vitis mystica // Patrologiae cursus completus. Series latina. — Parisiis: Petit
236. Montrouge, 1854. — Vol. 184. — Col. 635-740.
237. Vossius G. J. Poeticarum Institutionum Libri Tres. — Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1647. — 10. ill., 80 p., 1. ill, 192, 119 p., [30] ill.
238. Wackenroder W. H. Das eigentümliche innere Wesen der Tonkunst // Werke und Briefe: In 2 Bde. — Jena: Diederichs, 1910. — Bd 1. — S. 182-194.
239. Wackenroder W. H. Das merkwürdige musikalische Leben des Tonküstlers Joseph Berglinger II Wackenroder W. H. Werke und Briefe: In 2 Bde. — Jena: Diederichs, 1910. — Bd 1. — S. 126-151.
240. Wackenroder W. H. Die Wunder der Tonkunst // Werke und Briefe: In 2 Bde. — Jena: Diederichs, 1910. — Bd 1. — S. 163-169.
241. Webb D. Observations on the Correspondence between Poetry and Music. — L.: J. Dodsley, 1769. — VII, 155 p.
242. Wordsworth W. Letter to Mrs. Clarkson, 1814? // Letters of the Wordsworth family, from 1787 to 1855. — N. Y.: Haskell House Publishers, 1969. — Vol. 2,—P. 40.
243. Zesen Ph. von. Deutsche Helicon // Texte zur Geschichte der Poetik in Deutschland / Hrsg. von H. G. Rötzer. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. — S. 37-60.1. Исследования
244. Азначеееа E. H. Интрасемиотическне связи между литературно-художественными и музыкальными текстами: (На материале немецкоязычной художественной прозы): Автореферат дис. . д-ра филолог. Наук. — СПб., 1996, — 36 с.
245. Азначеееа Е. Н. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста. Ч. 1-2. Пермь: Издательство Пермского ун-та, 1991. — Ч. 1-3.
246. Алексеев М. П. Английский трактат XVIII века о поэзии и музыке // Алексеев М. П. Из истории английской литературы. Этюды. Очерки. Исследования. — М.; Л.: Гослитиздат, 1960. — С. 219-253.
247. Алъшванг А. А. Русская симфония и некоторые аналогии с русским романом // Избр. соч.: в 2 т. — М.: Музыка, 1964-65. — Т. 1. — С. 76-95.
248. Асанова Н. А. «Жан-Кристоф» Ромена Роллана и проблема влияния музыки на литературу: Автореферат дис. . д-ра филолог, наук. — Л., 1979.— 37 с.
249. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. — Л.: Музыка, 1971. — 376 с.
250. Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.: Искусство, 1979. — С. 361-373.
251. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. —М.: Искусство, 1979. — С. 237-280.
252. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Сов. Россия, 1979.— 318 с.
253. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. — Л.: Художественная литература, 1973. — 567 с.
254. Борисова И. Е. Музыкальные интуиции русской романтической мистики // Вестник РХГИ: Электронный журнал. 2004, № 5.
255. Бочаров С. Г. Бахтин-филолог: книга о Достоевском // Вопросы литературы. — 2006, Март-апрель. — С. 48-67.
256. Браудо Е.М. Звукосозерцание немецких романтиков // Музыкальная летопись. —Сб. 1. — Пг„ 1922. — С. 79-88.
257. Бураго С. Б. Музыка поэтической речи: Литературно-критический очерк. —Киев: Дншро, 1986. —179, 2. с.
258. Васина-Гроссман В. А. Музыка и поэтическое слово. — М.: Музыка, 1978, —366 с.
259. Вейдле В. Музыка речи // Вейдле В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — С. 66-116.
260. Габай Ю. Романтический миф о художнике и проблемы психологии музыкального романтизма // Проблемы музыкального романтизма: Сб. науч. тр. — Л.: Ленинградский гос. институт театра, музыки и кинематографии им. Н.К. Черкасова, 1987.
261. Гереер Л. Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия XX века). — М.: Индрик, 2001. — 248 с.
262. Гинзбург Л. Я. О лирике. — М.: 1п1ха<1а, 1997. —415 с.
263. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. — М. : Ыгаёа, 1995. — 319 с.
264. Дмитриев А. С. Проблемы иенского романтизма. — М.: Издательство МГУ, 1975, —264 с.
265. Древнегреческая литературная критика / Л. А. Фрейберг, Т. А. Миллер, 3. А. Покровская и др. — М.: Наука, 1975. — 480 с.
266. Женетт Ж. Введение в архитекст / Пер. И. Стаф // Женетт Ж. Фигуры. — М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. — Т. 2. — С. 282340.
267. Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе: Литература и музыка. — Н. Новгород: Деком, 2001. — 167 с.
268. Комароеич В. Роман Достоевского «Подросток», как художественное единство // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. II / под ред. Долинина. — Л.; М., 1924. — Р. 31-68.
269. Курбаное Б. Взаимосвязь музыки и литературы. — Баку: «Элм», 1972. — 140 с.
270. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. — М.: изд. автора, 1927. — 263 с.
271. Луков Вл. А. Предромантизм. — М.: Наука, 2006. — 683 с.
272. Магомедова Д. М. Концепция «музыки» в мировоззрении и творчестве А. Блока: Автореф. дис. . канд. филол. наук. — М., 1975. — 27 с.
273. Магомедова Д. М. «Музыкальное» в литературе // Литературоведческие термины: Материалы к словарю. — Коломна: КПИ, 1999. — Р. 428-430.
274. Магомедова Д. М. Полифония // Бахтинский тезаурус: Сб. статей. — М.: РГГУ, 1997. — С. 170-173.
275. Махов А. Е. «Музыкальное» как литературоведческая проблема // Наука о литературе в XX веке (история, методология, литературный процесс). — М.ИНИОН, 2001, —С. 180-193.
276. Махов А. Е. Музыкальность // Литературная энциклопедия терминов и понятий. — М.: Интелвак, 2001. — С. 595-600.
277. Махов А. Е. Ранний романтизм в поисках музыки: Слух. Воображение. Духовный быт. — М.: Лабиринт, 1993. — 127 с.
278. Махов А. Е. Черед бросать кости. // Апокриф. Культурологический журнал. 1993., — К» 2. — С. 81-85.
279. Махов А. Е. Música literaria; Идея словесной музыки в европейской поэтике. — М.: ИНИОН РАН — Intrada, 2005. — 223 с.
280. Михайлов А. В Стиль и интонация в немецкой романтической лирике // Михайлов А. В. Обратный перевод. — М.: Языки русской культуры, 2000, —С. 58-90.
281. Михайлов Ал. В. Этапы развития музыкально-эстетической мысли в Германии XIX века // Музыкальная эстетика Германии XIX века: В 2-хт. — М.: Музыка, 1981, —Т. 1, —С. 9-73.
282. Музыка и незвучащее. — М: Наука, 2000. — 327 с.
283. Музыка души и музыка слова. Лики культуры: альманах. —- М.: ИНИ-ОН, 1995, — 131 с.
284. Неезглядова Е. В. Интонационная теория стиха // Музыка и незвучащее.
285. М.: Наука, 2000. — С. 120-132.
286. Пономарёва А. Н. Музыкальность в драматургии А. П. Чехова: Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. филологич. наук. — Томск, 2007. — 22 с.
287. Петрушанская Р. И. Музыка и поэзия. — М.: Знание, 1984. — 56 с.
288. Поэзия и музыка / Сост. В. А. Фрумкин. — М.: Музыка, 1973. — 302 с.
289. Соколов О. О «музыкальных формах» в литературе // Эстетические очерки. — М.: Музыка, 1979. Вып. 5. — С. 208-234.
290. Тамарченко Н. Д., ТюпаВ. И. , Бройтман С. Н. Теория литературы: В 2-х тт. — М.: Academia, 2004. — Т. 1. — С. 113-120. («Ситуация "Лессинг — Гердер" в истории вопроса»),
291. Тертерян И. Романтизм как целостное явление // Вопросы литературы.1983, №4.— С. 151-181.
292. Тилкес-Заусская О. Литература и музыка: Четвертая симфония Андрея Белого. — Amsterdam: Б. и, Б. г. 19--., — 539 с.
293. Фейнберг Л. Музыкальная структура стихотворения Пушкина «К вельможе» // Поэзия и музыка. —М.: Музыка, 1973. — С. 281-301.
294. Фортунатов Н. М. Пути исканий. О мастерстве писателя. — М.: Сов. писатель, 1974. — 239 с.
295. Цыпин В. Г. Аристоксен: Начало науки о музыке. — М.: Московская гос. консерватория, 1998. — 224 с.
296. Эйхенбаум Б. М. Мелодика русского лирического стиха // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. — Л.: Сов. писатель, 1969. — С. 327-511
297. Эмерсон К. Двадцать лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. — 2006, Март-апрель. — С. 12-47.
298. Adorno Th. Fragment über Musik und Sprache / // Sprache, Dichtung, Musik / Hrsg. von J. Knaus. — Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. — S. 71-75.
299. Aronson A. Music and the Novel: A Study in twentieth-century Fiction. — Totowa (N. J.): Rowman and Littlefield, 1980. — XV, 267 p.
300. Baldensperger F. Sensibilité musicale et romanlisme. — P.: Les Presses françaises, 1925. — 134 p.
301. Baldwin Ch. S. Renaissance literary theory and practice. — N. Y.: Columbia University Press, 1939. — XIV, 251.
302. Barbour R. «"Wee, of th' adult 'rate mixture not complaine": Thomas Carew and Poetic Hybridity // John Donne Journal. — 1988. Vol. 7, № 1. — P. 91113.
303. Barricelli J.-P. Melopoiesis: Approaches to the Study of Literature and Music. — N.Y.; L.: New York University Press, 1988. —XVI, 342 p.
304. Barry K. Language, Music and the Sign. A study in aesthetics, poetics and poetic practice from Collins to Coleridge. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987. — XII, 244p.
305. Bartels U. Vokale und instrumentale Aspekte im musiktheoretischen Schrifttum der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts: Studien zur musikalischen Auffuhrungspraxis in Deutschland zur Zeit des Frühbarock. — Regensburg: G. Bosse, 1989.—214 S.
306. Beaufils M. Musique du son, musique du verbe. — P.: Klincksieck, 1994. — XVIII, 219 p.
307. Beckh H. Vom geistigen Wesen der Tonarten. 3. Aufl. — Breslau: Preuss & Jünger, 1932. — 46 S.
308. Benson S. For want of a better term?: Polyphony and the value of music in Bakhtin and Kundera // Narrative. — 2003, № 11. — P. 292-311.
309. Benson S. Literary music: Writing music in contemporary fiction. — Aldershot, Hampshire, England; Burlington (VT), USA: Ashgate Pub, 2006. — 178 p.
310. Bernard S. Mallarmé et la musique. — P: Librairie Nizet, 1959. — 184 p.
311. Borinski K. Antike Versharmonik im Mittelalter und in der Renaissance // Philologus. — 1912, Bd 71,— S. 139-158.
312. Borinsli K. Die Antike in Poetik und Kunsttheorie von Ausgang des Klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt. — Bd 1 : Mittelalter, Renaissance, Barock. — Leipzig: Dieterichs, 1914. — XII, 324 S.
313. Bronson B. H. Literatur und Musik // Interdisziplinäre Perspektiven der Literatur / Hrsg. von J. Thorpe. — Stuttgart: Enke, 1977. — S. 151-177.
314. Brown A. The Aeolian harp in European literature. 1591 — 1892. — Cambridge: Bois de Boulogne, 1970. — 93 p.
315. Brown C. S. Music and literature, a comparison of the arts. — Athens: Univ. of Georgia Press, 1948. — XI, 287 p.
316. Brown C. S. The musical structure of De Quincey's Dream-Fugue // Musical Quarterly. — 1938, Vol. 24. — P. 341-350.
317. Brown C. S. The poetic use of musical forms // Musical Quarterly. — 1944, Vol. 30.—P. 87-101.
318. Brown C. S. The relations between music and literature as a field of study // Comparative Literature. — 1970, Vol. 22. — P. 97-107.
319. Brown C. S. Theme und variations as literary form // Yearbook of Comparative and General Literature. — 1978, Vol. 27. — P. 35-43.
320. Brüggemann D. Babylonische Musik. Die heilige Cäcilie als Paradigma fur Kleist Hermetik // Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. — Stuttgart, 1998. — Jg. 72, H. 4. — S. 592-636.
321. Buchholz T. Musik im Werk Heimito von Doderers. — Frankfurt a. M.; N. Y. P. Lang, 1996.—258 S.
322. Buck A. Italienische Dichtungslehren vom Mittelalter bis zum Ausgang der Renaissance. — Tübingen: M. Niemeyer, 1952. — 204 S.
323. Budd M. Values of Art: Pictures, Poetry and Music. — L., N.Y.: Penguin Books, 1996.— 212, 1. p.
324. Bus A. J. M. Der Mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen. — Alkmaar: H. Coster, 1947. — 165 S.
325. Carruthers M. Sweetness // Speculum. — Cambridge (Mass.), 2006. — Vol. 81, October. —P. 999-1013.
326. Cheatham G., Cheatham J. Soft pipes, still music, and Keats's «Ode» // American Notes and Queries. — 1983. Vol. 21, № 7/8. — P. 101-104.
327. Claudon F. L'idée el l'influence de la musique chez quelques romantiques français et notamment Stendhal: Thèse prés, devant l'Univ. de Paris 4. — Lille: Atelier reprod. des thèses, 1979. — 662 p.
328. Claudon F. Musico-literary research in the last two decades (1970-1990): A sequel // Musico-poetics in perspective: Calvin S. Brown in memoriam. Amsterdam: Rodopi, 2000. — P. 25-44.
329. Clinton-Baddeley V. C. Words for Music. — Cambridge: The University press, 1941, —XI, 167, 1. p.
330. Code D. J. Hearing Debussy Reading Mallarmé. Music après Wagner in the «Prélude à l'après-midi d'un faune» // Journal of the American Musicological Society. — 2001. — Vol. 54, № 3. — P. 493-554.
331. Coeuroy A. Appels d'Orphée: Nouvelles études de musique et de littérature comparées. — P: La Nouvelle revue critique, 1929. — 214 p.
332. Combarieu J. Les rapports de la musique et de la poésie considérées au point de vue de l'expression. — P.: F. Alean, 1894. — XXXIV, 423 p.
333. Conrad P. Romantic opera and literary form. — Berkeley; L.: University of California Press, 1977. — IX, 185p.
334. Cosgrove Ch. H., Meyer M. C. Melody and Word accent Relationship in Ancient Greek Musical Documents: The Pitch Height Rule // The journal of Hellenic studies. — 2006. Vol 126. — P. 66-81.
335. Cuilé T. B. Narrative Interludes: Musical Tableaux in Eighteenth-Century French Texts. — Toronto: University of Toronto Press, 2006. — 284 p.
336. CullhedA. The language of passion : the order of poetics and the construction of a lyric genre 1746-1806. — Frankfurt a. M.; N. Y.: Lang, 2002. —337 p. (European University Studies. Series XVIII. Comparative Literature. Vol 104).
337. Cupers J.-L. Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique. Aspects méthodologiques de l'approche musico-littéraire. — Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis, 1988. — 158 p.
338. Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. — Bern: A. Francke, 1948.— 601 p.
339. Curtius E. R. Marcel Proust. — Berlin: Suhrkamp Verlag, 1955. — 155 S.
340. Dahlhaus C. Die Idee der absoluten Musik. — Kassel: Bärenreiter-Verlag, 1978.— 152 S.
341. Dahlhaus C. Musikalische Humanismus als Manierismus // Musikforschung.1982. 35 Jg., H. 2. — S. 123-128.
342. Dahlhaus C. Musikästhetik. — Köln: Gerig, 1976. — 152 S.
343. Dahlhaus C. Die Musiktheorie im 18. und 19. Jahrhundert. Zweiter Theil: Deutschland. — Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1989. — 290 S. (= Geschichte der Musiktheorie. XI).
344. Dammann R. Der Musikbegriff im deutschen Barock. — Köln: Volk, 1967.532 S.
345. Day L. C. The lyric impulse. — Cambridge: Harvard University Press, 1965.164 p.
346. Deleuze G. «Le cerveau, c'est l'écran». Entretien avec Gilles Deleuze // Cahiers du Cinéma. — 1986. — № 380 (février). — P. 28.
347. Doran M. The Macbeth music // Shakespeare Studies. — 1983. — Vol. 16.1. P. 153-174.
348. Eggebrecht H. H. Die Mehrstimmigkeitslehre von ihren Anfängen bis zum 12. Jahrhundert // Die Geschichte der Musiktheorie. Bd 5: Die mittelalterische Lehre von der Mehrstimmigkeit. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. — S. 9-87.
349. Einstein A. Fictions that have shaped musical history // Einstein A. Essays on music. — N. Y.: W. W. Norton, 1956. —P. 3-12.
350. Fähnrich H. Thomas Manns episches Musizieren im Sinne Richard Wagners: Parodie und Konkurrenz. — Frankfurt a. M.: Herchen, 1986. — 498 S.
351. Feaver D. The musical setting of Euripides' Orestes // American Journal of Philology. — 1960. — Vol. 81. — S. 1-15.
352. Fetzer J. Romantic Orpheus. Profiles of CI. Brentano. — Berkeley: University of California Press, 1974. — 313 p.
353. Flemming W. Die Fuge als epochales Kompositionsprinzip des deutschen Barock // Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. — 1958. — Jg. 32. — S. 483-515.
354. Frobenius W. Polyphony // The New Grove dictionary of music and musicians: In 20 Vol. — L.: Macmillan, 1980. — Vol. 15. — P. 70-72.
355. Frye N. Anatomy of criticism. — N. Y.: Atheneum, 1967. — 383 p.
356. Fubini E. Les philosophes et la musique. — P.: H. Champion, 1983. — 290 P
357. Fumerton P. Relative Means: Spenser's style of Discordia concors // Papers on Language and Literature. — 1988. — Vol. 24, № 1. — P. 3-21.
358. George A. J. Pierre-Simon Ballanche, precursor of romanticism. —Syracuse (N.Y.): Syracuse University Press, 1945. — XV, 1 1, 207 p.
359. Georgiades Thr. Musik und Sprache; das Werden der abendländischen Musik dargestellt an der Vertonung der Messe. —Berlin: Springer, 1954. — 142 S.
360. Glier A. Musik in der Literatur. Einflüsse und Analogien // Literatur intermedial. Musik — Malerei — Photographie — Film. / Hrsg. von P. V. Zima. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. —S. 6-92.
361. Glöckner K. Brentano als Märchenerzähler // Deutsche Arbeiten der Universität Köln. — Jena, 1937. — Bd 3. — S. 5-17.
362. Glöckner E. Studien zur romanlischen Psychologie der Musik, besonders mit Rücksicht auf die Schriften E.T.A. Hoffmanns. — München: Steinicke, 1909.44 S.
363. Goldstein H. D. Discordia Concors, Decorum, and Cowley // English Studies. — 1968. — Vol. XLIX, № 6. — P. 481-489.
364. Goodman N. Languages of art; an approach to a theory of symbols. — Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1968. —XIII, 277 p.
365. Grady H. Rhetoric, wit, and art in Gracian's agudeza // Modern Language Quarterly. — 1980. — Vol. 41, № 1. — P. 21-38.
366. Greenfield C. C. Humanist and Scholastic Poetics, 1250-1500. — Lewisburg (Pa.): Bucknell University Press, 1981. — 337 p.
367. Greiner W. F. Studien zur Entstehung der englischen Romantheorie an der Wende zur 18. Jahrhundert. — Tübingen: Niemeyer, 1969. — X, 298 S.
368. Grigson G. The harp of Aeolus and other essays on art, literature and nature.1.: Routledge, 1947. — XI, 160 p.
369. Günzel K. König der Romantik: Das Leben des Dichters L. Tieck in Briefen, Selbstzeugnissen und Berichten. — Tübingen: Wunderlich, 1981. — 561 S.
370. Haas M. Die Musiklehre im 13. Jahrhundert von Johannes de Garlandia bis Franco II Die Geschichte der Musiktheorie. Bd 5: Die mittelalterische Lehre von der Mehrstimmigkeit. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. — S. 89-159.
371. HaCohen R. Fictional Planes and their Interplay: The Alchemy of Forms and Emotions in Bach's «St. Matthew Passion» // Music and Signs: Semiotic and Cognitive Studies in Music. — Bratislava: ASCO Art and Science, 1999. — P. 421-431.
372. Haimberger N. F. Vom Musiker zum Dichter. E.T.A. Hoffmanns Akkordvorstellung. — Bonn: Bouvier, 1976. — 125 S.
373. Hanslick E. Vom Musikalisch-Schönen. — Leipzig, 1854. — 104 S. (repr.
374. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965).
375. Harweg R. Sprache und Musik // Poetica. — 1967. — № 1. — P. 390-414.
376. Heninger S.K., Jr. Sidney and Boethian Music / Studies in English Literature (Rice). — 1983. — Vol. 23, № 1. — P. 37-47.
377. Heninger S. K., Jr. Touches of sweet harmony. Pythagorean cosmology and Renaissance poetics. — San Marino (Calif.): Huntington Library, 1974. — XVII, 446 p.
378. Hertz D. M. The Tuning of the Word. The musico-literary poetics of the symbolist movement. — Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987, —XIV, 241 p.
379. Himmel H. Musikalische Fugentechnik in Kleists «Bettelweib von Locarno» // Sprachkunst. — 1971. — Vol. 2. — S. 188-210.
380. Hollander J. Vision and Resonance: Two Senses of Poetic Form. — N. Y.: Oxford University Press, 1975. — XIII, 314 p.
381. Hymes H. Phonological aspects of style: some English sonnets 11 Style in Language / Ed. T. A. Sebeok. — Cambridge: The Technology Press; N. Y.: Wiley, I960,—P. 109-131.
382. Interart Poetics: Essays on the interrelations of the arts and media / Eds. U.B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. — Amsterdam; Atlanta (GA): Rodopi, 1997.— 354 p.
383. Kallich M. The association of ideas and critical theory in eighteenth-century England. — The Hague: Mouton, 1970. — 284 p.
384. Kenner H. The Pound Era. — Berkeley: University of California Press, 1971. — XIV, 606 p.
385. Knafl A. Monologpartitur. Musikalische Erzählstrukturen in Wolfgang Hildesheimers «Tynset» II Sprachkunst. — 2001. Vol. 22. — S. 213-239.
386. Kolago L. Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20 Jahrhunderts. — Anif: Müller-Speiser, 1997. — 331 p.
387. Kolago L. Zur Spirale in der Literatur. Dargestellt am Beispiel der Todesfuge von Paul Celan // Orbis Linguarum. — 2002. —Vol. 20. — P. 23-31.
388. Kramer L. Music and Poetry. The Nineteenth century and afiter. — Berkeley etc.: University of California Press, 1984. — XIII, 251 p.
389. Kristeller P. O. The Modern system of arts // Journal of the History af Ideas. — 1951. — Vol. 12. — P. 496-527.
390. Krones H. «. er habe ihm seine Liebesgeschichte in Musik setzen wollen». Ludwig van Beethovens e-Moll-Sonate, op. 90 // Österreichische Musikzeitschrift. — 1988. — Bd 43. — S. 592-601.
391. Krones H. Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft // Trans: InternetZeitschrift für Kulturwissenschaften. 1998. № 4.
392. Krones H. Rhetorik und rhetorische Symbolik in der Musik um 1800. Vom Weiterleben eines Prinzips // Musiktheorie. — 1988. — Bd 3. — S. 125132.
393. Langen A. Zum Symbol der Äolsharfe in der deutschen Dichtung // Zum 70 Geburtstag von J. Müller-Blattau. — Kassel, 1966. — S. 160-191.
394. Langer S. Feeling and Form: A theory of art developed from Philosophy in a New Key. — L.: Routledge & Kegan Paul, 1953. — XVI, 431 p.
395. Lausberg H. Handbuch der Literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. —München: Hueber, 1960. — Bd 1-2.
396. Lempicki S. von. Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1968. — XII, 507 S.
397. Levi-Srauss C. Le cru et le cuit. — P.: Plön, 1964. — 402 p.
398. Lepper M. Typologie, Stilpsychologie, Kunstwollen: Zur Erfindung des «Barock» (1900-1933) // Arcadia. — 2006. — Vol. 41, № 1. — S. 14-28.
399. Levin L. The «Sirens» Episode as Music: Joyce's experiment in prose polyphony // James Joyce Quarterly. — 1965. — Vol. 3, № 1. — P. 12-24.
400. Lévi-Srauss C. Le cru et le cuit. — P.: Pion, 1964. — 402 p.
401. Lichtenberger H. Richard Wagner, poète et penseur. — Paris: F. Alcan, 1898.— 506 p.
402. Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatis-tischen Grenzgebietes / Hrsg. von St. P. Scher. — B.: E. Schmidt, 1984. — 432 S.
403. Littérature et musique / Ed. R. Célis. — Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis, 1982. — 193 p.
404. Lorenz A. Der musikalische Aufbau des Bühnenfestspieles Der Ring des Nibelungen. — Berlin: M. Hesse, 1924. — 320 S. (=Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner, Bd. 1).
405. Lubkoll Ch. Mythos Musik: Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Literatur um 1800. — Freiburg im Breisgau: Rombach, 1995. — 338 S.
406. Ludwig O. Shakespeare-Studien. — Halle: Gesenius, 1901. — LXXXV, 403 S.
407. Matoré G., Mecz L. Musique et structure romanesque dans la «Recherche du temps perdu». — P.: Klincksieck, 1973. — 354 p.
408. Mechoulan E. From music to literature // A Review of Theory and Literary Criticism. — 1999. — Vol. 28, № 1. — p. 42-57.
409. Melnik D. C. Fullness of dissonance: Modern fiction and the aesthetics of music. — Rutherford: Fairleigh Dickinson University Press; L.: Associated University Presses, 1994. — VII, 159 p.
410. Meylan P. Les écrivains et la musique. Etudes de musique et de littérature comparées. — Lausanne: La Concorde, 1944. — 135 p.
411. Mittenzwei J. Das musikalische in der Literatur. Ein Überblick von Gottfried von Strassburg bis Brecht. — Halle: Verlag Sprache und Literatur, 1962. — 576 S.
412. Mosley D. L. Auflösung in nineteenth-century literature and music // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 1993. — Vol. 51, № 3. — P. 437-444.
413. Müller II., Briesemeister D. u. a. Streitgedicht II Lexikon des Mittelalter: In 9 Bdn. — München: Deutschen Taschenbuch Verlag, 2002. — Bd 8. — S. 235-240.
414. Music and German Literature. Their Relationship since the Middle Ages / Hrsg. von J. MacGlathery. — Columbia (SC): Camden House, 1992. — 352 P
415. Musico-poetics in perspective: Calvin S. Brown in memoriam. — Amsterdam: Rodopi, 2000. — XVII, 313 p. (=Word and music studies; 2).
416. Nahrebecky R. Wackenroder, Tieck, E.T.A. Hoffmann, Bettina von Arnim. Ihre Beziehugen zur Musik und zum musikalischen Eriebnis. — Bonn: Bouvier, 1979. — 262 S.
417. Naudin M. Evolution parallèle de la poesie et de la musique en France: rôle unificateur de la chançon. — P.: Nizet, 1968. — 272 p.
418. Le niveaux de langue. Musique et littérature jusqu'au XVIII siècle. Baudelaire // Cahiers de l'Association internationale des études françaises. — № 41, mai 1989. — P.: Les Belles lettres, 1989. — 322 p.
419. Orrell J. The musical canon of proportion in Jonson's «Hymenaei» Il English Language Notes. — 1978,— Vol. 15, №3,— P. 171-178.
420. Pater W. The Renaissance; studies in art and poetry. — L.: Macmillan and co., limited, 1910. — XV, 2., 238, 1. p.
421. Pattison В. Music and Poetry of the English Renaissance. — L.: Methuen, 1948, —IX, 220 p.
422. Peacock R. Probleme des Musikalischen in der Sprache // Weltliteratur. Festgabe für F. Strich zum 70 Geburtstag. — Bern: Francke, 1952. — S. 8510.
423. Petri H. Literatur und Musik. Form- und Strukturparalellen. — Göttingen: Sachse und Pohl, 1964. — 94 S.
424. Peyer H. Herders Theorie der Lyrik. — Winterthur: P.G. Keller, 1955. — 100 S.
425. Pfitzner I. «Musique exacte et paroles incompréhensibles.»: Music as Language in Panait Istrati's «Mes départs» // Journal of the Twentieth-Century Contemporary French Studies. — 2002. — Vol. 6, № 2. — P. 382394.
426. Plett H. F. Der affektrhetorische Wirkungsbegriff in der Rhetorisch-poetische Theorie der Englischen Renaissance. — Bonn, 1970. — 281 S.
427. Pomorska K. Themes and Variations in Pasternak's Poetics. — Lisse: Peter de Ridder Press, 1975. — 92 p.
428. Poos H. Kreuz und Krone sind verbunden: Sinnbild und Bildsinn in geistlichen Vokalwerk J. S. Bachs. Eine ikonografische Studie // MusikKonzepte. — 1986 — H. 50/51.
429. Prieto E. Listening in: music, mind, and the modernist narrative. — Lincoln: University of Nebraska Press, 2002. — XIII, 322 p.
430. Raymond G. L. Rhythm and harmony in poetry and music. — N. Y.; L., 1920. — N. Y.; L.: G. P. Putnam's Sons, 1909. — XXXVI, 344 p.
431. Rigolo F. Le Texte de la Renaissance: De rhétoriqueurs à Montaigne. — Genève: Droz, 1982. — 284 p. (=Histoire des idées et critique littéraire, vol. 205).
432. Ruprecht D. Untersuchungen zum Lyrikverständnis in Kunsttheorie, Literaturhistorie und Literaturkrutuk zwischen 1830 und 1860. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. — XII, 418 p.
433. Saint-Beuve Ch.-A. Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'empire. — P., 1948, —Vol. 1-2.
434. Salmen W. Fragments zur romantischen Musikanschauung von J.W. Ritter // Zum 70 Geburtstag von J. Müller-Blattau. — Kassel, 1966. — S. 235-241.
435. Scher St. P. Literature and music // Interrelations of literature / Ed. by J.-P. Baricelli, J. Gibaldi. — N. Y.: Modern Language Association of America, 1982.—P. 225-250.
436. Scher St. P. Literature and music: Comparative or interdisciplinary study? // Yearbook of Comparative and General Literature. — 1975. — Vol. 24. — P. 37-40.
437. Scher St. P. Verbal music in German literature. — New Haven; L.: Yale University Press, 1968. — VIII, 181 p.
438. SchererJ. Le «Livre« de Mallarmé. — P., 1957. — 382 p.
439. Scherpe K. Gattungspoetik im 18. Jahrhundert. Historische Entwicklung von Gottsched bis Herder. — Stuttgart, 1968. — VII, 300 S.
440. Schmitz U. Dichtung und Musik in Herders theoretischen Schriften. — Köln, 1960.— 240 S.
441. Schnell R. Einleutung II Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik.2006. — Jg 36, Heft 141. — S. 5-9.
442. Scholtz G. Schleiermachers Musikphilosophie. — Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981. — 171 S.
443. Smith B. Poetic closure. A study of how poems end. — Chicago: University of Chicago Press, 1968. — XVI, 289 p.
444. Smyth J. V. Music theory in late Kafka / Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities. — 1998. — Vol. 3. № 2. — P. 169-182.
445. Springer G. P. Language and music. Parallels and divergencies // For Roman Jacobson / Ed. by M. Halle. — The Hague, 1956. — P. 504-511.
446. Staiger E. Deutsche Romantik in Dichtung und Musik II Staiger E. Musik und Dichtung. — Zürich: Atlantis Verlag, 1966. — S. 78-90.
447. Staiger E. Grundbegriffe der Poetik. — Zürich: Atlantis Verlag, 1968. — 256 S.
448. Steblin R. A history of key characteristics in the eighteenth and early nineteenth centuries. — Ann Arbor (Michigan): UMI Research Press, 1983.
449. XII, 396 p. (=Studies in musicology, № 67).
450. Stecker R. Expressiveness and expression in music and poetry // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 2001. — Vol. 59, № 1. — P. 85-97
451. Stefano G. di. Der ferne Klang. Musik als poetisches Ideal in der deutschen Romantik II Euphorion. — 1995. — 89/1. — S. 54-70.
452. Steggle M. Paradise Lost and the acoustics of Hell I I Early Modern Literary Studies. — Sheffield Hallam University, 2001. — № 7.1/Special Issue 8 (May).-9.1-17.
453. Stevens J. Words and music in the Middle Ages: Song, dance, narrative and the drama. — Cambridge; N. Y.: Cambridge University Press, 1986. — XVII, 554 p.
454. Stolte H. Eilhart und Gottfred. Studie über Motivreim und Aufbaustil. — Halle, 1941, — 168 S.
455. Stone P. W. K. The Art of Poetry, 1750-1820. — L.: Routledge & Kegan Paul, 1967.— 202 p.
456. Trojan F. Das Theater an der Wien, Schauspieler und Volksstücke in den Jahren 1850-1875. — Wien; Lpz., 1923. — 76 S.
457. Unger H.-H. Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16-18 Jahrhundert. — Würzburg, 1941. — 173 S.
458. Vlock D. M. Sterne, Descartes and the music in «Tristram Shandy» // Studies in English Literature. 1500—1900. — 1998. — Vol. 38, № 3. — P. 517-536.
459. Walker D. P. The Aims of Baifs Academic de Poesie et de Musique // Journal of Renaissance and Baroque Music. — 1946. — Vol. 1 (June). — S. 91-100.
460. Wallace R. K. Jane Austen and Mozart: Classical equilibrium in fiction and music. — Athens: University of Georgia Press, 1983. — X, 295 p.
461. Walzel O. Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. — Berlin-Neubelsberg: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1923. — 408 S.
462. Wanamaker M. C. Discordia concors: The wit of metaphysical poetry. — Port Washington (N. Y.): Kennikat Press, 1975. — X, 166 p.
463. Wasserman E. R. The subtler language: Critical reading of neoclassic and romantic poems. — Baltimore: Johns Hopkins Press, 1959. — 361 p.
464. Weinberg B. A History of literary criticism in the Italian Renaissance. — 2 ed. — Chicago: University of Chicago Press, 1963. — Vol 1-2.
465. Weisstein U. Comparing literature and art // Proceedings of the IXth Congress of the International Comparative Literature Asssociation, Innsbruck, 1979. Bd 3: Literature and the Other Arts. — Innsbruck, 1981. — P. 30-42.
466. Williamson G. The proper wit of poetry. — L.: Faber and Faber, 1961. — 136 p.
467. Winn J. A. Unsuspected eloquence. A history of the relations berween poetry and music. — New Haven: Yale University Press, 1981. — XIV, 381 p.
468. Wiora W. Die Musik im Weltbild der deutschen Romantik // Wiora W. Historische und systematische Musikwissenschaft. — Tutzing: Hans Schneider, 1972. — S. 265-297.
469. Wittkower R. Architectural principles in the age of Humanism. — N. Y.: Random House, 1965. — 173 p.
470. Wolf W. The musicalization of fiction. A study in the theory and history of Intermediality. — Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1999. — XI, 272 p. (= Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft; 35).
471. Yasser J. The variation form and synthesis of arts // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 1956. — Vol. 14. — P. 318-323.
472. Zatkalik M. Is there music in Joyce and where do we look for it? // Joyce Studies Annual. — 2001. — Vol. 12. — P. 55-64.