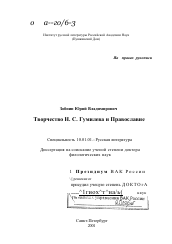автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Творчество Н. С. Гумилева и православие
Введение диссертации2001 год, автореферат по филологии, Зобнин, Юрий Владимирович
В свое время, Франческо Петрарка, гадая о своей судьбе в истории, мало заботился о том, будут ли его читать через сто лет: «Мне не нужно, чтобы меня читали, главное - чтобы меня любили». С Гумилевым получилось иначе: именно чтение его произведений - вне зависимости от того, какие чувства вызывали они у читателей - оказалось смысловым средоточием того, что мы можем назвать гумилевской «миссией» в мировой (прежде всего, конечно, русской) литературе XX века.
С 1921 по 1986 гг. - шестьдесят пять лет - шла ожесточеннейшая борьба за право читать стихи Гумилева. Речь идет не о том «культурном остракизме» (отсутствие переизданий, тенденциозные оценки творчества в критике, провокационные заявления властей и т.п.) которому подверглись в СССР многие гумилевские современники - художники «серебряного века». Речь идет о жестком и бескомпромиссном запрете не только на произведения, но даже и на самое имя поэта, - запрете, который носил политический характер и нарушение которого рассматривалось как государственное преступление. Чтение Гумилева бьшо не обычной советской «интеллигентской фрондой», но смертельным риском, влекущим за собой отнюдь не только административные выводы.
И, тем не менее, Гумилева читали. Факты подлинного читательского героизма можно найти в воспоминаниях участников «советской гумилевианы», опубликованных в сборниках «Николай Гумилев в воспоминаниях современников» (М., 1990), «Жизнь Николая Гумилева» (СПб., 1991), «Николай Гумилев. Исследования и материалы. Библиография» (СПб., 1994), монографиях В. К. Лукницкой\ А. ДавидсонаА, В. В. БронгулееваА, работах Е.Эткинда"А, Р. РедлихаА, Л. А. ОзероваА, А. ЧерноваА и во многих, многих других «самиздатовских» и «постперестроечных» публикациях. Как легко предположить, свет увидела пока еще лишь ничтожная часть документов - прочее (что мне наверное известно), пребывает в частных архивах (и, вероятно, еще большее - в архивах соответствующих государственных служб).
Но если более полувека шла героическая борьба русских читателей Гумилева с самым агрессивным в истории человечества тоталитарным режимом -за что конкретно эта борьба велась? Очевидно, что в творчестве поэта скрыто что-то настолько ценное, настолько необходимое для русского чобщественного сознания нашей эпохи, что обретение этого оправдывало в глазах нескольких поколений русских людей личный смертельный риск?
Вот вопросы, которые примерно с шестидесятых годов, когда советская «гумилевиана» стала очевидным даже для скептиков фактом (и конца ей не предвиделось), превратились из риторики энтузиастов в проблему для ученых-литературоведов - сначала зарубежных, а затем, после 1986 года - и отечественных. Логика подсказывает, что, отмечая исключительное положение Гумилева в ряду русских писателей XX века, следует предположить наличие у него каких-то черт, либо отсутствующих у прочих, либо выраженных не столь ярко.
На этот счет к настоящему моменту в гумилевоведении сложилось четыре версии, которые мы условно можем обозначить как биографическую, формально-поэтическую, тематическую и идейно-содержательную.
Ответы, предлагаемые адептами каждой из них, сводятся соответственно к следующим утверждениям.
Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку его биография резко выделяется среди прочих писательских судеб некоторыми, импонирующими современному читателю чертами.
Гумтев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку является непревзойденным мастером стиха, выразившим в возможной полноте специфические особенности новейшего российского поэтического языка.
Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку его тематика (прежде всего, экзотического толка) не имеет аналогов в современном русском искусстве.
Гумилев занимает исключительное место в русской культуре XX века, поскольку его поэтическое мировоззрение содержит элементы, отсутствующие или слабо выраженные в русском искусстве нашей эпохи, но жизненно необходимые для позитивного самосознания читателя.
Сразу же следует отметить, что три первых версии всегда возникают при изначальном отрицании четвертой, собственно - как прямое следствие подобного отрицания. Некоторые из мемуаристов и исследователей, не опровергая наличие «феномена Гумилева» в русской культуре XX в., придерживаются, в то же время мнения, что поэт бьш, выражаясь корректно., не совсем умным человеком. Вариант: наивным. Еще вариант: не очень образованным. Еще вариант: не интересующимся ничем, кроме формальных аспектов теории искусства. В подтверждение приводятся очень серьезные аргументы, заключенные, как правило, в свидетельствах авторитетных современников Гумилева . Но, с другой стороны, если эти произведения так привлекают читателей, то. за счет чего? - и далее начинаются построения.
В нашей монографии «Николай Гумилев - поэт Православия» мы очень подробно рассмотрели аргументацию сторонников первых трех гипотез, призванных объяснить популярность поэта у «его читателей» (глава «Поэт в России»), и пришли к выводу, «что не особенности биографии, не поэтическое мастерство, не экзотические темы сами по себе обусловили "феномен Гумилева" в русской культуре XX века. <.> Остается предположить, что Гумилев дорог своим читателям не как "бывалый" человек, путешественник, воин, заговорщик, не как учитель стихосложения и даже - не как даже занимательный рассказчик "веселых сказок таинственных стран". Все это - по-своему прекрасно, интересно, ярко, неповторимо в Гумилеве, но. не это главное»Л
Данное заключение подтверждается, помимо прочего, и словами самого Гумилева, утверждавшего, что вне сферы личностного бытия человека и связанной с этой сферой духовной работы собственно поэзия не существует. «Поэзия для человека, - пишет Гумилев в статье "Читатель", - один из способов выражения своей личности и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям». Если вспомнить, что в отличие от «физического», по-сю-стороннего человеческого быта личностное бытие человека всегда идеалистично («.Личность оказывается над-качественным, над-природным бытийным стержнем, вокруг которого и группируются природные качественные признаки. <.> Личность находится по ту сторону. природы»*л), то оказьшается, что в понимании Гумилева поэт - художник «узкого профиля», ибо «.поэзия заключает в себе далеко не все прекрасное, что доступно человеку». Художника могут вдохновить как этические так и эстетические проблемы, никак не связанные с обязательной для личностного бытия метафизической проблематикой. «Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремиться увеличить его способность наслаждаться». Искусство, таким образом, по мнению Гумилева, увенчивается поэзией, но не исчерпывается ею: наряду с художниками-поэтами существуют и художники-прозаики, остающиеся таковыми даже при использовании стихотворной формы: «Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы. <. > И повсюду проза следовала за ней, утверждая, что между ними, собственно, нет разницы, подобно бедняку, преследующему своей и дружбой богатого родственника» . Нельзя не заметить, что гумилевской понимание поэта как художника-метафизика, противостоящего художнику-позитивисту-прагматику (прозаику), очень близко подходит к «младосимволистской» трактовке поэзии как теургии, а поэта - как «жреца и А пророка». «Поэзия и религия, - недвусмысленно постулирует Гумилев, - две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели., а во имя высшей, неизвестной им самим. <.> Руководство. в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии»'А.
Из сказанного следует, что, отказьшая гумилевскому творчеству в религиозно-философской содержательной глубине и оригинальности, не видя в Гумилеве, прежде всего - «носителя мысли великой», «визионера и пророка»АА, 1/ мы, просто-напросто, отказываем ему в праве. называться поэтом, - ведь все остальные достоинства художника, вплоть до совершенного владения поэтической формой, обретаются, согласно терминологии «Читателя», на уровне «прозы»А"А
Итак, и наши попытки объективного рассмотрения специфики творческого облика Гумилева, и его собственное понимание миссии поэта в общественно-культурном бытии народа, приводят нас к единственно возможному выводу: необыкновенная судьба гумилевского наследия объясняется тем, что здесь эстетизнровано некое оригинальное, целостное мировоззрение, крайне редкое в историческом контексте «серебряного века» и крайне актуальное для русских читателей последующих за ним советских десятилетий. «Гумилев, - писал один из младших современников поэта спустя без малого десятилетие после трагических событий августа 1921 г., - начал с объективного восприятия внешнего мира и создал самостоятельное религиозно-научное мировоззрение»^.
Вопрос заключается в том, о каком конкретно «религиозно-научном мировоззрении» идет речь?
Следует признать, что приведенное высказывание - одно из очень немногих подобного рода, коль скоро речь идет о трактовке гумилевского творчества в 20-х - 50-х гг. Именно идейно-философский аспект творческой позиции поэта менее всего освещен в работах этих лет, так что сами определения интеллектуального толка («поэт-философ», «поэтическая философия», «духовные искания» и т.д.) вызывали, в применении к Гумилеву, некоторое замешательство, были, так сказать, «проблемными», требующими особых оговорок. Особое внимание здесь стоит уделить пространному очерку Ю.Н.Верховского, появившемуся в сборнике «Современная литература» в 1925 г.
Для Верховского, действительно, значимость гумилевского творчества объясняется, прежде всего, некими особыми присущими ему духовными мотивами. Однако, по мнению исследователя, религиозно-философская природа этих мотивов целиком восходит к «младосимволистской» идеологии, так что «миссия» Гумилева сводится лишь к последовательной вьфаботке язьпса, способного донести эту идеологию до читателей с большей выразительностью и, главное, доступностью, нежели то бьшо в творчестве поэтов из круга Вяч.И.Иванова. Поэтому, с точки зрения Верховского, акмеистическое «преодоление символизма» - задача чисто-поэтическая, с которой Гумилев справился вполне, так что среди читателей-профанов он вьшлядит неким «миссионером-переводчиком», понятно растолковывающим то, о чем «непонятно» говорится в младосимволистских «первоисточниках». Творчество Гумилева оказывается содержательно вторичным, полностью укорененным в религиозно-философском контексте символизма, но поэтически оригинальнымЛЛ.
Точку зрения Ю.Н.Верховского приняли авторы масштабных зарубежных исследований, появившихся вслед за публикацией в 1962 - 1968 гг. в Вашингтоне четырехтомного Собрания сочинений Гумилева. Несомненно, что здесь существенную роль сьпрал авторитет проф. Г.П.Струве, трудами которого данное издание и бьшо осуществлено. В двух пространных статьях, предваряющих I и 11 томы, Струве, привлекая многочисленные свидетельства современных Гумилеву критиков, трактует акмеизм как поэтическую реакцию группы поэтов на некоторые стороны поэзии символистов, считая, что «как теория» он провалился». По мнению Г. П. Струве, Гумилев, «сохранив то, что для него лично в акмеизме было наиболее ценным - подход к поэзии как к высокому ремеслу., или, вернее, овладев сам до конца своим "ремеслом" поэта, вернулся в лоно породившего его символизма»л'. В монографии М. Maline «Nicolas Gumilev, poete et critique acineiste» (Bruxelles, 1964) буквально повторяется вьшод Струве о том, что акмеизм - это возвращение к формально-поэтическому классицизму, к трациции пушкинской ясности слога», а величие гумилевского творчества - в Я строгости, ясности, гармонии» . В том же духе представлен Гумилев и англоязычным читателям - в монографии Е. D. Sampson «Nikolay Gumilev» (Boston, 1979): самым главным в жизни и творчестве поэта здесь оказывается б проявление «воли к творчеству», которая сознательно преодолевает трудности, связанные с поиском «наилучших слов в наилучшем порядке» (по формуле Колриджа)'Л. Оба исследователя значительное место уделяют анализу поэтических достижений поэта (в монографии М. Maline гумилевскому метрическому репертуару посвящена целая глава, а у Simpson - отдельная статья «Dorniks in Gumilev's Poetry»^.
Как видно из вышесказанного, образ Гумилева-поэта - при всей его привлекательности, несомненной для упомянутых авторов, - обладает здесь некоторым досадным изъяном - идейной несамостоятельностью, зависимостью л от авторитета «учителей-символистов». Позиция Гумилева выглядит исключительно «страдательной», объясняющейся слегка перефразированным изречением: Николай Степанович пришел, увидел, отразил, то, что являлось содержанием духовных поисков Брюсова, Вяч.Иванова, И.Ф.Анненского, Бальмонта, Блока, Андрея Белого и др. Инерция этой традиции до сих пор настолько велика, что и во многих современных исследованиях при анализе гумилевских произведений особую актуальность приобретает проблема источника влияния, решаемая на практике поиском интертекстуальных параллелей, и, с другой стороны, проблема поэтического мастерства, требующая стиховедческих исследовательских методик.
Мы отнюдь не собираемся оспаривать ценность работ, явившихся следствием подобного подхода к наследию поэта. Напротив: следует отметить, что к настоящему моменту, благодаря усилиям целого ряда вьщающихся отечественных и зарубежных исследователей, создана весьма подробная характеристика Гумшева-декадента, в полной мере отдавшего дань идейно-философским пристрастиям, свойственным художнику «серебряного века». Все, что связывало его с эпохой реконструировано в современном «гумилевоведении» с впечатляющей яркостью и полнотой: ницшеанствоЛЛ западнические эстетические пристрастияЛЛ тяготение к экзотческим культурамЛЛ, декадентский мистицизм, генетически восходящий к всевозможным «тайным доктринам^"* и т.п.
Однако, как уже говорилось выше, сущность «феномена Гумилева» как раз в том, что он, если можно так выразиться, перерос «серебряный век». Собственно «сверхзадачей» гумилевоведенья уже в первые годы после смерти поэта стал ответ на вопрос, почему именно Гумилев, в общем, не самый заметный в блистательной плеяде поэтов «начала века», занял уже через несколько лет после гибели такое исключительное место в культурной жизни России, - тогда как его популярнейшие современники, если и не оказались на периферии читательского внимания, то, все-таки не могли конкурировать с его посмертной славой. Так, например, Ахматова отмечала, например, «бешенное влияние (Гумилева - Ю.З.) на молодежь (в то время как Брюсов хуже, чем забыт) »Л4, а Одоевцева простодушно удивлялась превратностям истории, сопоставляя посмертные судьбы ГзтУЕилева и Сологуба: «Сологуба забьши "всерьез и надолго". И теперь кажется странным, что когда-то он считался среди поэтов "первым из первых". Сологуб непоколебимо верил и в свою прижизненную и посмертную славу, тогда как Гумилев только мечтал завоевать и ту, и другую. И, надеясь прожить еш;е лет пятьдесят, не предчувствовал, как близка к нему смерть. И как велика будет его а посмертная слава» . Следует также вспомнить, что Ахматова настойчиво утверждала «инаковость» Гумилева по отношению к эпохе, - на это со всей определенностью указывал Р.Д.Тименчик, трактовавший «Поэму без героя» как «Поэму без Гумилева» и относивший к «гумилевскому» смысловому слою знаменитые стихи:
Ты как будто не значишься в списках, Л
В калиострах, магах, лизискахЛ'. С этим литературоведческим сюжетом, перекликается сюжет биографический, зафиксированный в материалах П.Н.Лукницкого, - Ахматова резюмирует свои впечатления от воспоминаний Н.Войтинской, знавшей Гумилева в ранние, «декадентские» годы: «А вы знаете, что он совсем не такой бьш. Это бьш период эстетства. Он бьш совсем простой человек потом.» .
Итак, Гумилев не значится в списках «серебряного века», все то, что являлось средоточием жизнетворческой стилистики 1900-1910-х гг. для него - не более чем «период эстетства», внешнее увлечение. Пишуш;ий эти строки, автор 4 первой в пост-советской России диссертацией, посвяш;енной как раз идейно-философским основам творческой позиции Гумилева, до сих пор отлично помнит, что все его попытки проследить отношение героя к трудам «духовных отцов» русского декадентства - начиная от неоплатоников и кончая Кантом, Ницше и Соловьевым - оказывались, в суш;ности, ничем иным как определением круга чтения поэта, - не более. Странное впечатление для историка «серебряного века»: Брюсов и Бальмонт увлечены проповедью Ницше, Блок исповедует (иначе не скажешь!) Соловьева, Белый переоюивает духовный и творческий кризис, пытаясь «преодолеть» Канта, а вот Гумилев всех этих авторов. читал. Пытаться lU реконструировать его личностное credo, обращаясь к этим параллелям - то же самое, что пытаться определить подлинный круг убеждений библиофила, основываясь на содержании каталога его библиотеки, объявляя его, соответственно, мусульманином, обнаружив Коран; христианином, увидев Библию; иудеем, заметив Талмуд; кантианцем, наткнувщись на «Критику чистого разума»; ницшеанцем, буде и «Заратустра» здесьЛЛ. Основываясь на подобных работах (включая и помянутую диссертацию автора), мы можем лишь с Згверенностью подтвердить свидетельство И.В.Одоевцевой: «Он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная. Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую. <.> Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях - истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее »лл. Гумилев, действительно, много читал и, естественно, использовал полученные знания в своем творчестве, однако будет неправомерно отождествлять его интеллектуальный багаж и миросозерцание, принципы которого, очевидно определены некоторой достаточно узкой идеологией. В этом смысле, завершая наш экскурс в историю вопроса, прежде чем предложить наш вариант разрешения его, кажется уместным упомянуть капитальный труд Р.Эшельмана «Nikolaj Gumilev and Neoclassical Modernism», в котором, кажется, нашла окончательное завершение гипотеза Г.П.Струве о гумилевском акмеизме как о возвращении к классицизму, к трациции пушкинской ясности слога, строгости, ясности, гармонииЛ\ Главным положением этой очень информативно-насыщенной книги является тезис о некоем титаническом эстетическом сверхусилии, с помощью которого Гумилев как бы «снимает» идеологические противоречия огромного количества самых разнородных источников, сочетающихся в гармоническом строе содержательных мотивов его произведений (прежде всего - стихотворений) в абсолютном художественном единстве (символическим аналогом здесь, конечно, является готическая архитектура, спаивающая всевозможные детали в единое целое). Гумилев превращается в эстета-энциклопедиста, созерцающего любое явление только как эстетический феномен (именно так трактуется исследователем понятие «акмеистической меры») - и в этом «ограниченном» виде «уравнивающий» - религии, философские течения, исторические события, реалии национальных культур, человеческие аффекты и т.д. в общем лоне «строгой красоты».
Совершенно очевидно, что даже если полностью принять версию Р.Эшельмана, то гумилевскую способность к «тотальной эстетизации» всего и вся невозможно объяснить иначе, как наличием у поэта очень жесткой и продуманной личной мировоззренческой позиции, причем - позиции, внеположной тем реалиям, которые и «уравниваются», образуя «многоуровневое» образное единство поэтического текста. В любом другом случае при столкновении с новой, неожиданной версией идеологического толка (религиозно-философским, политическим или социальным учением и порожденной ими культурой) психологически невозможно избежать неких эмоциональных эксцессов и, следовательно, принять данную реалию только как объект эстетического созерцания.
Мы утверждаем, что мировоззренческой основой Гумилева, обусловившей специфику его позиции в культуре «серебряного века» (а затем - в отечественной и мировой культуре минувшего столетия) было Православие. Гумилев бьш не просто глубоко верующим, полностью воцерковленным человеком. Он бьш хорошо знаком с той религиозно-философской традицией, которая сложилась в Восточной Церкви и затем бьша воспринята преемницей Византии - Древней Русью, создавшей на этой идеологической основе уникальный тип мировосприятия, породивший собственно «русскую цивилизацию». Среди творческой интеллигенции эпохи (по крайней мере среди фигур первого ряда) такой «традиционализм» мировоззрения бьш, действительно зшикальным явлением, ибо общей тенденцией здесь, как многократно отмечалось в работах посвященных этому периоду в истории русской культуры, оказывалась тяга к религиозному модернизму и, соответственно, критическое отношение к учению и жизнестроительству «исторической», говоря словами Д.С.Мережковского, Церкви. С другой стороны, в годы государственного атеизма и коммунистических гонений на Православие, творчество Тушилеш, заключающее в себе совершенную эстетизацию именно православного взгляда на Бога, человека и мир, стало крайне притягательным для советских читателей, сознательно или (большей частью) инстинктивно стремившихся любыми путями восстановить контакт с механически блокированной Церковью, вернуть в свой жизненный оборот естественные для человека, связанного с русской культурой, православные ценности (тем более, что та версия марксистской идеологии, которая бьша признана в СССР официальной. г полностью игнорировала те актуальные аспекты человеческого бытия, смысл которьк невозможно разрешить вне метафизики).
Принципиально важно отметить, что православное начало в гумилевском творчестве не воплощается в проповедь, и уж, конечно совсем нелепо отождествлять его поэзию с поэзией духовной (к созданию которой способны только подвижники, «по силе жития» близкие к святости). Мы видим здесь лишь демонстрацию красоты и глубины целостного миросозерцания просвещенного православного русского человека, причем - миросозерцания современного, обращенного ко всем «больным проблемам» эпохи. л
Целью нашей работы являлось аналитическое критическое осмысление имеющихся на настоящий момент исследовательских версий творческого пути Гумилева, его «миссии» в отечественной и мировой культуре и, затем, утверждение объективной, целостную, лишенную противоречий и смысловых лакун, концепцию творчества одного из величайших русских поэтов XX века. Подобная цель исследования бьша тем более объективно необходима для автора настоящей диссертации, что он в 1994-2001 гг. являлся ответственным редактором 1-4 томов Полного собрания сочинений Н.С.Гумилева, издаваемого Институтом русской литературы РАН, включающих в себя полный состав текстов гумилевских стихотворений и поэм, созданных поэтом за все годы творчества - от «тифлисского альбома» 1902 г. до шедевров «Огненного столпа».
Методика исследования, определенная подобной целенаправленностью, логически предполагает сочетание историко-литературных методов с герменевтикой, толкованием текста с целью выявления какой-либо оригинальной содержательной ценности.
Состав дальнейшего повествования выстроен таким образом, что позволяет увидеть целостность «православного начала» в творческой судьбе Гумилева.
В Первой главе рассказывается о роли православной воцерковленности в жизни и творчестве Гумилева и делается вывод, что специфичность его творческого и личного бытия, «лица необщее выраженье», со всей определенностью отмеченное мемуаристами, критиками и исследователями, как раз и объясняется сознательным стремлением поэта к утверждению себя как православного христианина. Собственно поэтическое самоопределение Гумилева, нашедшее свое выражение в идее акмеистического творчества, как раз и утверждает, прежде всего, ценность духовно зрелого (акмэ - зрелость) искусства, стремяш;егося к симфонии с Церковью. Отсюда и стремление Гумилева эмблематизировать программу акмеизма образами канонической духовной живописи (ст-ния «Фра Беато Анджелико», «Андрей Рублев»). Мы видим далее, что мировоззренческая целостность Гумилева, основанная на глубоком усвоении им стройной религиозной философии Православия и огцущении своей причастности к Церкви, которую «не одолеют врата ада», делали весьма заметным и «стильным» собственно человеческий, личный облик поэта - на фоне обш;ей декадентской жизнетворческой эклектики интеллигенции «серебряного века». В творчестве Гумилева этот опыт личной воцерковленности нашел свое выражение в качестве отдельной темы, связанной, с одной стороны, с осмыслением православного опыта храмовой молитвы - в его отличиях от язьшеского, католического и протестантского (целый ряд произведений, от самых ранних, таких как «Осенняя песня» - до «Пятистопных ямбов» и «Заблудившегося трамвая»), - и, с другой стороны, с метафорическим соотнесением пути воцерковления как пути личного следования ха Христом, который развертывается в творчестве Гумилева хронологически в полном соответствии с евангельским повествованием о Служении и Страстях Господних (стихотворения «Христос», «Отрывок», «Я не прожил, я протомился.», «Я, что мог быть лучшей из поэм.»). Подобная архитектоника символически сближает картину личного духовного пути, нарисованную поэтом, с литургийной образностью, даюгцей возможность участникам литзфгийного действа шаг за шагом пройти земную жизнь Христа - от Рождества (символика Проскомидии), до Вознесения (завершение Литургии Верных изнесением Чаши).
Вторая глава содержит характеристику мотивов гумилевского творчества, связанных с православной антропологией, прежде всего - с важнейшими ее аспектами, как то: учением о Творении и предназначении человека, учением о грехопадении и греховном бытии, как бытии недолжном, зрением о сложном составе человеческого сущ;ества и о похоти, предстаюш;ей здесь образом «немош;и» человека, отпавшего от божественной «витальной энергии» и тш:етно пытаюш;егося утвердить свою жизнь собственными усилиями. В полном согласии с православной антропологией «земная» жизнь человека осмысляется в творчестве Гумилева как трагедия похоти - плотской и душевной, трагедия неутоленного желания, как в чувственной, так и в духовной сферах бытия. Этим объясняется наличие на всем протяжении творчества поэта такого лейтмотива как мотива отказа от достигнутой цели (см., напр. стихотворения «Семирамида», «Дон Жуан», «Пятистопные ямбы», поэму «Открытие Америки», драматическую поэму «Гондла»). В г}тмилевском творчестве существует ряд произведений, прямо обращенных к библейскому рассказу о Творении человека и грехопадении первых людей, среди которых особенно следует отметить сонет «Потомки Каина» и поэму «Сон Адама», где с особенной наглядностью представлена именно православная трактовка Священного Писания. Как легко догадаться, состояние похоти ярче всего проявляется в изображениях эротической сферы жизни человека, где православная антропология вьщеляет антитезу «любви» и «блуда». В творчестве Гумилева наличествует именно такая антитетическая тематическая пара: лирика собственно любовная противополагается здесь «лирике блудной», причем - противополагается сознательно, именно по тем критериям, которые используется в святоотеческих работах о человеке (особенно ясно это видно при анализе стихотворений, вошедших в книгу «К синей звезде»). Наконец среди гумилевских произведений мы находим стихотворения, в которых образы «похотствующих» друг на друга души и тела оказываются непосредственными объектами художественного анализа - «Разговор» и «Душа и тело». По форме данные стихотворения генетически восходят к средневековым стихотворным назидательным диалогам, но трактовка Гумилевым диалектики взаимодействия частей сложной природы человеческого существа оказывается вполне православной.
В Третьей главе раскрываются православные истоки гумилевской натурфилософии. Содержательным средоточием православного учения о природе является утверждение уникальности человеческого существа в материальном мире как единственного, наделенного душой. Остальная тварная материя не бьша «одушевлена» Творцом и предназначена только для обеспечения свободы бытия «венца творения» - человека. Отрицание бытия «души мира», утверждение метафизической пустоты природы (прозвучавшее даже в форме прямой декларации в стихотворении «Естество») - важнейшее идейное расхождение Гумилева с «младосимволистами», пытавшимися вслед за В.С.Соловьевым опознать хаос как метафизическую ценность. Обаяние младосимволистской «пантеистической мистики» было присуще раннему Гумилеву - «ученику символистов», но затем быстро бьшо преодолено, и уже с начала 10-х гг. мы находим целый ряд тематических блоков, свидетельствующих о сознательной приверженности поэта православному натурфилософскому персонализму. К числу особенно важных здесь следует отнести бестиарную тематику, отражающую в таких произведениях как «Африканская охота», «Лесной дьявол» и стихотворениях «африканского цикла» православное учение о зверях, как об отражении вовне в бездушной материи человеческих страстей, вызванных грехопадением. Отсюда и четкое различение понятий «животного» и «зверя» (первозданного тварного существа и существа, отражающего человеческую греховную страсть), присутствующее в православной философии и точно воспроизводимое в художественном мире Гумилева. Другой натурфилософской темой такого рода в творчестве поэта оказывается проблема аскезы, «укрощения» вьппедшей из под «умного контроля» плоти, раскрьшающаяся как в лирических признаниях («Укротитель зверей», «Ночью», «Солнце духа», «Леопард»), так и в произведениях лиро-эпических, проецирующих аскетическую проблематику на современные Гумилеву исторические коллизии, носящие признаки пробуждения «зверства» в человеческих массах - воину и революцию («Рабочий», «Мужик», «Ледокол» и др.). С другой стороны, в полном согласии с православной натурфилософией, в творчестве Гумилева утверждается и ценность природы, обусловленная не наличием в ней каких-либо метафизических «тайн», а ее статусом «творения, напоминающего о Творце», по слову Блаженного Августина. В этом смысле особенно важен образ «тишины» в пейзажной лирике поэта («Заводи», «Деревья», «Осень» и др.), восходящий к ветхозаветному обетованию «тихого ветра» в момент епифании (см.: 3 Цар. 19, 12). Особое место среди произведений, проясняющих характер гумилевской натурфилософии, занимает «Поэма Начала» - своеобразное полемическое «перетолкование» оккультной легенды о встрече Гермеса Трисмегиста с Великим Драконом Универсальным Разумом. У ГзтАилева Великий Дракон - средоточие материальной, «неодушевленной» жизни - оказывается иерархически подчиненным человеку, который владеет «тайной чудесной слов» и в конце концов становится ответственным за бьггие «неразумной» твари.
Четвертая глава посвящена связи историософских воззрений Гумилева с православной эсхатологией, учением о конечности исторического бытия, сообразного с общим замыслом божественного домостроительства и спасения падшего человека. Усвоение этого учения обусловило стойкий сознательный консерватизм Гумилева, отрицание в его творчестве «прогрессивной» историософской модели («Я вежлив с жизнью современною.», «И год второй к концу склоняется.», «Ольга»), ибо здесь продвижение к концу исторического бытия опознается как утверждение апостасии, массового отпадения людей «последних времен» от Христа и Церкви, предуготовляющее в качестве кульминации явление антихриста и его мировое воцарение на три с половиной года. Идея апостасии тесно связана с идеей т.н. «прелести» - извращенного понимания человеком добра и зла под активным воздействием «духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). Тема прелести - одна из центральных тем в произведениях позднего Гумилева, причем описание «механизма прельщения» в таких произведениях как третья «Канцона» «Костра» («Как тихо стало в природе.») или поэма "Звездный ужас" точно соответствует святоотеческому учению о разлагающем действии «лукавых грехов». Лирическое осмысление «соблазна», который несут людям «последние времена» с впечатляющей яркостью запечатлено Гумилевым в автобиографическом стихотворении «Память». Речь идет об искусе хилиазма - еретического учения о возникновении в конце истории тысячелетнего «земного рая» с «земным Царем-Христом». Хилиастические идеи бьши широко распространены в эпоху «серебряного века» с легкой руки В.С.Соловьева, создавшего особую версию «эсхатологического славянофильства». В годы Первой мировой войны обаянию этого учения готов бьш поддаться и Гумилев, осмыслявший учение об особой провиденциальной миссии России в контексте патриотической идеологии той поры (стихотворения «Новорожденному», «Война» и др.). Однако суровый жизненный опыт и способность к трезвому духовному рассуждению позволили автору «Памяти» (в отличие от автора «Двенадцати») увидеть в таинственном вожде «зодчих Нового Иерусалима» - лжехриста, сатану в образе «ангела светла» и опознать русский хилиазм начала XX века как путь ко смерти души.
Последнее утверждение связывает финал предыдущей с Пятой главой, в которой творческий путь Гумилева оценивается с позиции православного учения о спасении - сотериологии. В полном согласии с этим учением поэт оправдывал историческое бытие человека только способностью к покаянному усилию, «сокрушению духа и сердца» в виду собственной греховности (см.: Не. 50, 19) и к свободному же стремлению к Церкви, очищающей в своих Таинствах падшую человеческую природу. Так, скудная и мещански-убогая жизнь русского провинциального города (стихотворение «Городок») оказывается для поэта «настоящей» ибо внутренним мистическим средоточием ее является взнесенный над храмом Крест Православия. Подобная позиция, конечно, была неприемлема для той части творческой интеллигенции «серебряного века», которая решительно отрицала неустроенное настояш:ее России во имя гипотетического «светлого будугцего», жила «завтрашним днем» и стремилась ускорить его приближение, разрабатывая всевозможные способы личного участия в «прогрессивных преобразованиях» - от политических акций с использованием средств художественного творчества до «теургической магии» в духе мистического Л анархизма. Последнее особенно увлекало некогда юного Гумилева, только-только вступившего на путь литературной деятельности, «поверившего в символизм, как люди верят в Бога» (А.Ахматова) и мечтавшего с помощью словесной магии «изменить мир». Однако даже в эти годы природа подобных «творческих дерзаний» со всей определенностью воспринималась им как демонизм Л (стихотворения «Сегодня у нашего берега бросил.», «Как труп, бессилен небосклон.», «На льдах тоскующего полюса.», «Волшебная скрипка»), а затем, в эпоху духовной и творческой зрелости - как смертный грех, требующий Л сурового искупления. Таковым явился мученический конец, обетование которого бьшо явлено поэту задолго до августа 1921 г. и затем отразилось в стихотворном цикле «Счастие», стихотворениях «Рабочий», «Я и вы», «Прощение», «Заблудившийся трамвай», «Мой час». И теперь, после того как в 1986 г. стали доподлинно известны последние строки, начертанные Гумилевым на стене камеры смертников, можно с уверенностью утверждать, что его жизнь в полной мере состоялась именно как «жизнь настоящая», являющая для «его читателей» пример неукоснительного движения к «цели ведомой», указанной поэту Православием.
Краткое Заключение, завершающее работу, подытоживает сказанное; далее следуют Примечания.
Актуальность данной работы в полной мере подтверждается историческими особенностями современного периода российского литературоведения, активно обращающегося к православной религиозно-философской тематике, дабы ликвидировать, наконец, очевидные нестыковки и нелепости в той картине русской литературы, которая выстраивалась в СССР под давлением атеистической тоталитарной идеологии. Как непосредственно примыкающие к нашей теме здесь следует вьщелить труды М. Дунаева и О. Червинскойлл, ярко рисующие многоплановую картину отношений творческой интеллигенции «серебряного века» к Православию. Однако фигура Гумилева здесь фактически не освещена: М.Дунаев посвятил акмеизму лишь общий очерк. io не столько аналитического, сколько чисто-информативного характера, а О.Червинская все внимание концентрирует на характеристике православных ч/ мотивов в творчестве Ахматовой, признавая наличие таковых и в произведениях ее мужа, но специально оговаривая, что их анализ в задачу настоягцего исследования не входит. Среди других источников, появившихся в нашем научном обиходе в последние годы мы можем назвать лишь работы Н.А.Оцупа, Е.Вагина и Е. Thompson, где тема «Гумилев и Православие» хотя и заявляется как актуальная, не является объектом самостоятельного изученияЛЛ
Результаты работы получили практическое применение при издании сборников «Жизнь Николая Гумилева» (Л., 1991), «Николай Гумилев: pro et contra» (СПб., 1995, 2-е издание - СПб., 2000 (Серия "Русский путь")) и четырех томов Полного собрания сочинений Н.С.Гумилева, изданных в 1987-2001 гг. Институтом Русской литературы Российской Академии Наук (Пушкинским Домом).
Основные положения работы отражены в статьях: «Заблудившийся трамвай Н.С.Гумилева (к проблеме дешифровки идейно-философского содержания текста)» (Русская литература. 1993. № 4. С. 176-192), «Кантианские мотивы в творчестве Н.С.Гумилева (к вопросу о генезисе акмеистической эстетики)» (Философские проблемы искусствоведения, теории и истории культуры. Сб. научных трудов. СПб., 1994. С. 50-58), «Стихи Гумилева, посвяпсенные мировой войне 1914-1918 годов (военный цикл)» (Николай Гумилев. Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 123-143), «Странник духа. О судьбе и творчестве Н.С.Гумилева» (Николай Гумилев: pro et contra. СПб., 1995. С. 5-52 (Серия «Русский путь»; 2-е издание - СПб., 2000)), «Воля к балладе (лиро-эпос в акмеистической эстетике Гумилева)» (Гумилевские чтения. СПб., 1996. С. 111-119). На основании данной диссертации издана монография «Николай Гумилев - поэт Православия» (СПб., 2000. - 384 с. (Серия «Новое в гуманитарных науках»)).
Автор выражает глубокую признательность М.Баскеру (Великобритания), В.П.Петрановскому, В.Н.Вороновичу, Н.Н.Скатову, Н.А.Грозновой, сотрудниками отдела новейшей русской литературы ИР ЛИ (Пушкинского Дома) за конструктивную помощь в создании данной диссертации.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Творчество Н. С. Гумилева и православие"
Заключение.377