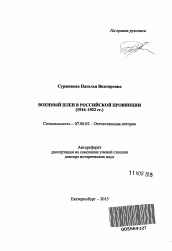автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Военный плен в российской провинции
Полный текст автореферата диссертации по теме "Военный плен в российской провинции"
На правах рукописи
Суржикова Наталья Викторовна
ВОЕННЫЙ ПЛЕН В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ (1914-1922 гг.)
Специальность — 07.00.02 - Отечественная история
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук
11 НОЯ 2015
Екатеринбург - 2015
005564327
Работа выполнена в Отделе истории Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук»
Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Центра изучения новейшей истории России и политологии ФГБУН «Институт российской истории РАН» Сенявская Елена Спартаковна
доктор исторических наук, проректор по науке ОУ ВО «Южно-Уральский инсппуг управления и экономики» Нагорная Оксана Сергеевна
доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Лукьянов Михаил Николаевич
Ведущая организация: ФГАОУ ВПО «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта»
Защита состоится 16 декабря 2015 г. в 10.30 часов на заседании Диссертационного совета Д 004.011.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБУН «Инсппуг истории и археологии Уральского отделения РАН» (620999, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16).
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделения РАН» (г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16, каб. 1101) и на сайте Института по адресу: Ьйр:/ЛЬЫ.игааги/й1е!з/2015_diss_SUR_diss.pdf.
Автореферат разослан « » октября 2015 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета доктор исторических наук
Е.Г. Неклюдов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы. XX в., ознаменованный целым рядом военных конфликтов и прежде всего двумя мировыми войнами, закономерно породил живейший интерес к изучению причин, форм, сущности, динамики и последствий всевозможных вооруженных противоборств. На этой волне в системе гуманитарных наук, помимо традиционной военной истории, получили свое развитие такие специфические отрасли знания, как социология войны (полемология, от англ. polemology), военная антропология и, наконец, новая военная история (от нем. Neue Mili-targeschichte)1. В условиях очевидного роста интереса к войне как неотъемлемому компоненту жизни общественных организмов практически неизбежной стала автономизация изысканий по истории военного плена, неизменно сопутствовавшего всем вооруженным конфликтам с древности. При этом вплоть до Нового времени плен оставался изменчивым, будучи связан с различными социальными практиками: рабством, кли-ентелой, патронатом, холопством и пр.2 Но общей тенденции унификации плена это не отменяло, ведя к его превращению в однотипно понимаемый и однообразно организованный конструкт.
Решающую роль в процессе универсализации плена сыграла Первая мировая война, в ходе которой из россыпи разных национальных3 пленов формировался его наднациональный образчик с набором общих атрибутивно значимых характеристик. Это стало возможно благодаря беспрецедентной массовости плена, ставшего общим фактом биографии для более чем 8 млн человек, из которых более 5 млн были захвачены на Восточном фронте. В свою очередь более трети из них —- порядка 2 млн обезоруженных вражеских военнослужащих Центральных держав — оказались в России. При всей уникальности индивидуальных жизненных траекторий этих гаодей, в контексте своего времени их судьбы были схожи, отражая процессы типизации плена через разнообразные, но век-торно аналогичные практики. Между тем эти практики творились не только и даже не столько воегаюпленными, но и принимающими сообществами, роль которых в истории плепа явно недооценивается.
1 См.: Ссиявская Е.С. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки // Военно-историческая антропология: Ежегодн. 2002: Предмет, задачи, перспективы развития. М, 2002. С. 5-22; Соловьев A.B. Полемология — французская социология войны // Социологические исследования. 1993. №. 12. С. 125-132; Paret P. The New Military History // The Journal of the Army War College. Vol. 21/3 (Autumn 1991). P. 10-18; и др.
2 См.: Куприянов П.С. Просвещешше россияне в плену у «варваров» (по материалам рубежа XVra-XIX вв.) // Мужской сборник. Вьш. 3: Мужчина в экстремальной ситуации. М., 2007. С. 101-115; и др.
3 Здесь и далее термин «национальный» используется в значении «политический», а не «этнический». См. об этом: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998.
Актуальность темы плена, более широкой, чем тема военнопленных, диктуется, таким образом, необходимостью преодолеть ограниченное понимание их исторической миссии как кратковременной и малозначительной. Такая «оптика» исследования актуализирует проблему военно-гражданских отношений, проблему «встречи» фронта и тыла, граница между которыми не являлась непроходимой. Кроме того, про-блематизация плена приближает исследователей к решению важнейшего для любого общества вопроса о месте в жизни человеческого коллектива привходящих, переменных факторов. Изучение диалектики плена под таким углом зрения будет способствовать более точной экспертизе гибкости/устойчивости, замкнутости/открытости социальных структур и практик, бытовавших в России в годы Первой мировой войны и непосредственно после нее.
Объектом настоящего исследования выступает военный плен в российской провинции 1914-1922 гг. В узком смысле под пленом традиционно понимается исторически сложившийся порядок, подразумевающий временную несвободу и изоляцию обезоруженных вражеских военнослужащих в целях исключения их дальнейшего участия в вооруженном противоборстве. Однако, поскольку плен не был «герметичным» миром и предполагал контакты не только одних пленных с другими пленными, но и пленных с не-пленными, видится логичным рассматривать его (плен) в более широкой перспективе. Она предполагает, что пленники, нарушив «суверенитет» российской провинции, повлияли на уже имевшиеся и вызвали к жизни новые модели со-бытия/со-общения людей, совокупность которых и формировала существо российского плена 1914—1922 гг.
Предметом исследования является комплекс формальных и неформальных социальных практик, затронутых или порожденных российским пленом 1914-1922 гг. и проявлявшихся через разнообразные взаимодействия людей/групп людей, которые составляли относительно пленных принимающее сообщество. Под последним в работе понимается население так называемых внутренних округов России, выступавших относительно центра страны в качестве провинции. Такое понимание принимающего сообщества идет вразрез с традиционным толкованием населения как территориальной, несоциальной общности. Однако в настоящем исследовании оно видится вполне оправданным, поскольку относительно пленных иностранцев, являвших собой чужеродное, ино-культурное включение, российский социум начала XX в. характеризовался устойчивой целостностью и устойчивой самоидентификацией. Они воплощались в стабильных, предсказуемых политических, экономических, социальных, культурных и других практиках общежития людей, обнаруживая себя, однако, не только в «чистых», «простых» действиях индивидов на Iгазовом уровне. Эти практики, будучи системати-
ческими, заявляли о себе и через посредство тех или иных структур (правительство, земство, предприятие и пр.), служивших олицетворением мотивированности, организованности и упорядоченности социального процесса. Сообразно с этим сопряженные с российским пленом 19141922 гт. социальные практики экспонируются в работе не только и не столько через индивидуализированные неформальные взаимодействия, но и через взаимодействия коллективные, опосредованные санкцией и деятельностью тех или иных формализованных объединений, учреждений, ведомств и пр.
Территориальные рамки работы охватывают территорию Среднего Урала, которой по состоянию на 1914 г. в административном плане соответствовала территория Пермской губернии. Ограничение географии исследования отдельно взятым регионом видится вполне допустимым, поскольку сегодняшняя историческая наука разрешает изучать то или иное явление прошлого по его отдельному территориально фиксированному воплощению. Она при этом исходит из того, что это частичное в своей основе воплощение повторяет целое, а потому репрезентативно не только для ситуативных, но и общих наблюдений.
Мезо-ракурс настоящего исследования резонен не только поэтому. С выбранной позиции относительно легко различимы как те проявления плена, которые были общероссийскими, типическими, так и те, что относились к ранжиру факультативных, периферийных. Избранный вариант контекстуализации плена тем самым облегчает задачу корреляции его масштабов (локального, регионального и общенационального) — корреляции, в рамках которой выявление и эмблематичных, и фоновых характеристик плена дает возможность исследовать связанные с ним практики максимально полно.
Хронология исследования охватывает период 1914-1922 гг. Нижняя граница исследования при этом очевидна, будучи связана с началом Первой мировой войны. Выбор верхней хронологической рамки диктуется тем, что к концу 1922 г. плен в России как автономпое, системно значимое явление себя исчерпал, что отразило принятое 11 января 1923 г. постановление ВЦИК и СНК РСФСР о ликвидации Центрального управления по эвакуации населения.
Цель исследования двояка. Она состоит в реконструкции социальных практик, сопровождавших развитие российского плена 1914— 1922 гг., а также в оценке места и роли этих практик в жизнедеятельности принимающего сообщества.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, а именно: 1) оценить степень исследованности ретроспективной проблематики путем сопоставления отечественной и зарубежной историографических традиций изучения темы плена и военнопленных Первой мировой войны, выявив при этом стереотипы и лакуны конкретно-
исторического и теоретико-методологического свойства, требующие особого внимания; 2) определить круг наиболее значимых исторических источников по истории плена, их информационный потенциал и перспективы использования; 3) обосновать динамические и географические параметры плена, свойственные его среднеуральской составляющей, иерархизировав те факторы, которые способствовали расширению/сужению территории плена и влияли на его развитие; 4) раскрыть основные характеристики пленных, исходя из признания за ними специфических групповых отличий (демографических, социо-профессиональных и пр.), прямо или косвенно влиявших на динамику плена и практики, связанные с ним; 5) установить сущностные свойства экономики плена как комплекса процессов потребления, производства и администрирования, обозначив ее особенности, определявшиеся как актуальной экономической конъюнктурой, так и региональной/общенациональной экономической культурой; 6) проанализировать основания, цели, этапы, формы и итоги попыток политизации плена различными историческими акторами, определив ее место в общероссийском политическом контексте; 7) конкретизировать масштабы воздействия плена па развитие системы социальных таксономий, вскрыв логики, практики и эффекты превращения плена в область многофакторных и шюгоакторых социальных взаимодействий; 8) выявить выработанные пленом практики освобождения узников войны и свойственные формированию этих практик субъективно-объективные детерминанты.
Теоретико-методологическая база исследования. В качестве стартовой исследовательской гипотезы в диссертации использована гипотеза, базирующаяся на позиционировании плена как исторически обусловленного социального института. Даже будучи институтом непостоянным, «мерцающим», плеп, как и любой институт, предполагал некую организованную деятельность людей, основанную на реализации общепринятых моделей мышления и поведения (Т. Веблен) .
Однако исключительно институциональная логика исследования формирует отнюдь не полное представление о плене, оставляя за скобками все то, что не принадлежало к числу его «правильных», стабильных проявлений. В поисках механизмов развития плена представляется оправданным погрузить его в поле практик, причем как формальных, так и неформальных, как центральных, так и периферийных, как коллективных, так и индивидуализированных, как уже опривыченных, так и инновационных. Идея «прагматизации» плена опирается на инструментарий, созданный в поле теории практик, а правильнее сказать, группы теорий, выработанных в рамках метапарадигмы конструктивизма и
4 См. об этом: Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. С. 202 и др.
постструктурализма и способствовавших так называемому «прагматическому» повороту в социальных науках. Авторы, так или иначе участвовавшие в процессе теоретизирования практик5, их общего, операционального определения не выработали. Однако, несмотря на его «зонтичный» характер, он давно нашел себя в самых разных междисциплинарных исследованиях, формируя некую общую для социальных наук теоретико-методологическую программу. Интегрирующим для нее выступает посыл о том, что социальный порядок являет собой порядок практик, сплетенных в плотную сеть. Практики при этом рассматриваются как совокупность социальных действий, которые «по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносятся с действием других людей и ориентируется на него»6.
В то время как в рамках аналитически ориентированных работ практики теоретизируются, в пределах исследований конкретно-ориентированных они, наоборот, конкретизируются. В этом случае практики — это все то, что делают люди, а в данном конкретном исследовании — пленные и не-пленные, действовавшие либо самостоятельно, либо через те или иные структуры. Таковое «делание», действие, не будучи, однако, очевидным само по себе, проявлялось лишь в процессе интерсубъективного и межинституционального взаимодействия. Именно такие социальные практики и обеспечивали функционирование плена как социального института, а также взаимодействовавших с ним социальных институтов. Обороняя этот тезис, вполне уместно процитировать Э. Гидденса, который считал, что «...многие характерные особенности обыденных социальных действий теснейшим образом связаны с длительнейшими и масштабными процессами воспроизводства социальных институтов»7.
Между тем на периферии типичных взаимодействий плештых и не-пленных, плена и не-плена складывались пекие альтернативные практики, которые являлись основой для последующих трансформаций плена и не-плена. В условиях нестабильного общества, каковым, безусловно, являлось российское общество 1914-1922-х гг., такие трансформации были практически неизбежны, поскольку актуальные контек-
5 См.: Бурдьс П. Практический смысл. CII6., 2001; Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной липгвистике. Вып. XVI. М., 1985. С. 79-128; Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структур ацки. М., 2003; Макинтайр А. После добродетели. М., 2000; Мосс М. Общества, обмен, личность. М., 1996; Полани М. Личностное знаиие. М., 1985; Фуко М. Археология знания. М., 2004; Хайдегер М. Бьгтие и время. М., 1997; De Certeau М. The Practice of Everyday Life. Berkeley, 1984; Durkheim E. Pragmatismc et sociologie. Paris, 1955; Schatdci T. Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity and the. New York, 1996; и др.
6 Вебер M. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 603.
7 Гидденс Э. Указ. соч. С. 69.
сты и режимы взаимодействий людей/групп людей не отличались постоянством. В этой ситуации порядок практик, влиявших на установления плена и не-плена, не мог не меняться, выдвигая на передний план те повседневные «жесты», которые постепенно превращались из редких в руганные. В этом смысле диалектика плена в целом не отличалась от диалектики всех прочих социальных институтов, развитие которых предполагает разную динамику, но сохраняет общий алгоритм: «Изменение типичных способов поведения ведет к трансформации соответствующих практик, а накопленные сдвиги в практиках, которые реализует тот или иной институт, приводят к изменению содержания этого социального института»8.
Рассмотрение истории российского плена 1914-1922 гг. через институционально-прагматические «линзы», предполагая, что его «скелет» формировали институциональные рамки, а «тело» — мпогоразные практики, обрекает настоящее исследование на глубокий и последовательный эмпиризм. Однако такая стратегия, предполагающая выявление как можно большего числа образцов взаимодействий пленных и непленных, плена и не-плена, рискует обернуться хаотизацией рассматриваемых явлений. Для решения этой проблемы в работе использована метафора «пространство плена», границы которого мысленно обнимают все действия и контрдействия, связанные с ним, как очевидные (например, непосредственные контакты пленных и не-пленных), так и не очень (в частности, конфликты министерств, вызванные борьбой за дополнительные рабочие руки и пр.).
Предвосхищая вопрос о том, насколько оправдана «гибридная» стратегия исследования, основывающаяся на помещении плена не только в институциональную рамку, но еще и в область практик, следует отметить следующее. Такой подход, во-первых, противопоставляет ограниченной логике структурной, политической, экономической, социальной, культурной и любой иной детерминированности поведения людей картину, в пределах которой историческая реальность динамизируется и «гуманизируется». Во-вторых, комбинируя объективистские и субъективистские подходы к пониманию прошлого, представленная исследовательская перспектива решает проблему струкгурно-акторного дуализма, позволяя историизироватъ действия как формальных, так и неформальных групп исторических акторов, а также действия индивидов. В-третьих, обнаруживая многоакторные и многофакторные взаимодействия в пространстве плена, практико-ориентированная логика работы создает благодатную почву для его многомерной оценки, то есть
* Заславская Т.И. Поведение массовых общественных групп как фактор трансформационного процесса // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 6. С. 15.
оценки свойственных ему макро-, мезо- и микропроцессов. В-четвертых, избранная исследовательская программа позволяет использовать целый комплекс более частных, конкретных подходов к оценке конкретно-исторических явлений и процессов, так или иначе «причастных» к развитию плена. К числу таковых подходов принадлежат, в частности, коммуникативная теория документа (гл. I, ч. 2), концепция мобилизационной экономики (гл. Ш), теория «политики населения» П. Холквиста (гл. IV, ч. 1), социология «чужака» Г. Зиммеля и конфликтология Т. Шеллинга (гл. IV, ч. 2), актуализированные в диссертации с целью более адекватной категоризации тех или иных проявлений плена, в целом трактуемых как институционально и практически обусловленные.
Именно многообразные аналитические конструкты, использованные в работе, являются тем условием, которое дало возможность рассмотреть российский плен 1914-1922 гг. как пересечение сразу нескольких автономных историй, рассказанных к тому же на разных языках, в особой манере и с непривычной интонацией.
Новизна работы состоит в самой постановке изучаемой проблемы, в том, что в центре актуального исследования находится плен, рассматриваемый как специфическая модель практического взаимодействия исторических акторов — модель, которой были присущи свои особенности, определявшиеся как эффектами конкретно-исторического момента, так и относительно стабильными локальными, региональными и общенациональными детерминантами.
Среди прочих факторов, предопределивших новаторский характер работы, следует отметить углубленный анализ историографических источников, позволивший, в частности, «реабилитировать» советскую историографию плена. В работе впервые в отечественной литературе представлена альтернативная лагерной модель интерпретации плена, выработана оригинальная методика анализа его стати стико-географических характеристик, предложена программа изучения плена как особого экономического проекта, актуализирована проблема превращения плена в лабораторию по конструированию лояльностей, показан социально-модифицирующий потенциал плена, доказана возможность апелляции к нему как к одному из параметров определения индекса свободы/несвободы, являющегося одним из показателей развития общественных систем XX в. Большинство источников, использованных в исследовании, либо впервые привлекается для изучения тематики плена, либо анализируется под новым углом зрения и в новом контексте.
На защиту выносятся следующие положения: 1) Российский плен 1914-1922 гг., преодолев хронологические рамки Первой мировой войны, фактически автономизировался от нее, обретя статус самостоятельного события, в котором участвовали самые разные исторические акторы.
2) Воздействие плена на российское общество осуществлялось через различные практики, среди которых важнейшими были практики перемещения, размещения, потребления, производства, администрирования, дифференциации, индоктринации, социализации, коммуникации и освобождения.
3) Плен стал проверкой на прочность практически для всего российского общества, напрямую способствуя преодолению его иммобилыюсти и отражая свойственные его исторической динамике противоречия.
4) Институциональная среда плена изначально складывалась как разнообразная, не вписываясь в представления о его безусловной лагерности. Лагерные, «залагерные», «окололагерные» и «квазилагерные» структуры свидетельствовали не только о внутриинституциональной гетерогенности плена, но и фиксировали его многофункциональный характер.
5) Определяющую роль для формирования основ российского плена 1914—1922 гг. имели экономические факторы и прежде всего ставка на пленных как на дополнительную рабочую силу.
6) Экономика плена, как и любая экономика мобилизационного типа, основанная на принудительном труде, оправдывала себя только в случае грубой эксплуатации пленных и использования внеэкономических механизмов.
7) Попытки политико-идеологических манипуляций в пространстве плена имели ограниченный эффект, поскольку изначально исходили из поверхностного понимания этноса, веры и класса, а также шли вразрез с интересами различных групп влияния (военных, предпринимателей и пр.).
8) Как пространство социальных трансформаций плен выступал одновременно и как фактор разрушения, и как фактор обновления социальных порядков, а собственно военнопленные — и как группа эксклюзии, и как группа инклюзии.
9) Как транснациональный проект российский плен 1914-1922 гг. во многом зависел от внешнеполитической конъюнктуры, изменчивость которой не позволила выработать универсальную схему освобождения узников войны, тогда как конъюнктура внутриполитическая (и прежде всего Гражданская война) отсрочила его и обогатила легальными и нелегальными практиками.
Практическая значимость исследования напрямую связана с проблемой экспертной оценки места и роли в жизни российского общества социальных «переменных» и привходящих факторов. Результаты настоящего исследования представляют большую значимость для гармонизации политических, экономических, демографических и социокультурных процессов регионального и общенационального масштаба, для прояснения перспектив стратегического планирования развития современных Урала и России, для поиска новых и оптимизации уже вы-
бранных моделей управления. Итоги исследования также будут способствовать активизации процессов интеграции исторической науки и прочих социально-гуманитарных дисциплин, демонстрируя тем самым вектор актуального развития наук о человеке и обществе. Материалы диссертационной работы могут быть использованы в рамках различных учебных курсов как общих, так и специальных, а также в рамках тех или иных культурно-просветительских проектов.
Апробация исследования. Основные результаты исследования отражены в 2 авторских монографиях и 111 научных работах, в том числе 22 статьях в изданиях, включенных в список ВАК. Общий объем публикаций диссертанта — 124,7 п.л. Основные положения работы представлялись в виде докладов и сообщений на конференциях: международных (Архангельск, 2007; Вологда, 2007; Выкса, 2007; Екатеринбург, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2014; Златоуст, 2004; Казань, 2008; Калининград, 2014; Караганда, 2006; Киев, 2009; Москва, 2006, 2010,
2011, 2014; Пермь, 2013; Санкт-Петербург, 2009; Сыктывкар, 2011; Тюмень, 2005; Челябинск, 2007, 2008); всероссийских (Березники, 2008; Екатеринбург, 2002, 2003,2004,2005, 2006, 2007,2008, 2010,2011, 2012, 2013, 2014; Калининград, 2014; Москва, 2005, 2007, 2010, 2013; Нижний Новгород, 2010; Новосибирск, 2008; Пермь, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012; Сыктывкар, 2007; Челябинск, 2003, 2006, 2009, 2012), региональных (Екатеринбург, 2002, 2003,2004, 2005, 2006, 2008, 2009,2010, 2011,
2012, 2013,2015; Нижний Новгород, 2005; Оренбург, 2005; Пермь, 2006; Челябинск, 2005).
Рукопись диссертации обсуждена на заседании Отдела истории Института истории и археологии УрО РАН.
Структура работы. Диссертация включает введение, 5 глав, заключение, список источников и литературы, а также приложения («Места постоянного водворения военнопленных во внутренних округах России по состоянию на 1 января 1916 г.» и «Перечень предприятий, учреждений и организаций Пермской губернии, пользовавшихся трудом военнопленных в 1914-1917 гг.»).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении дается общая характеристика работы: обосновываются выбор темы и ее актуальность, определяются объект, предмет, территориальные и хронологические границы исследования, формулируются его цель и задачи, излагаются теоретико-методологические основания диссертации, аргументируется се научная и практическая значимость.
В первой главе «Практики историописания плена и источни-ковая база исследования» анализируются историографические и конкретно-исторические источники. В первом параграфе «Тема плепа в
отечественной и зарубежной историографиях» приводится характеристика специальной литературы по тематике исследования, в эволюции которой просматриваются два периода, разделенные началом 1990-х гг.
До конца 1980-х гг. отличительной чертой историописания российского плена 1914-1922 гг. как на его родине, так и за ее пределами являлась зависимость схоларной традиции от актуальной политико-идеологической конъюнктуры. Общим местом при этом стал «сателлит-ный», вспомогательный характер исследований плена, не претендовавших на тематическую «самость». Наиболее полно это продемонстрировала советская историография, которой обезоруженные вражеские военнослужащие практически никогда не рассматривались как пленные, будучи «пришлым населением», «вновь влившимися группами рабочих», «трудящимися зарубежных стран», «белочехами», «интернационалистами», «иностранными коммунистами». Однако, разоблачая эти «эвфемизмы», нетрудно обнаружить, что плен и пленные обосновались как минимум в трех тематических областях: истории военной экономики и рабочего класса, истории Чехословацкого корпуса и, наконец, истории интернационального движения.
Наиболее результативными с точки зрения изучения плена стали исследования экономики России периода Первой мировой войны и «пролетаризации» города и деревни, выводы которых до сих пор не утратили когнитивной ценности. Это, в частности, относится к тезису о том, что «суррогатирование» рабочей силы путем привлечения к труду военнопленных лишь в незначительной степени помогло восполнить убыль, произведенную среди рабочего населения мобилизациями9. «Попутно» с получением этого заключения советские историки реконструировали динамику и специфику распределения вражеских военнослужащих между различными ведомствами. Было доказано, что главным потребителем труда военнопленных стало Министерство земледелия, предпочитавшее раздавать их крупным посевщикам10. Представления советской историографии об использовании пленников в промышленности в то же время предусматривали, что подавляющее большинство из
' См.: Анфимов A.M. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 — февраль
1917 г.) М., 1962. С. 9S-99,103-104,195; Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия Россия в 1917 г. М., 1964. С. 23-24; Казаков А. Экономическое положение сельскохозяйственного пролетариата до и после Октября. М., 1930. С. 11;КитанинаТ.М. Война, хлеб и революция: Продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917 г. Л., 1985. С. 53-58; Маевский И.В. Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой войны. М., 1957. С. 311, 321-323; Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973. С. 418-419, 451-452; Фрейдлин Б.М. Очерки истории рабочего движения в России в 1917 г. М., 1967. С. 28-29; Шестаков А. Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы войны и перед Октябрем 1917г. Л., 1927. С.22;идр. 10 См.: Анфимов A.M. Указ. соч. С. 97-103; Киганина Т.М. Указ. соч. С. 56-58; Сидоров АЛ. Указ. соч. С. 451-452.
них находилось в Пермской и Екатеринославской губерниях, а также Допской области11. Все это свидетельствует о том, что советским специалистам по социально-экономической истории пленные были интересны лишь как сведешгая до аморфной массы «рабочая сила», и это, надо признать, вполне адекватно характеризовало функциональные приоритеты российского плена, сформированные Первой мировой войной.
Менее результативным стало изучение плена в рамках истории Чехословацкого корпуса и истории интернационально движения, подвергшихся схематизации уже в 1920-х гг. Вместе с тем, исключительно негативных оценок эта литература не заслуживает. Она, вобрав в себя многочисленные факты, характеризовавшие численность, состав и размещение отвоевавшихся вражеских военнослужащих, условия их со-держашгя, обеспечения и труда, заложила фундамент для последующих исследований российского плена 1914-1922 гг., которые с деидеологи-зацией исторической науки не заставили себя ждать.
Новейшая отечественная историография, начавшая свою историю с 1990-х гг., быстро обнаружила свой живейший интерес к теме военнопленных. Помимо диссертаций12, монографий13, статей14 и тезисов вы-
11 См.: Сидоров АЛ. Указ. соч. С. 418.
12 См., напр.: Безруков Д.А. Система управления военнопленными и использование их труда в Новгородской губернии 1914-1918 гг.: дисс. ... к.и.н. Великий Новгород, 2001; Васильева С.Н. Военнопленные Германии, Австро-Венгрии и России в годы Первой мировой войны: дисс.... к.и.н. М., 1997; Гергилева А.И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири: дисс. ... к.и.н. Красноярск, 2006; Идрисова Э.С. Иностранные военнопленные Первой мировой войны на Южном Урале в 1914-1922 гг.: дисс. ... к.и.п. Оренбург, 2008; Ниманов Б.И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной деятельности военнопленных в 1914-1917 годах в Поволжье: дисс. ... к.ил. М., 2009; Остроухов А.И. Военнопленные чехи и словаки в России периода Первой мировой войны: дисс. ... к.и.н. М., 2011; Талапин А.Н. Военнопленные Первой мировой войны на территории Западной Сибири: Июль 1914 — май 1918 гг.: дисс.... к.и.н. Омск, 2005; и др.
13 См.: Бондаренко Е.Ю. Иностранные военнопленные на Дальнем Востоке России (1914— 1956 гг.). Владивосток, 2002; Калякина A.B. Под охраной русского великодушия. Военнопленные Первой мировой войны в Саратовском Поволжье (1914-1922). М., 2014; Крючков И В. Военнопленные Австро-Венгрии и Османской империи па территории Ставропольской губернии в годы Первой мировой войны. Ставрополь, 2006; Познахирев В.В. Турецкие военнопленные и гражданские пленные в России в 1914-1924 гг. СПб., 2014; Пылькин ВА. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи на Рязанской земле в годы мировой еойны и революции. М., 2013.
14 См.: Греков Н.В. Германские и австрийские пленные в Сибири (1914-1917) // Немцы. Россия. Сибирь. Омск, 1997. С. 154-180; Жарова A.C. Положение военнопленных Первой мировой войны в Тобольской губернии // Изв. Уральского гос. ун-та. 2009. № 4(66). С. 7280; Поликарпов В.В. Военнопленные в лагерях под Ижевском в 1915-1916 гг. // Новая и новейшая история. 2007. № 1. С. 94-105; Рокина Г.В. Иностранные пленные Первой мировой войны в Марийском крае // Гумапигарпые и юридические исследования. 2015. № 1. С. 72-77; Солнцева СЛ. Военный плен в годы Первой мировой войны (новые факты) // Вопросы истории. 2000. № 4-5. С. 98-105; и др.
ступлений15, посвященных плену и пленным, в целом ряде работ эта проблематика оказалась сопряжена с изучением миграций16. В другой группе исследований, имплицитно блокировавшихся вокруг темы мобилизации тыла, плен рассматривался как вызов довоенным устоям и системам (например, медицинского, продовольственного или жилищного обеспечения)17. Помимо того, тема плена и пленных получила управ-ленческо-институционалыюе звучание, оказавшись востребована в рамках истории органов местного самоуправления18. Исследования раннего советского опыта управления также не оставили ретроспективную тематику без внимания, которое оказалось приковано к истории учрежденной большевиками в 1918 г. Центральной коллегии по делам пленных и беженцев (затем — Центрального управления по эвакуации населения)19. На фоне настоящего бума вокруг изучения отечественной благотворительности вполне ожидаемой стала также попытка интегрировать
15 См.: Бушаров Е.А. Военнопленные Первой мировой войны в Тюмени // Словцовские чтения-97: Тез. докладов и сообщ. научно-пракг. конф. Тюмень, 1997. С. 78-80; Зверева Д.М. Военнопленные Первой мировой войны в Красноярске // Межвуз. конф. студентов и аспирантов. Красноярск, 2003. С. 170^172; Матущак JI.B. Военнопленные Первой мировой войны на Урале // Проблемы военного плена: история и современность: Материалы Меж-дунар. научно-пракг. конф. Вологда, 1997. Ч. 1. С. 173-174; и мн. др.
16 См.: Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мирозой войны в России. 1914-1925 гг. М., 2014; Курцев А.Н. Историческая социомобильность и многообразие миграций населения Центрального Черноземья в 1861-1917 гг. // Вести. Российского ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2008. № 3(13). С. 82-92; Щеров И.П. Миграционная политика в России 1914-1922 гг. Смоленск, 2000. См. также: Кузьмен-ко A.C. Недобровольные мигранты в Восточной Сибири в 1914 — феврале 1917 гг.: иа примере Енисейской и Иркутской губерпий: дисс. ... к.н.н. Улан-Удэ, 2010; Павлова О.В. Миграции населения на Урале в 1914—1939 годы. дисс.... к.и.н. Екатеринбург, 2004; и др.
17 См., напр.: Букалова C.B. Орловская губерния в годы Первой мировой войны: социально-экономические, организационно-управленческие и общественно-политические аспекты (Дореволюционный период: июль 1914 — февраль 1917 года): дисс. ... к.и.н. Орел, 2005; Машкова H.H. Мобилизация людских и материальных ресурсов на Южном Урале в условиях войны (1914-1917 гг.): дисс. ... к.и.н. Оренбург, 2004; Меньшиков В.Н. Экономическое и социокультурное развитие Тобольской губернии в период Первой мировой войны: дисс. ... к.и.н. Омск, 2001; Шишкина С.Ю. Тобольская губерния в годы Первой мирозой войны (1914 — февраль 1917 гг.): дисс.... к.и.н. Тюмень, 1999; и др.
" См., напр.: Нагорная М.С. Земское самоуправление на Южном Урале накануне и в годы Первой мировой войны: 1913 — февраль 1917 гг.: дисс. ... к.и.н. Курган, 1999. С. 85, 89, 156, 163, 170 и др.; Петровичева Е.М. Земское самоуправление в Цетральной России в 1906-1918 гг.: эволюция па последних этапах деятельности: дисс. ... д.и.н. М., 2003. С. 197-199, 269 и др.; Чудаков О.В. Городское самоуправление в Западной Сибири в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917 гг.): дисс. ... к.и.н. Омск, 2002. С. 5859, 89,136; и мн. др.
19 См., напр.: Щеров И.П. Центропленбеж в России: история создания и деятельности в 1918-1922 гг. Смоленск, 2000; и др. См. также: Засыпкин М.А. Организационно-правовые основы деятельности НКВД РСФСР по решению проблемы беженцев: 1918-1923 гг.: дисс. ... к.юр.н. М., 2008; Зубаров И.Е. Деятельность коллегии по делам военнопленных и бе-жепцев Симбирской губернии в 1914-1922 гг. дисс.... к.и.н. Пенза, 2006; и мн. др.
проблематику плена и пленных в исследования российских филантропических традиций и формирования в России социально ответственного государства20.
Среди настоящих открытий последних лет следует отметить открытие доселе «заповедной» социокультурной области плена, в границах которой исследовались, главным образом, взаимоотношения пленников и постоянного населения21. Однако за объектностыо военнопленных, которых отечественные авторы никогда не трактовали как активных участников социокультурного процесса, бесконечные попытки конкретизировать характер взаимодействий вражеских военнослужащих с местным населением в эпитетах «сильные — слабые», «хорошие — плохие», «дружественные — враждебные» и т.п. себя предсказуемо исчерпали. Дефицитность названных бинарных оппозиций, не вмещающих множественные сценарии контактирования пленных и не-пленных, оказалась тем фактором, который заставил говорить о плене как опыте межкультурного обмена, проблеме тендерной истории или истории массового сознания22.
Остаётся только сожалеть, что по-настоящему новаторские работы в силу своей немногочисленности так и не смогли сломить тенденцию схематизации историописания российского плена 1914—1922 гг., что является одной из основных характеристик новейшей отечественной историографии. Право военнопленных, их численность, условия размещения, сферы приложения труда, контакты с местным населением, уча-
20 См. об этом: Алёхин Д.В. Городское население Тамбовской губернии и Первая мировая война: июль 1914 — февраль 1917 гг.: дисс. ... к.и.н. Тамбов, 2003; Гулидов А.Ю. Общественно-политическая жизнь российской провинции в годы Первой мировой войны: дисс. ... к.и.н. Шуя, 2010; Рязанский И.В. Тыловая российская провинция в условиях Первой мировой войны: Южный Урал в июле 1914 — феврале 1917 гг.: дисс. ... к.и.н. Челябинск, 2006; и др.
21 См. об этом: Гергилева А.И. Общественность Сибири и отношение к военнопленным Первой мировой войны // Вести. Красноярского гос. аграрного ун-та. Вып. 12. Красноярск, 2006. С. 421-426; Кондратьев A.B., Щербинин П.П. Военнопленные и провинциальное общество Российской империи в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. // Вестн. Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Тамбов, 2009. С. 354-357; Ощепков Л. Чужие среди чужих: Взаимоотношения военнопленных и населения Пермской губернии в годы Первой мировой войны // Ретроспектива: Пермский историко-архивный журнал. 2008. № 6(11). С. 22-28; и др.
22 См. об этом, напр.: Люкшип Д. Немецкие военнопленные в крестьянской России: особенности межкультурного опыта // Обольщение властью. Русские и пемцы в Первой и Второй мировых войпах. М., 2010. Т. 1. С. 723-740; Семенова Е Ю. Межличностные контакты женщин поволжского города с военнопленными в период Первой мировой войны: столкновение индивида с коллективной психологической установкой // Частное и общественное: Тендерный аспект: Материалы IV Междунар. науч. конф. РАИЖИ и ИЭА РАН. Ярославль, 2011. Т. 1. С. 475-479; Царева Е.С. Военнопленные Первой мировой войны в музыкальной жизни Сибири // Южно-российский музыкальный альманах. 2012. № 1. С. 78-88; и др.
стие в политическом процессе и, наконец, репатриация — эти сюжеты, причем именно в такой последовательности, стали константными для подавляющей массы работ, замыкая историю плена и пленных в рамках практически универсального нарратива. Кроме того, он демонстрирует еще и склонность к стереотипизации, о которой свидетельствуют кочующие из одной работы в другую застарелый миф о «всемерном оказании заботы и покровительства военнопленным славянских национальностей» и сомнительное сравнение «благополучного» российского плена с его «бесчеловечными», «невыносимыми» германским и австрийским аналогами23.
Схематически-стереотипному видению темы плена и пленных не помешали ни зримая регионализация научного поиска, ни экстремальный эмпиризм новейших российских исследований. Такое положение вещей объясняется тем, что, несмотря на номинирование военнопленных в качестве объекта своего исследования, большая часть российских историков на самом деле сфокусировалась на политике государства в отношении узников войны. Государственнический подход, предполагающий поиск некой цементирующей, объединяющей логики в событиях прошлого, стал главным препятствием на пути к их действительно нюансированному изучению. Все это наряду с дистанцированием от достижений советских историков, а также ретроспективностыо работ отечественных авторов, не заметивших ни краткосрочных, ни долгосрочных последствий пребывания пленных в России 1914-1922 гг., во мотом обеднило достижения новейшей российской историографии. Она, не будучи способна похвастаться чем-то большим, нежели крупномасштабными архивными «раскопками» и основанным на них «картографированием» плена, в основном остается некритичной, описательной, и уровень ее обобщений оставляет желать лучшего.
Что касается западной традиции историописания российского плена 1914—1922 гт., то до конца 1980-х гг. ее развитие не отличалось динамизмом, будучи, как уже отмечалось, зеркальным отражением политического дискурса24. Противостояние буржуазных западноевропейских и советизированных восточноевропейских авторов было столь сильным, что даже вышедший в 1994 г. двухтомник «Лагерь, фронт или
23 См.: Алёхин Д.В. Указ. соч. С. 226-227; Безруков И.Д. Указ. соч. С. 89, 90 и др.; Белова И.Б. Указ. соч. С. 135-136; Гергилева АЛ. Указ. соч. С. 90; Гулидов АЛО. Указ. соч. С. 152; Зубаров И.Е. Указ. соч. С. 72; Идрисова Э.С. Указ. соч. С. 29, 51; и др.
24 См., напр.: Kalvoda J. Origins of the Czechoslovak Army 1914-1918 // War and Society in East Central Europe. Vol. XIX (1985). P. 419-435; Kvasnicka J. Ceskoslovenske legie v Rusku 1917-1920. Bratislava, 1963; Margot L. The Serbian Divisions in Russia, 1916-17 // Journal of Contemporary History. Vol. 6. X» 4 (1971). P. 183-192; Popovi6 N. Jugoslovenski dobrovoljci u Rusiji, 1914-1918. Belgrade, 1977; Striegnitz S. Deutsche Intemationalisten in SowjetmRland 1917-1918. Proletarische Solidaritot im Kampf um die Sowjetmacht. Berlin [Ost], 1979; и др.
дом: Немецкие военнопленные в Советской России, 1917-1920 гг.»25 по инерции породил бурную полемику, которая обнажила слишком общий характер категории «интернационалисты» и указала этому обветшалому «историзму» на пассивный словарь, что со всей наглядностью отразили более поздние исследования близкой тематики26.
Однако знаковым событием для западной историографии плена стала не названная книга, а серия появившихся с конца 1970-х гг. статей американского историка Г. Дэвиса (Н. Davis)27. Благодаря его изысканиям, а также опубликованному в 1983 г. эссе по истории Первой мировой войны28 российский плен 1914-1922 гг. стремительно обретал все новых и новых заинтересованных исследователей29. Этот процесс приобрел такие масштабы, что всякие попытки систематизировать статьи и монографии зарубежных историков в соответствии с их тематическими предпочтениями априори обречены. Развиваясь по пути изучения, во-первых, опыта пленных отдельно взятых наций, этносов или конфессий30, во-вторых, специфики национальных моделей плена31 и, в-третьих, его комплексного обследования как универсальной практики32,
25 Cm.: Lager, Front oder Heimat Deutsche Kriegsgefangene in Sowjetrußland 1917-1920 / Hgg. I. Pardon und W. Schurawljow. Bde. 1 und 2. München, New Providence, London, Paris, 1994.
26 Cm., Hanp.: Plaschka R. Avantgarde des Widerstands. Modellfälle militärischer Auflehnung im 19 und 20. Jahrhundert. Bde. 1 und 2. Wien, 2000.
21 Davis G. Deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg in Rußland // Militärgeschichtliche Mitteilungen (Freiburg). Bde. 31 (1982). S. 37-49; Idem. National Red Cross Societies and Prisoners of War in Russia, 1914-1918 // Journal of Contemporary History. Vol. 28. № 1 (Jan., 1993). P. 31-52; Idem. Resort to Eloquence: Amateur Writers of German in Russian Prisoner of War Camps 1914-1921 // Germano-Slavica (Waterloo/Ontario). Vol. 5 (1986). №3. P. 89-105; Idem. The Life of Prisoners of War in Russia, 1914-1921 // Essays on World War I: Origins and Prisoners of War. New York, 1983. P. 163-197; h ;tp.
28 Cm.: Essays on World War I: Origins and Prisoners of War. New York, 1983.
29 Cm.: Koch R. Das Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg: Diss. Wien, 1981; Rudolf K. Im Hinterhof des Krieges — Das Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg: Diss. Wien, 1980; Siutz K. Kriegsgefangenschaft in Sibirien 1914-1920: Mathäus Wimsperger: Hist. Diplomarbeit. Graz, 1994; h mh. ap.
30 Cm., Hanp.: Francescotti R. Italianski: L'epopea degli italiani dell'esercito austroungarico prigionieri in Russia nella Grande Guerra. Rossato, 1994; Fremdeinsätze: Afrikaner und Asiaten in europäischen Kriegen, 1914-1945. Berlin, 2000; Morton D. Silent battle: Canadian prisoners of war in Germany, 1914-1919. Toronto, 1992; Oleen M. Vetluga Memoirs: a Turkish POW in Russia 1916-1918. Gainsville, 1995; Procacci G. Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Roma, 1993; Taitl H. Kriegsgefangen — Österreicher und Ungarn als Gefangene der Entente 1914 bis 1921. Bde. 1 und 2. Dombirn, 1992; h mh. äP-
" Cm., nanp.: Hinz U. Gefangen im Groben Krieg: Kriegsgefangenschaft in Deutschland, 19141921. Essen, 2006; Köhler G. Die Kriegsgefangenen, Internierten- und Militärlager in Östeireich-Ungam 1914-1919 und ihre Feldposteinrichtungen. Graz, 1991; Wuizer G. Die Kriegsgefangenen der Mittelmächte in Rußland im Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2005; h mh. flp.
32 Cm., uanp.: Jones H. Violence Against Prisoners of War in the First World War: Britain, France and Germany, 1914-1920. Cambridge, 2011; Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges. Essen, 2005; Paderborn, 2006; Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront 1914-1918.
западная историография оставалась верна этому курсу лишь до некоторой степени. Так, посвященные пленным итальянского происхождения изыскания М. Росси (М. Rossi), имея четкую географическую привязку к России, тем самым претендовали на место и в первой, и во второй тематической группе33. Редкая работа о военнопленных турках Ё. Янивдага (Y. Yanikdag) также касалась России и тем самым встраивалась сразу в два из обозначенных выше исследовательских течения34. Интерконтекстуальным стал и цикл работ X. Ляйдингер (Н. Leidinger) и В. Мориц (V. Moritz), посвященный, с одной стороны, российским военнопленным в Австро-Венгрии, а с другой — австро-венгерским военнопленным в России35.
Исследование А. Рахамимова о военном плене на Восточном фронте тем более не вмещалось ни в один из узкотематических проектов, став, пожалуй, наиболее авторитетным36. Сам автор отмечал, что его книга — это заявка на участие в дискуссии о правах человека; в изучении истории «снизу», истории масс или истории повседневности; в исследовании проблем мемориальной культуры; в развитии историографии национализма и патриотизма. При этом А. Рахамимов постарался доказать, что российские чиновники стремились соблюдать Гаагские соглашения 1899 г. и 1907 г., но организовать для миллионов пленных адекватное питание и обмундирование, медицинский и почтовый сервис при общем перенапряжении ресурсов в стране было просто невозможно.
Традиция широкой контекстуализаци плена не менее характерна и для других сочинений^западных историков. В их ряду — изданная в Эссене под редакцией И. Олтмера (J. Oltmer) антология «Военнопленные Первой мировой войны в Европе», ставшая промежуточным итогом изучения ретроспективной тематики37. Эта попытка кооперации известных историков, позволившая объединить исследования разнострановых
Literaturbericht zu einem neuen Forschungsfeld. Frankfurt am Main, 2005; Pöppinghege R. Im Lager unbesiegt: Deutsche, englische und französische Kriegsgefangenen-Zeitungen im Ersten Weltkrieg. Essen, 2006; h mh. AP-
33 Cm.: Rossi M. 1 prigionieri dello Zar: Soldati italiani dell'esercito austroungarico nei lager della Russia (1914-1918). Milano, 1997; Idem. Irridenti giuliani al Fronte Russo. Storie di ordinaria diseizione, di lunghe prigionie e di sospirati limpatri (1914-1920). Udine, 1998; Idem. Prigionieri della Pace // Annales for Istran and Mediterranean Studies. 1999. № 18. P. 409-422; h ap.
34 Cm.: Yanikdag Y. Ottoman prisoners of war in Russia, 1914-22 // Journal of contemporary history. 1999. Vol. 34. № 1. P. 69-85.
35 Cm.: In russischer Gefangenschaft: Erlebnisse österreichischer Soldaten im Ersten Weltkrieg; Leidinger H., Moritz V. Gefangen in Russland. Österreichische Kriegsgefangene in Russlsnd 1914-1920. Viena, 2008; Leidinger H., Moritz V. Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr. Die Bedeutung der Kreigsgefangenenproblematik für die Geschichte des Kommunismus in Mittelund Osteuropa 1917-1920. Wien, 2003; h mh. ^p.
36 Cm.: Rachamimov A. POWs and the Great War: Captivity on the Eastern Front. New York, 2002.
37 Cm. : Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieges. Essen, 2005; Paderborn, 2006.
практик и политик плена, а также послевоенных опытов бывших военнопленных, интересна, однако, другим. Она в полной мере отразила тенденцию «антропологизации» исследований плена, следы которой легко различимы в стремлении к его изучению не только и не столько как набора событий, сколько как совокупности человеческих состояний. Это позволило западным специалистам поднять в своих работах такие связанные с пленом проблемы, как развитие синдрома концентрационных лагерей («болезни колючей проволоки») и кризиса идентичностей (аномии), «самомобилизации» и ресоциализации пленных, мемориали-зации плена и его превращения в объект «культурной памяти».
В числе важнейших особенностей западной историографии российского плена 1914-1922 гг. следует назвать также ее выраженную компаративность. Сравнение с другими пленами российского плена 1914-1922 гг. не всегда, однако, отличалось глубиной, приведя к формированию в западной литературе «ориенталистского комплекса». Наиболее показательны в этом смысле работы Р. Нахтигаля38, где сущность российского плена напрямую увязывалась с «недоцивилизовагаю-стью» страны, лежавшей на самом востоке Европы. Этот посыл позволил автору заключить, что «для России как держащей в плену державы было характерно сознательно плохое обращение с военнопленными». Больше того, по мысли Р. Нахтигаля, это обращение было откровенно преступным, выражаясь в безобразных условиях содержания пленных, непосильном труде, этнической дискриминации, а также цинизме поли-
39
тики военнопленных в целом .
Еще одной характеристикой современной западной литературы явилась её перспективность, нацеленность на изучение российского плена 1914-1922 гг. как фактора, так или иначе повлиявшего на будущее России и мира. Эпицентром дискуссии, возникшей вокруг проблемы перспективного влияния плена, стала теория прототипа, выдвинутая еще в 1983 г. американским историком П. Пастором40. Он, в частности, утверждал, что лагеря для военнопленных Первой мировой войны в России являли собой не что иное, как прообраз сталинского ГУЛАГа и гитлеровских концлагерей смерти41. Обсуждение этой темы, однако,
" См.: Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога (1915-1919 годы): военная необходимость и экономические соображения. СПб., 2011; Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront 1914-1918; Idem. Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefan genen (1914-1918). Remshalden, 2003; и мн. др.
39 Nachtigal R. Kriegsgefangenschaft an der Ostfront 1914-1918. S. 27, 54,121 и др.
40 См.: Котек Ж., Ригуло П. Век лагерей: Лишение свободы, концентрация, уничтожение. Сто лет злодеяний. М., 2003; Applebaum A. GULAG: A History. London, 2003; Leven К.-Н. Die Geschichte der Infektionskrankheiten. Von der Antike bis ins 20 Jahrhundert. Landsberg; Lech, 1997; Weindling P. Epidemics and Genocide in Eastern Europe, 1890-1945. New York, 2000; и др.
41 См.: Pastor P. Introduction // Essays on World War I: Origins and Prisoners of War. S. 114.
практически зашло в тупик, что отразило сомнительность лагерного дискурса как такового и условность любых классификационных схем, прикладываемых к пенитенциарным учреждениям.
Надо сказать, что спор вокруг теории прототипа видится заметным историографическим событием не только в связи со значимостью обсуждаемой проблемы. Он символизирует нацеленность западной традиции историописания российского плена 1914—1922 гг. на аналитичность, неизбежно сопровождаемую полемикой. И хотя дискуссионность и концептуалыюсть, присущие этой традиции, не стали гарантией её равновесного развития, западная историография российского плена 1914—1922 гг. явно опередила отечественную в решении целого ряда проблем, доказав, что факт прошлого становится фактом историческим только тогда, когда он подвергнут ицтерггретации.
Во втором параграфе «Источники изучения плена и их специфика» анализируются наиболее значимые исторические «послания» о плене, их информационный потенциал и перспективы использования. Отмечается, что видовая классификация источников, унифицирующая особенности самых разных документов, применительно к ретроспективному исследованию предполагает выделение таких групп свидетельств прошлого, как источники международного права; законодательные и подзаконные акты; делопроизводственные документы; периодическая печать и продолжающиеся издания; источники личного происхождения.
В самом общем виде контуры плена формировались источниками международного права. Эти документы, показывая, как плен интерпретировался на наднациональном уровне, не отличаются однородностью. Их современная спецификация предполагает разграничение на основные (первичные), вторичные (производные) и вспомогательные42. К первой из названных групп, объединяющей международные договоры, международно-правовые обычаи и общие принципы международного права, следует отнести IV Гаагскую конвенцию (О законах и обычаях сухопутной войны) от 18 октября 1907 г.43 При этом, являя собой типичный образчик права с высокой степенью компетенции, конвенция лишь очерчивала общие принципы «цивилизованной» политики плена.
Вторичные источники, представленные межправительственными соглашениями, а также резолюциями международных межправительственных организаций, призваны были регламентировать общие — в значительной степени «стерильные» — нормы права. Прагматика этих
42 См. об этом, напр.: Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2009.
43 См.: IV Гаагская конвенция (О законах и обычаях сухопутной войпы) от 18 октября 1907 г. Приложение о законах и обычаях сухопутной войны. Отдел I: О воюющих. Гл. II: О военнопленных // Альбат Г.П. Сборник международных конвенций и правительственных распоряжений о военнопленных. (Всероссийский Земский Союз. Изд. Главного комитета). М., 1917. С. 15-32.
источников важна тем, что позволяет иерархизировать проблемы плена по степени их значимости. Наиболее показательными при этом, бесспорно, являются не казуальные договоренности, а такие документы, как Стокгольмские и Копенгагенская конвенции, подписанные представителями краснокрестных организаций разных стран в 1915-1917 гг. Посредством их анализа устанавливается, что на повестку дня плен в первую очередь поставил решение таких задач, как связь пленников с родиной посредством организации информационной службы, медицинская помощь и привлечение к ней врачей из числа пленных, представительство пленных в лагерях и создание с этой целью лагерных комитетов, отправление религиозных обрядов и оборудование для этого специально отведенных мест, возможность подачи жалоб и гарантия их рассмотрения и мн. др.44
Примечательно, что компромиссы советской дипломатии 19181922 гг., будучи доступны исследователям благодаря многотомнику «Документы внешней политики СССР»45, посвящены совсем иной тематике. Они в массе своей связаны с определением послевоенного статуса военнопленных, а также их репатриации. Последняя, пожалуй, породила самый глубокий перечень документов «согласительно-договорного жанра», отразив процесс трансформации принципов обмена пленников («голова за голову» —► «эшелон за эшелон» —* «всех на всех»), его приоритеты (сначала больные и лишь затем все остальные) и основные фазы.
Вспомогательные источники, заключая в себе в основном так называемые ноты, зафиксировали прежде всего конфликтогенность дипломатии плена, множественные дисконсенсусы и даже разрывы в его понимании. Кроме того, эти документы просто незаменимы для доказательства того факта, что военнопленные, помимо прочего, использовались противниками как средство политического шантажа46.
44 См.: Заключительный протокол Совещаши уполномоченных Обществ Красного Креста Германии, Австро-Венгрии и России, состоявшегося под покровительством Его Королевского Высочества Принца Карла Шведского, Председателя Шведского Общества Красного Креста, 1 дек. 1915 г. // Правительственный вестн. 1916. 1 янв.; Seconde réunion des Croix-Rouges allemande, austro-hongroise et russe à Stockholm // Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge. 1916. Juli. P. 363-366; Conférence des représentants d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, du Roumanie, de Russie, de Turquie et des Sociétés de la Croix Rouge allemande, autrichienne, danoise, hongroise, roumaine, russe et suédoise et du Croissant Rouge ottoman sous la présidence d'Honneur de son Altesse Royale, le Prince Valdemar de Danemark à Copenhague, Octobre-Novembre 1917: Procès-Verbal et Protocol de Clôture. Kopenhagen, 1917.
45 См.: Документы внешней полигаки СССР. Т. 1-5. М., 1958-1961.
46 См.: Нота МИД посольству США в России от 7 фсвр. 1915 г. (о посещении представителем американского посольства пунктов постоянного размещения военнопленных германской и австрийской армий) // Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны. С. 483; Меморандум Центрального Исполнительного Комитета Советов Сибири по поводу сообщений о вооружении германских военнопленных в Сибири, 2 апр. 1918 г. // Документы внешней полигики СССР. Т. 1. С. 222-223; Нота Народного Комиссариата
Как и везде, в России имплементация международного права осуществлялась посредством выработки соответствующего законодательства, что закрепляло за законодателем особую роль в истории плена. Самым показательным в числе законодательных источников, созданных высшими органами власти за время с 1914 г. по 1922 г., стало при этом Положение о военнопленных от 7 октября 1914 г., воплотившее в себе главный недостаток всех последующих документов названной подгруппы, а именно их оторванность от реалий. Ее обнаружила правоприменительная практика, засвидетельствовав, что буква закона в целом ряде случаев требует своей коррекции. В этой связи Положение о военнопленных было поправлено как минимум дважды — 8 марта 1915 г. и 10 июля 1916 г. Правила 17 марта 1915 г. об отпуске военнопленных для работ в частных промышленных предприятиях переписывались и вовсе трижды. Декрет СНК от 23 апреля 1918 г. об учреждении Центральной коллегии по делам пленных и беженцев пришлось дополнить менее чем через пару месяцев после его издания — уже 21 июня 1918 г. Правила Временного Сибирского правительства от 29 июля 1918 г. о порядке содержания военнопленных на территории Сибири и об отпуске их на работы были серьезно изменены 15 мая 1919 г. с указанием на то, что более раннее предписание оказалось «мало приложимым к жизни и породило целый ряд вопросов»47. Очевидно, таким образом, что рефе-рентность законодательных актов высших органов власти не стоит переоценивать, соотнося их с другими источниками.
Подзаконные акты, выработанные центральными органами власти и представленные циркулярами, постановлениями, приказами, распоряжениями и их аналогами, явно не относились к документам, которые сложились и существовали «как автономные документальные системы, пе требующие искусственного вычленения в исследовательских целях из общего массива источников»48. Работа с этими документами показала, что они в массе своей являлись продуктами министерско-ведомствепного нормотворчества, которым в досоветский период активно занимались Главное управление Генерального Штаба, Военный совет, Верховный начальник санитарной и эвакуационной части, Министерство внутренних дел, Министерство торговли и промышленности, Министерство земледелия, Святейший Правительствующий Синод, всевозможные междуведомственные комиссии, особые совещания и пр. В советский период роль законодателя практически узурпировал подведомственный Наркомату внутренних дел Дентропленбеж/Центроэвак,
Иностранных Дел РСФСР Министерству Иностранных Дел Германии, 22 авг. 1919 г. (о пропаганде среди русских военнопленных) // Там же. С. 237; и мн. др.
47 РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 200. Л. 305.
48 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. М., 2004. С. 75.
изредка делившийся этой привилегией с Наркоматом труда, Наркоматом здравоохранения и другими ведомствами. Все это позволяет аттестовать подзаконные акты центральных органов власти как делегированное законодательство, предполагающее добровольную передачу части функций законодателя его контрагентам49. При этом, решая благородную задачу превратить созданные высшими органами власти рамочные законы в наиболее действенные, эти контрагенты способствовали коррозии права и тем самым превращали пространство плена во все более и более гетерогенное.
Тот же эффект часто имели и подзаконные акты локального характера, принимавшиеся по инициативе региональных и местных властей. В основном эти документы — постановления губернатора или губернского комиссара, начальника Пермской местной бригады или губернского земского собрания, главного начальника Уральского края или заведывающего воегаюпленньши Уральской области, областного Совета депутатов или губернского отдела Управления при губисполкоме — играли роль передаточного механизма, транслируя на места нормы, санкционировшшые вышестоящими структурами. Но не только. К примеру, преподанные циркуляром пермского губернатора № 2437 1 июня 1915 г. полицмейстерам, уездным и горным исправникам Пермской губернии Правила охраны военнопленных, занятых работами в частных промышленных предприятиях, серьезно отличались от распоряжений центральных властей, фиксируя тот факт, что нормативность плена не характеризовалась однозначностью.
Самым значительным комплексом документов, использованных в работе, стали делопроизводственные документы, которые наиболее полно засвидетельствовали не только реалии плена, но и круг связанных с ним исторических акторов. Выявление этих материалов потребовало изысканий в 13 хранилищах различного уровня: государственных архивах в Ирбите (ГАИ), Тобольске (TAT) и Шадринске (ГАШ), государственных архивах Пермского края (ГАПК), Свердловской (ГАСО) и Челябинской (ОГАЧО) областей, Центре документации общественных организаций (ЦЦООСО) и Государственном архив административных органов Свердловской области (ГААОСО), Пермском государственном архиве новейшей истории (ПермГАНИ), Российском государственном военном архиве (РГВА) и Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном историческом (РГИА) и Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА).
Исходя из объектно-субъектного принципа, материалы делопроизводства принято подразделять на делопроизводство внутреннее и
49 См. об этом: Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. М., 1984. С. 72-73.
внешнее. Кроме того, по цели своего создания оно обычно членится на распорядительное, регистрационное, справочное, просительное, финансовое, отчетное, судебно-процессуальное и прочее. Такого рода рубрикация документов на практике, однако, не всегда возможна, поскольку служебная корреспонденция ■— отношения, записки, рапорты, доклады, донесения, прошения (обращения, заявления и т.п.), ходатайства, журналы, протоколы, отчеты, ведомости, штаты, справки, объявления и пр. — часто подразумевала различные целевые установки и соединяла в себе признаки нескольких подвидов делопроизводства. При этом в массе своей вышепоименованные документы были заточены под определенный трафарет, формуляр. На это ориентировала бюрократическая традиция, в рамках которой делопроизводственный документ трактовался как композиционно типичный, унифицированный. Между тем, несмотря на формализованный стиль делопроизводственных документов, их рутинный, ординарный характер, большинство из них, создаваясь без особой оглядки на вечность, в полной мере соответствовало небезызвестному тезису Д. Тоша о том, что «лучше всего действительность освещает источник, не предназначенный для будущих читателей»50. Это зафиксировали документы военного ведомства (Главного управления Генерального штаба, Казанского военного округа, Пермской местной бригады и уездных воинских начальников), органов местного самоуправления (городских Дум и земских управ), хозяйствующих субъектов (горнозаводских округов), общественных организаций (съездов горно- и золотопромышленников, военно-промышленных комитетов, профессиональных союзов, краснокрестных и прочих филантропических организаций), и оказавшиеся наиболее полезными для исследования.
К числу широко примененных в работе источников также принадлежит периодическая печать, которая, будучи неоднородной, делится на официальную51, корпоративную 2 и общественно-политическую53. С точки зрения освещения тематики плена наиболее репрезентативной стала последняя груша изданий, отличавшаяся новостной «всеядностью». Её анализ убеждает, что общее восприятие плена как явления со стремительной сменой общеисторического контекста видоизменялось.
10 Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. С. 62,64.
51 См.: Известия Министерства земледелия. 1915-1917, Известия Цешропленбежа. 1918 -1919; Пермские губернские ведомости. 1915-1916; Пермский вестник Времеппого правительства. 1917; Правительственный вестник. 1914-1919; и др.
52 См.: Веста. Российского общества Красного Креста. 1915-1916; Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии. 1914-1916; Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1915-1916; Известия Главного комитета Всероссийского земского союза. 1915-1917; и др.
53 См.: Зауральский край. 1914-1918; Ирбитский вестник. 1918-1918; Новое время. 19141916; Пермские ведомости. 1914-1917; Уральская жизнь. 1914-1917; и др.
Так, в прессе 1914-1915 гг. плен преподавался как нечто экзотическое, экстраординарное и потому достойное высокого информационного рейтинга. Однако уже к 1916 г. плен стал обыденностью, на что недвусмысленно указывает расползание соответствующей тематики по «углам» и «подвалам» газетного пространства. С конца же 1916 г. широкую общественность и вовсе будоражили совсем иные вопросы, нежели вопросы, поставленные пленом. Как результат они, утратив статус резонансных, оказались заслонены более насущными проблемами «сахарного голода», «дровяных злоключений», «мучного кризиса», «продовольственных затруднений» и пр. «бытовой пестряди». Затем тема плена и вовсе превращается в редко освещаемую, причем, как правило, в рамках иных тем.
Контент сообщений, так или иначе касавшихся военного плена, пе менее примечателен. Треть из них в 1914-1918 гг. информировала читателя о провозе или привозе военнопленных, но известия такого рода, преобладавшие среди других в 1914-1915 гг., затем практически исчезли из газет. Другие две трети сообщений 1914-1918 гг. по своему содержанию делились па сообщения о влиянии плена на рынок труда, на потребительскую ситуацию и на социально-политический климат, причем именно в такой последовательности. В 1917—1922 гг. печать обнаружила навязчивое устремление к политизации плена, почему прочие его интерпретации превратились в маргинальные.
Что касается источников личного происхождения, то к ним, как известно, принято относить документы эпистолярного, дневникового и мемуарного жанра. Проблема, однако, состоит в том, что использованные в диссертации «самосвидетельства» редко являются письмами, дневниками и воспоминаниями в чистом виде. Так, книга Э. Двингера «Армия за колючей проволокой: Дневник немецкого военнопленного в России 1915-1918 гг.» даже по композиции далека от документов хроникального типа, не говоря уже о явной художественной обработке текста первозданного источника54. Воспоминания другого пленника, Э. Ленгуэля, и вовсе оказались вмонтированы в научпо-популярное описание Сибири и во многом носили сервильный характер, обеспечивая решение изыскательских задач55. В полном смысле воспоминаниями нельзя считать и характеризующие положение пленных в России после 1917 г. работы Г.К. Гинса, Д. Монтадона и Й. Принса, одновременно агрегирующие и признаки мемуарной литературы, и признаки литературы путешествий, и признаки публицистики56. Ситуация с использован-
м См.: Двингер Э. Армия за колючей проволокой: Дневник немецкого военнопленного в России 1915-1918 гг. М., 2004.
55 См.: Lengyel Е. Siberia. New York, 1943.
56 Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. 1918-1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства). Т. П. Харбин, 1921; Montandon D-G. Deux ans chez Koltchak et chez les
ными в работе письмами пленных на родину не менее противоречива, поскольку они, прошедшие через процедуру перевода и сохранившиеся главным образом в качестве приложений к отчетам военных цензоров, явно утратили часть своей аутентичности.
Очевидно, что источники личного происхождения, равно как и иные источники, посвященные российскому плену 1914-1922 гг., «изоморфны» ему самому — изначальпо полиценгричному, многоакторному и многофакторному. Именно поэтому материалы, собранные в ходе прагматического дрейфа по более 80 архивным фондам, страницам более 30 периодических изданий, а также десятков документальных публикаций, и не составляют единого комплекса. Но именно такой — многоплановый — характер источников и обеспечил выполнение задач исследования.
Вторая глава «Военный плен на Среднем Урале в 19141922 гг.: статистико-географические и структурно-качественные характеристики» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Динамика перемещения и численность военнопленных» показано, что квантитативные параметры плена не подлежат математически точному выражению, что объясняется их постоянным изменением. Вместе с тем источники зафиксировали, что численность пленных на Среднем Урале вплоть до середины 1918 г. постоянно росла, достигнув к маю 1915 г. 12 тыс. чел., к августу 1915 г. — 22,5 тыс. чел., к осени 1916 г. — более 50 тыс. чел., к началу 1917 г. — свыше 80 тыс. чел., к лету 1918 г. — порядка 100 тыс. чел. Затем положительная динамика уступила место динамике отрицательной, показатели которой с трудом поддаются оценке.
Нестабильность статистики напрямую зависела прежде всего от места Среднего Урала в общенациональной истории плена. Так, в 1914 г. настоящий регион играл роль транзитной зоны, через которую осуществлялось перемещение пленников из Европейской России в Азиатскую Россию. В 1915-1917 гг. территория края стала для вражеских военнопленных в полном смысле слова принимающим регионом или регионом пребывания. В 1918-1922 гг. пленники в основном покидали пределы Среднего Урала, следуя как на запад, так и на восток страны.
При этом решающее значение для определения вектора и масштабов перемещения пленных играли четыре фактора. Первый из них, военно-режимный, был обусловлен собственно практикой высылки пленных в тыл, где они поступали в распоряжение местных военных властей. Оказавшись на попечении уездных воинских начальников, вражеские военнослужащие обозначили свое присутствие в первую оче-
Bolcheviques: Pour la Croix-Rouge de Genève (1919-1921). Paris, 1923; Prins J.W. Life in Siberian prison camps // Scribner's magazine. Vol. LXTV. № 6 (December 1918). P. 695-705.
редь в уездных центрах Пермской губернии или в непосредственной близости от них: Кунгуре (с сентября 1914 г.), с. Верхние Муллы близ Перми, Камышлове, Ирбите, Екатеринбурге и Красноуфимске (с января 1915 г.), Оханске (с февраля 1915 г.), Шадринске (с марта 1915 г.), Соликамске, Верхотурье, Чердыни и Осе (с апреля 1915 г.).
Однако уже в конце 1914 — начале 1915 г. ситуация начала меняться под воздействием решающей для формирования «рисунка» российского плена трудомобилизационной практики. Она кардинально трансформировала статистико-географические характеристики плена, переориентировав его на потребности рынка труда. Именно в этой связи, апеллируя к стратегическому характеру экономики региона, местные хозяйственники вплоть до конца 1917 г. стабильно добивались получения все новых и новых партий военнопленных, посылаемых к местам работ. Специфика регионального хозяйственного комплекса, каркас которого образовывали горнозаводские предприятия, предрешила привлечение подавляющего большинства пленников к работам в промышленности. Региональной «столицей» плена при этом безоговорочно стал Богословский горнозаводский округ, где к началу 1917 г. военнопленные составляли более 45 % от общего числа рабочих. В тройку производств, лидировавших в деле трудоиспользования пленпых, также входили Алапаевский (41,3 %) и Нижнетагильско-Луньевский горнозаводские округа (40,4 %).
Очевидно, что ожесточенное «сражение» за обладание пленными, развернувшееся между промышленниками и аграриями в 1916 г. и вступившее в решающую фазу в 1917 г., уже сложившейся картины не изменило, что отличало местную ситуацию с трудоиспользованием вражеских военнослужащих от аналогичной ситуации по стране в целом. Это отличие, однако, не относилось к числу отличий, отменявших общие характеристики российского плена. Как и по всей стране, на Среднем Урале интеграция пленных в производственные процессы привела к стремительной децентрализации и «деурбанизации» плена, лишив его статистику и географию всякой определенности. При этом роль поуезд-но расположенных пунктов постоянного водворения пленных резко снизилась, поскольку им противостояла сеть более многочисленных альтернативных государственным структур, являвших собой некое подобие производственных лагерей. В четко организованную систему они, правда, не превратились, почему институциональная среда российского плена так и не стала однородной, что серьезно обостряет проблему приложения к нему «лагерной рамки» как таковой.
Третьим фактором, влиявшим на перемещения узников войны, стала внутриполитическая нестабильность, уже в 1917 г. породившая «эпидемию» побегов пленных. В 1918 г. на фоне втягивания Уральского региона в Гражданскую войну «карта» плена и вовсе оказалась перекро-
ена. Весной 1919 г. сначала 37, а затем еще 22 тыс. пленных были переброшены с территории Среднего Урала и Зауралья в Сибирь, посредством чего антибольшевистские силы стремились минимизировать пополнение Красной армии за счет узников войны. Кроме того, Гражданская война с характерными для нее процессами рурализации усилила тенденции деконцентрации пленных, в связи с чем попытки «лагериза-ции» плена, предпринятые правительством А.В. Колчака, остались лишь относительно успешными.
Четвертый фактор, имевший значение для пространственно-динамических характеристик плена, стал актуален в 1918 г. и был сопряжен с практиками репатриации. Ее осуществление, затянувшись на годы, и вскрыло тот факт, что контроль над статистикой и географией плена был безнадежно утрачен. При этом, неумолимо ведя к сокращению численности пленников, их репатриация, то тут, то там обнаруживая «забытых» репатриантов, влияла на пространственные характеристики плена, безусловно, медленнее. Это еще раз доказало, что российский плен 1914-1922 гг. изначально формировался как полицентричный и даже рассеянный, а иерархия его центров и окраин, столиц и захолустий зримо отличалась от сложившейся иерархии как административно значимых, так и заурядных для географии региона единиц.
Во втором параграфе «Социально-демографические стату сы пленных» предпринята попытка воссоздать их состав. Прежде всего определено, что в «привозе» на Средний Урал пленных той или иной этнокультурной принадлежности не было никакой закономерности. Тем самым установлено, что намерение имперских властей разместить пленных так называемых «дружественных» народностей (славян, французов, датчан, армян и румын) в Европейской России, а «враждебных» немцев, мадьяр, турок и евреев — за Уралом, так и осталось намерением. Пленные славяне составляли среди прочих немногим более 25 % (25,3 %), в то время как подлежавшие размещению в Сибири венгры, евреи, немцы и турки — более 55 % (соответственно 24,4 %, 0,7 %, 24,3 % и, наконец, 7,5 %).
Характерно, что относительно принимающего сообщества, в основном православного, «враждебное» в этническом плане большинство пленных оказалось еще и большинством иноверческим, более чем на 50 % состоя из католиков. Такой расклад не только удлинял дистанцию между пленными и постоянным населением, но и осложнял проблему удовлетворения вражескими солдатами и офицерами их духовных потребностей.
Исследование возрастных характеристик военнопленных выявило среди них в подавляющем большинстве лиц 18-35 лет (более 80 %). Очевидно, что превалирование среди пленных относительно молодых и
потому деятельных людей стало причиной, по которой их социализация стала лишь делом времени.
Среди очевидных демографических характеристик пленных была выделена их ранняя смертность, вызывавшаяся главным образом болезнями экзогенного свойства (тиф, цинга и пр.). В попытках реконструировать матримониальное поведение военнопленных было установлено, что законодательные ограничения удлинили безбрачный период жизни пленников и способствовали широкому распространению неравных браков между ними и россиянками после 1917 г.
Социо-профессиональные статусы пленных были оценены как чрезвычайно многообразные. Однако при том, что таковых было выявлено более 150 наименований, в массе своей вражеские военнослужащие были в недалеком прошлом крестьянами или (чернорабочими.
Приведенные характеристики плешшх как особой группы не относились, однако, к числу безусловных, демонстрируя то, что никого единства плешгаки не составлял!. Качества пленных как группы и/или совокупности групп не являлись непреложной данностью, что справедливо не только по отношению к социально изменчивым признакам, объединявшим или разъединявшим пленников, но и применительно к признакам биотически детерминированным. Текучесть и пластичность характеристик пленников превращали их прежде всего в детей своего времени, олицетворяя которое, они указывали на всё более явственную ограниченность всяческих стратификационных схем или как минимум на их серьезное усложнение.
Третья глава работы, «Экономика плена: потребление, производство, администрирование», посвящена изучению совокупности практик, позволивших номинировать плен как особый экономический проект, главной задачей которого была задача максимизировать функцию полезности военнопленных и тем самым уберечь местное хозяйство от тенденций дестабилизации и деградации. В первом параграфе «Плен и проблемы распределения потребительских ресурсов» показано, что вышеназвшшая задача отягощалась проблемой обеспечения жизненно важных нужд пленников. Для принимающего сообщества они стали серьезным испытанием, обострив конкуренцию на рынке потребления ресурсов (продовольствия, одежды, обуви, топлива, жилья и пр.) и услуг (транспорта, лечения, почты и пр.). При этом ситуация, когда военное ведомство практически переложило заботы о пленных на тех, кто пользовался их трудом, рационализации потребления явно не способствовала.
Нужды пленных, как правило, удовлетворялись по минимуму. Так, возводить для них специальные помещения никто не торопился, стремясь использовать уже имевшиеся постройки, плохо приспособленные или не приспособленные вовсе для проживания большого числа
людей. А потому там, где тенденция «обарачивания» плена хоть как-то реализовывалась, она символизировала не общепринятый порядок в деле размещения вражеских военнослужащих, а лишь свидетельствовала об инфраструктурной дефицитности некоторых местностей.
К медицинскому обеспечению пленных были привлечены едва ли не все наличные медицинские учреждения: лазареты военного ведомства и ведомства путей сообщения, земские и горнозаводские больницы. Однако сферы их ответственности были обозначены лишь поверхностно, почему они постоянно конфликтовали между собой, выясняя, кто же должен лечить пленников. В таких условиях медицинская помощь доходила до последних не скоро, а иногда и не доходила вовсе.
Бессистемность медицинского обеспечения пленников, негативно влияя на их физические кондиции, усугублялась близким к бессистемному же продовольственному обеспечению узников войны. Оно предусматривало нормированное потребление продуктов, которое, однако, неуклонно минимизировалось. Обычной практикой стало различное довольствие пленных даже в пределах одного предприятия (напр., в Лы-сьвенском горнозаводском округе). Кроме того, ряд продуктов (мясо, чай и сахар) был просто изъят из довольствия пленных, причем на законных основаниях (напр., на основании введения мясопустных дней). Учитывая при этом, что свободная покупка пленными пропитания на местных рынках ограничивалась или и вовсе запрещалась, в структурах плена — и не только плена — ожидаемо сформировался «черный рынок», где наряду с торговлей по спекулятивным ценам все большее и большее место занимал натуральный обмен.
Самой же странной потребительской практикой стала практика получения пленными одежды и обуви. Как и прочие перечисленные выше практики, она была централизована, что породило парадоксальную ситуацию: тогда как хозяйственники тратили на вещдовольствие пленников внушительные средства, последние оставались неодетыми и необутыми. Связано это было с тем, что приобретать для пленных качественное обмундирование как необходимое армии запрещалось. При этом, часто не доходя до адресатов, никакие посылки и переводы, а также подарки иностранных миссионеров исправить такое положение не помогли.
Очевидно, что потребление пленными всяческих благ и услуг постепенно деволюционировало из лимитированного в деградированное, тем более что многие работодатели изначально практиковали при этом всемерную экономию. Однако в условиях навязанной войной деградации потребления в целом такое положение вещей было неизбежно, что лучше всего зафиксировал пример пленных офицеров, которые, получая денежное довольствие, в 1914 — начале 1916 гг. могли себе позволить
жить с шиком, а затем по причине дороговизны и дефицита оказались примерно в тех же условиях, что и прочие пленники.
Ключевой проблемой второго параграфа «Плен в системе производственных практик» стало выявление механизмов интеграции пленных в производствешше процессы. Доказано, что антирекорды производительности труда военнопленных стали неприятным сюрпризом для всех работодателей, какие бы сферы они не представляли. Однако в эксперименте по интеграции вражеских военнослужащих в трудовые процессы работодатели разочаровываться не торопились. Так, списывая невысокую отдачу принудительного труда на дефицит навыка или неэффективную организацию производства, главное лесничество Богословского горнозаводского округа с начала 1916 г. прикрепило к каждым 100 пленным особого «пилоправа», а осенью того же года — еще и специальных «указателей по рубке», набиравшихся из местных рабочих-зырян.
Названные меры себя, однако, не оправдали, лишь ввергнув предприятия в лишние расходы. Между тем все более и более очевидным стало то, что низкая производительность подневольного труда была напрямую связана со спецификой свойственных ему товарно-денежных отношений. Они предусматривали, что расходы, понесетшые предприятиями на содержание военнопленных, списывались на счет последних же. При таком порядке пленные, с первого дня получая питание, одежду, кров и пр. блага от предприятий, не успев встать на работы, оказывались в долговой яме. Если прибавить к этому ставшее нормой занижение расценок на труд военнопленных, становится вполне объяснимым, почему они никакого трудового энтузиазма не демонстрировали. Вопрос о том, зачем местные хозяйственники отчаянно сражались за получение все новых и новых партий военнопленных, если работать эти военнопленные не хотели, также легко находит свой ответ. Экономя на содержании и оплате труда вражеских военнослужащих, работодатели тем самым добились того, что даже малопроизводительный подневольный труд себя оправдывал.
Практика использования пленных в аграрном производстве была несколько иной. Государство направляло пленных на работы в деревню через посредство земств, которые, в свою очередь, раздавали их крестьянским хозяйствам на условиях платы. Одна ее часть полагалась земствам (как компенсация за хлопоты по доставке, учету и т.д.), а другая — пленным (в качестве заработка). Источники зафиксировали, что, пока плата за пользование пленниками была относительно небольшой (порядка 6 рублей в месяц), такое положение дел всех устраивало. В начале же 1916 г. выяснилось, что пермское и верхотурское земства в результате найма пленникоз на полевые работы в 1915 г. понесли убытки, компенсировать которые государство, обещавшее их возмещать, не спеши-
ло. После того губернская и уездные управы ввели в систему регулярное повышение платы за пользование трудом военнопленных, которая с 1916 г. по 1918 г. последовательно увеличивалась до 1,9, 10, 15 и 20 рублей в месяц. Постоянное «удорожание» плегаппсов привело к тому, что плата за них превратилась в обременительную для селян, и они, саботируя решения земств, продолжали вносить на их счета ровно ту сумму, которую считали обоснованной. Пострадавшими в таких условиях оказались не только земства, но и военнопленные, получавшие меньший заработок, нежели тот, что им причитался.
Опыт деревни тем самым подтвердил, что производственная составляющая экономики плена оправдывала себя лишь при хищнической эксплуатации пленных. Однако, поставленные в такие условия, они не только утратили всякий интерес к труду, но и не замедлили выразить свое отношение к указанной модели хозяйствования через побеги, симуляцию, отказы от работ и пр.
Третий параграф «Контроль, подчинение и управление в пространстве плена» посвящен административным практикам. Подчеркивается, что они едва ли не сразу обрели репрессивный оттенок, развиваясь главным образом в рамках схемы «лишить — заставить — наказать». В условиях, когда дисциплинарный арест как единственная законная мера воздействия на беглецов, «крайне упорных» и «упорно ленивых» военнопленных себя не просто не оправдывала, но и вела к сокращению числа занятых на работах, местные хозяйственники начали практиковать в отношении пленников ужесточение надзора, урезание заработка, перевод в худшие условия содержания, отправку на самые тяжелые работы (лесозаготовки), отобрание одежды и обуви, задержку, сокращение или и вовсе лишение продуктового пайка и т.д., и т.п. Эти практики, в частности, бытовали на предприятиях Богословского, Ниж-нетагильско-Луньевского и Верх-Исетского горнозаводских округов, а также работах, организованных Пермским управлением земледелия и государственных имуществ.
Вводимые явочным порядком и в массе своей противоречившие букве закона, местные эксперименты по «оптимизации» экономики плена в полной мере отражали общую специфику свойственной ему системы управления. Она определялась тем, что, поскольку общенациональное законодательство явно запаздывало с определением принципов политики плена, образовавшийся нормативно-организационный вакуум заполнялся по принципу «кто во что горазд». Буквально повсюду были выработаны свои регламенты относительно вражеских военнослужащих, которые в угоду конъюнктуре со временем еще и изменялись. В Казани, в частности, были разработаны особые правила содержания военнопленных в пунктах водворения на территории Казанского военного округа. Канцелярия пермского губернатора выдала целый пакет утвер-
жденных главным чиновником края обязательных постановлений о военнопленных, сданных на работы. Свое видение обеспечения и трудо-использования пленных иностранцев предложили Верхотурское и Ир-битское земства, администрация Артинского и Боткинского заводов, Богословского, Верх-Исетского, Невьянского, Нижнетагильского и Лу-ньевского горнозаводских округов. Выработаппые ими документы не просто корректировали распоряжения центральных властей, но и делали часть из них практически не нужными, тем более что центральные власти в лице нескольких министерств (военного, внутренних дел, торговли и промышленности, путей сообщения, земледелия и др.) часто не могли прийти к консенсусу. Более того, к определению обязательной генеральной линии они и не стремились, перекладывая ответственность за те или иные решения друг на друга или на нижестоящие структуры. На это, в частности, недвусмысленно указывалось в циркуляре Министерства внутренних дел, изданном в августе 1915 г. и предоставившем губернаторам право отступать от буквы закона «в тех случаях, когда это требуется местными условиями».
Управление пленом в «ручном режиме», когда дефицитность четких указаний «сверху» приводила к их формированию «снизу», переворачивало привычный вектор управления. Такая практика, вероятно, имела и свои положительные стороны, позволив выработать более гибкие решения и превратив плен из неуправляемого хаоса в плохо управляемое многообразие. Вместе с тем в административном плане плен, вне сомнения, страдал как от нормативной дефицитности, так и от того, что количественно избыточные управленческие усилия в качественное управление не переросли. По этой причине российский плен соответствовал скорее своим архаичным образчикам, характеризовавшимся зависимостью пленников от тех людей, в чьих руках они оказывались, нежели гуманитарным нормам, которые требовали предоставления узникам войны безоговорочной защиты со стороны государства.
В четвертой главе «Плен как пространство политико-идеологических манипуляций и социальных трансформаций» изучается процесс политизации плена, а также его социально-модифицирующий потенциал. В первом параграфе «Практики конструирования и утилизации лояльностей пленных» изучаются попытки политического ангажирования узников войны посредством апелляции к их этноконфессиональным и социальным идентичностям. В дореволюционной России, а также на территориях Урала и Сибири, подконтрольных антибольшевистским правительствам, эти попытки основывались на разделен™ пленных на «дружественных» (славяне, французы, датчане, армяне, румыны) и «враждебных» (немцы, мадьяры, турки, евреи) и переводе первых на льготные условия содержания. Традиционно трактуемое в качестве успеха этой политики формирование
Чехословацкого корпуса представляется при этом исключительным случаем, во многом обусловленным активной позицией чешско-словацких национальных обществ в России, а отнюдь не устремлениями к национализации армии со стороны российских военных.
Кроме того, большая часть пленных так называемых «дружественных» народностей оказалась невосприимчива к панславистской идее, поскольку в реальности ее подтверждений находилось мало. Льготы, введенные для славян в начале войны, быстро отменили в связи с тем, что пленные, по мысли российской администрации, ими злоупотребили (скупали продукты, ходили по ресторанам, притязали на женское внимание и пр.). Вернуться к практике льготного содержания «дружественных» пленных решилось уже только Временное правительство. Но соответствующий документ, подписанный в середине 1917 г., нормой так и не стал. Его реализация оказалась неразрешимой проблемой по причине того, что в местах работ пленные «братских» и «враждебных» народностей находились вместе. Их сегрегации, в свою очередь, серьезно мешала нехватка помещений и, что еще важнее, массовизация труда узников войны. По сути, работодателям было все равно, кто обеспечивал бесперебойность производственного процесса — «дружественные» пленные или «враждебные», а потому этподифференцирующий курс правительства в отношении вражеских военнослужащих оказался практически заблокированным. Специальные епархиальные попечительные комитеты, созданные распоряжением Св. Синода Русской православной церкви и проводившие с пленными душеспасительные беседы, изменить ситуации не помогли, хотя и добились нескольких случаев перехода в православие.
Противоречивые попытки «мобилизации» этничности и веры, помимо разочарования «дружественных» пленных, неожиданно привели еще и к расколу в их рядах, выявив, что чехи не признавали братьев в поляках, русины — в украинцах и т.д., и т.п. Дезинтеграция плегаппсов, а не объединение той их части, которая рассматривалась властями как полезный политический ресурс, всех громче заявила о себе па территориях, подконтрольных антибольшевистским режимам Востока России. Их практические действия по реанимации «старорежимного» курса на поддержку «дружественных» пленных были обречены еще и потому, что с окончанием Первой мировой войны и формированием в Европе новых государств национальное самосознание пленников серьезно возросло.
Политика большевиков, нацеленная на революционизирование пленных посредством прививания идеи интернационального братства, была куда более последовательной. Уже к весне 1918 г. на интернациональной платформе практически повсеместно были созданы союзы, комитеты и прочие организации военнопленных, через которые и шла аги-
тация узников войны, несмотря на ее запрет, предписанный Брест-Литовским мирным договором. Однако названные комитеты, как и возникшие позже группы иностранных коммунистов, не отличались многочисленностью, что не позволяет оценивать большевистскую пропаганду среди военнопленных как эффективную.
Важно подчеркнуть, что национализация и интернационализация как два, казалось бы, оппозиционных курса политизации плена, никакой пропастью не разделялись. И те, кто опирался на постулаты панславизма, и те, кто эксплуатировал идеи коммунистического интернационала, опирались на один и тот же принцип «разделяй и властвуй». В этом смысле плен как пространство политико-идеологических манипуляций безболезненно встраивался в общероссийскую политическую культуру, фиксируя преемственность между «политикой населения», осуществлявшейся в дореволюционной России, с одной стороны, и в большевистской России — с другой.
Во втором параграфе «Социальные логики плена: инклюзия и эксклюзия» рассматривается проблема влияния плепа на социальные процессы. Изучаются сценарии внутригругаговой коммуникации пленных, а также взаимодействий пленных и не-пленных, роль слухов и стереотипов в этом процессе, степень конфликтогенности контактов в пространстве плена и т.п. При этом постулируется, что военнопленные, дискредитируя идею определенности места и привычных географических границ, способствовали превращению всевозможных движений и передвижений в универсальный феномен. Больше того, без родины, без пристанища, без имущества, без дохода, без профессии, без близких пленники лишались всякого социального положения, оказавшись вне сословий, вне классов, вне любых групп, чей статус, стабилизируя общественные связи, делает поведение его носителей предсказуемым для окружающих. Тем самым пленники поставили перед российским обществом еще и проблему условности социальных границ, динамизировали их изменения.
Воздействие пленных на привычный мир провинциальной России стало возможно благодаря тому, что они, выпав из привычных сетей социального взаимодействия, но тут же попав в другие, одновременно были и группой эксклюзии (исключения), и группой инклюзии (включения). При этом плен, не предполагая абсолютной изоляции пленных от принимающего сообщества, сформировал некую норму участия узников войны в жизни населения Среднего Урала. Эта норма довольно быстро преодолела те запреты, которые были установлены государством в части общения военнопленных и «аборигенов», что во многом определялось экономическими практиками плена. Действительно, каждодневные потребительские и производственные практики сделали грань между соприсутствием и соучастием вражеских воешюслужащих в жизни при-
нимающего сообщества условной, результатом чего стали постепенный рост социальной компетентности «чужаков» и улучшение их социального самочувствия. Настоящий социальный «тонус» позволил пленникам не только реализовать их социо-профессиональный капитал, но и фактически нормализовал их встраивание в «эталонные» отношения мужского доминирования. И то, что выработанный традиционной культурой в течение веков стандарт не приветствовал как женское, так и мужское одиночество, ускоряло развитие этой логики, превратив близкие контакты пленных с россиянками в обыденные.
Однако стать до конца «своими» пленным в России так и не удалось. Их полновесное, безоговорочное включение в существовавшие сети социального взаимодействия проблематизировалось тем, что коллективность вражеских военнослужащих была абстрактна и они олицетворяли не единство, а социокультурную эклектику. В таких условиях перспектива каждого не обязательно смыкалась с перспективой всех, оставляя пространство для маневра. О незавершенности процесса инклюзии в пространстве плена свидетельствовала, в частности, та легкость, с которой пленники включились в разрушительные революционные события. Некоторые из вражеских военнослужащих при этом стали олицетворением нарождавшейся советской элиты, свидетельствуя тем самым о склонности социально дезадаптированных индивидов и групп к инновационной деятельности. Большую же часть военнопленных революция и Гражданская война заставили выживать. Найти при этом безопасные социальные ниши удалось далеко не всем, почему пленные и продолжали оставаться группой эксклюзии. Присвоенный им после 1917 г. статус «бывших военнопленных империалистической войны», как и статус прочих «бывших», стал дополнительным маркером их социальной «недополноценности». И именно эксклюзивность, «недовстроенность» пленников в социальные порядки сыграли затем фатальную роль в жизни тех из них, кто предпочел остаться в России навсегда. Поскольку прошлое этих людей было слишком особенным, пленные в условиях набиравших обороты репрессий ожидаемо стали сначала группой риска, а затем и жертвами террора.
В пятой главе «Плен как проблема освобождения узников войны» анализируются практики, связанные с возвращением военнопленных на родину. В первом параграфе «Освобождение как перспектива 1918 года: расчеты и просчеты большевиков», по существу, доказывается, что освобождение и возвращение военнопленных были близкими, но все-таки различными проблемами. Если подписанные властями России до 1918 г. соглашения об обмене пленников (больных, раненых, инвалидов, врачей, священнослужителей и др.) действительно предполагали их отправку на родину, то Декрет о мире от 26 октября 1917 г., соглашение о перемирии от 2 декабря 1917 г. и Брест-
Литовский мирный договор от 3 марта 1918 г. открыли дорогу домой очень немногим, в основном лишь обозначив эту проблему. Провозглашенное же в середине декабря 1917 г. большевиками освобождение военнопленных от тюремпо-лагерного режима сделало их положение двойственным: обретя в теории те же права, что и граждане Советской России, пленники не могли отправиться на родину и, больше того, столкнулись с запретами на передвижение по территории страны, жительство на частных квартирах, свободный труд и пр. Вместе с тем, лишь продекларировав освобождение военнопленных, молодое советское государство не могло обеспечить даже их минимальные физические потребности.
Мириться с ухудшением своего положения пленники не хотели, «осадив» наряду с беженцами едва ли не все административные центры и транспортные узлы страны или и вовсе «самотеком» пробираясь к ее западным рубежам. Нелегальные по своему характеру перемещения еще более усилила весть о подписании в Риге 24 июня 1918 г. Русско-германского протокола об обмене пригодными к службе военнопленными. Но судьбы плегагаков, находившихся на территории охваченной Гражданской войной Азиатской России, означенный документ изменить уже не мог, отсрочив их освобождение еще на какое-то время.
Во втором параграфе «Плен и освобождение пленных в практиках антибольшевистских правительств Востока России» исследуются попытки разрешения участи вражеских военнослужащих на территориях, временно «освобожденных» от советской власти во второй половине 1918 — середине 1919 гг. Отмечается, что, несмотря на постоянную смену политических декораций, курс, проводимый в отношении пленников Временным Сибирским правительством, Временным Всероссийским правительством и Омским правительством A.B. Колчака, отличался стабильностью. Он предполагал не просто консервацию, но и ужесточение плена через непременное содержание пленников в лагерях, практики принудительного труда, этнодифферегащрующую политику и пр. При этом основную роль в определении характера плена играла теперь военная администрация, лишившая любые гражданские структуры, включая краснокрестные, права на участие в судьбах узников войны. Такая политика настроила против властей не только военнопленных, многие из которых открыто заявляли, что ждут большевиков. Она нанесла урон местным хозяйственникам, у которых пленные были отобраны, и привела к складыванию преступных практик укрывательства беглых пленников.
Что касается вопроса о репатриации, то решать его ни одно из «белых» правительств Востока России не спешило, превратив освобождение узников войны в предмет бесконечного торга с Советской Россией, Францией, Германией и др. странами. Даже комиссия Омского пра-
вительства, созданная 11 марта 1919 г. с целью организации обмена военнопленных, скорее занималась блокированием соответствующих инициатив из-за рубежа, нежели способствовала их реализации. В итоге покинуть Россию во второй половине 1918 — середине 1919 гг. удалось только датским и итальянским военнопленным, а также небольшой группе пленников, вывезенных на территорию Японии (4,5 тыс. чел.).
В третьем параграфе «Завершающая стадия репатриации» доказывается, что и во второй половине 1919 — конце 1922 гг. освобождение военнопленных иностранцев не стало окончательным. Оно осложнялось тем, что к тому времени бывшие пленные «империалистической войны» практически растворились среди местного населения, почему их регистрации и переучеты превратились в практически бесконечные. В таких условиях эвакуационные службы Среднего Урала занимались главным образом транзитными, нежели местными «контин-гентами», которые в массе своей были предоставлены сами себе. Многие «местные» пленные при этом возобновили свои попытки самостоятельного возвращения на родину, чему во многом способствовали постоянные приостановки репатриации в целом (сент. 1919 г.) или задержки определенных категорий военнопленных (поляков, румын, врачей и др.).
Возобновившемуся в июне 1920 г. освобождению пленных препятствовали также бюрократические проволочки, выражавшиеся, в частности, в необходимости предоставления репатриантами пакета выездных документов. В условиях, когда многие бывшие вражеские военнослужащие не имели на руках подтверждений своего статуса, им до декабря 1920 г. помогали Советы австро-венгерских и германских рабочих и солдат в России. Но затем эвакуационные службы отказались признавать завизированные ими удостоверения плештков, что не только задерживало отъезд военноплешгых на родину, но могло его и вовсе отменить за недоказанностью оснований.
Главной же причиной пробуксовывания репатриации вплоть до конца 1922 г. оставалась «дисперсность» российского плена, отягощенная еще и разбалансировашюстью центр-периферических связей. До многих пленных информация о возможном отъезде домой просто не доходила, в связи с чем даже после официального завершения репатриации бывших германских военнопленных 1 марта 1922 г. и бывших подданных австро-венгерской короны 31 августа 1922 г. о них периодически напоминали положения о гражданстве 1924, 1930 и 1931 гг., переписная кампания 1926 г., паспортизация 1933 г. и Конституция СССР 1936 г. Однако при этом большая часть пленников действительно вернулась на родину к началу 1923 г., когда было ликвидировано ведавшее их судьбами Центральное управление по эвакуации населения.
В Заключении подводятся итоги исследования. Главным из них является вывод о том, что, значительно усложнившись, российский плен 1914-1922 гг., помимо традиционной военно-режимной функции, обрел целый ряд других. Плен, в частности, превратился в: 1) катализатор мобильности населения, 2) локально и надлокально значимый экономический фактор, 3) политический ресурс, позволявший рационализировать явные и неявные коллективности, 4) действенный инструмент социальных трансформаций, 5) площадку для конструирования различных видов и подвидов свободы и несвободы.
Пространство российского плена 1914—1922 гг. изначально развивалось как динамическое и гетерогенное. Оно постоянно реконфигу-рировалось, поскольку расположенные на «территории» плена центры могли выступать как центры транзитные, центры принимающие, центры выбытия или и вовсе комбинированные центры. Логика перемещений в пространстве плена при этом трансформировалась, определяясь режимным, экономическим, внутриполитическим и репатриационным факторами, иерархия которых определяла численность пленных в провинции на тот или иной момент времени. Еще более динамичным российский плен 1914-1922 гг. делали априори различные и при том продолжавшиеся меняться характеристики пленных, никогда не составлявших гомогенной группы. В этой связи не будет преувеличением сказать, что плен с его нестабильными статистико-географическими и структурно-качественными свойствами напрямую способствовал нестабильности как таковой, динамизировал жизнь принимающего сообщества.
Важнейшей характеристикой российского плена стало также то, что он не знал универсальной культуры концентрационных лагерей как минимум до весны 1918 г., когда «лагерность» плена стала восприниматься как необходимое условие для эффективного решения проблемы репатриации узников войны. До того позиционирование всевозможных средоточий пленных Первой мировой войны в России в качестве лагерей являлось не более чем негласной конвенцией. В текстах, авторизованных пленными, посредством лагеря «аллитерировалась» несвобода, тогда как для официального российского делопроизводства это был просто удобный «эпитет» места, призванный зафиксировать географию плена. На самом же деле его институциональная среда формировалась как неоднородная, предполагая возникновение не только собственно лагерных структур. Они зримо отличались друг от друга в силу специфики производств, на которые были отданы военнопленные, оказывавшиеся при том в совершенно разных условиях, задаваемых не логикой их унификации, а возможностями конкретного хозяйствующего субъекта.
Тем самым проведенное исследование показало, что институциональное сопровождение плена в России детерминировалось главным
образом тенденциями его «экономизации» и прежде всего развитием практик принудительного труда. Они, а также специфические практики потребления и управления, образовали особую экономику плена, характеристиками которой стали: 1) минимизированное потребление, нормировавшееся лишь на бумаге, 2) низкая культура организации производства, приматом которого были валовые показатели, получаемые не за счет производительности труда, а за счет увеличения живой массы труда, 3) «неоварваризация» трудовых отношений, осповапных на внеэкономическом принуждении, 4) неэффективное управление, ставшее следствием повышенной «плотности» паллиативных решений.
Государство при этом так и не определилось с тем, что же в экономике плена первично — её краткосрочные или долгосрочные эффекты? Пользуясь этим, региональные элиты фактически присвоили несвойственные им функции регламентации плена, едва ли не повсеместно отформатировав властные предписания в угоду своим нуждам. Для России в целом это, очевидно, имело разрушительные последствия. В краткосрочной перспективе децентрализованные, импровизировашше практики потребления, производства и управления медленно, но верно работали на имперскую децентрализацию. В перспективе же долгосрочной экономика плена, строясь па сознательном отказе от рыночных механизмов, негативно влияла на хозяйственный менталитет россиян, укореняла экстенсивные практики хозяйствования вместо интенсивных.
Тенденции политизации российского плена 1914—1922 гг. векгор-но соответствовали аналогичным же национальным практикам. Специфика России заключалась при этом в том, что здесь манипуляции с эт-ничностью имели глубокие корни, связанные с идеями славизма и панславизма. Опыт России также был отмечен апеллированием к конфессиональным и классовым различиям пленных. В этом соединении архаики и модерна и состояло, по сути, наиважнейшее отличие процесса политизации российского плена. Но, как явствует из полученных данных, ни этничность, ни вера, ни класс, каждый в отдельности, в качестве безотказной основы формирования из плешгиков тех или иных групп лояльности не работали. Это объяснялось тем, что к началу XX в. религиозная идентичность в качестве идентификационного кода уже утрачивала свои позиции. В то же время грубо, примордиалистски понимаемая этничность, равно как и грубо, схематически определяемая классовость позволили радикализовать лишь часть пленных. Не последнюю роль в отвращении пленных от идей национальной, классовой и любой другой борьбы сыграла также рассогласованность действий центра и периферии, вытекавшая из несовпадения их интересов.
Характерно при этом, что на каких бы основаниях не осуществлялась политизация плена, будь то идеи славянского братства или братства пролетарского, она обязательно предполагала эксплуатацию «се-
мейного дискурса». Он как бы сам по себе предполагал включенность военнопленных в актуальный политический процесс, создавая тем самым иллюзию массового политического активизма узников войны. Таким нехитрым способом всевозможные весомые инстанции пытались закамуфлировать тот факт, что из 2-миллионой армии пленных в политической жизни России живое участие приняло только несколько десятков тысяч. Между тем следует признать, что большевики в своих попытках инкорпорации пленных в общую рамку революции оказались более успешными, нежели их политические противники, шедшие по пути «мобилизации этничности». Успех этот во многом был предопределен тем, что идеи социального равенства и общего благоденствия имели универсальный характер, перекликаясь с традиционными ценностями общецивилизационного значения.
Логики, практики и эффекты социальных взаимодействий в пространстве плена запечатлели, что воюющее общество даже на своем наименее подверженном эрозии локальном уровне не могло оставаться герметичной системой, равнодушной к, казалось бы, чрезвычайно далекой мировой войне. Пленные, позиционировавшиеся наряду с беженцами как «несчастные осколки войны», практически стали для тыла ее олицетворением. Воздействие же пленных на социальный порядок было изначально двояким — какие-то из его оснований они основательно расшатали, вместе с тем стремясь к социальной устроенности через активные попытки языковой, сексуальной, профессиональной и прочей интеграции. Практики со-общения пленных и не-пленных при этом зафиксировали, что даже революционизированное российское общество не спешило принимать чужаков в свои объятая, тем самым демонстрируя, что революция не привела к коренной ломке основ социального устройства в России. «Новое» — советское — общество не создавалось с чистого листа, получив в наследство от «старого» общества патриархальную тенденцию к иммунизации от вторжений извне, к самосохранению за счет избирательной открытости чужому.
Изучение плена как проблемы освобождения продемонстрировало, что никаких простых его сценариев вражеским солдатам и офицерам в России предложено не было. Больше того, для некоторой части узников войны «плен после плена» затянулся настолько, что перекрыл по своей продолжительности собственно плен. Можно сказать, что российский плен 1914-1917 гг. просто мутировал, превратившись в плен 1918— 1922 гг. Облеченный в риторику возвращения, он получился не просто долгим. Он отразил еще и всевозможные прецеденты легальных и нелегальных освобождений, вариативность которых была делом как личного, так и безличного выбора. Тем самым зависимый от целого ряда сопутствовавших ему событий и прежде всего Гражданской войны рос-
сийский плен 1918-1922 гг., так и не выработав универсальной нормы освобождения, со всей наглядностью показал, что дистанция между свободой и несвободой не является критической.
В любом случае российский плен 1914-1922 гг. стал значительно более прагматичным, чем его более ранние аналоги. Плен тем самым олицетворял собой неизбежное и всепобеждающее наступление эпохи «модернити» с характерным для неё уплотнением времени и пространства, с одной стороны, и постепенным преумножением ролей или как минимум масок человека — с другой стороны. При этом многие вызовы, коренившиеся внутри плена, так и остались неотвеченными, что способствовало процессу его ещё большей радикализации в годы Второй мировой войны.
ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ Монографии:
1. Военный плен в российской провинции (1914-1922 гг.) M.: РОС-СПЭН, 2014. 423 с. (26,5 п.л.; рец.: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5: История. Реферативный журнал. 2014. № 3; Quaestio Rossica. 2014. № 2).
2. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале (1942-1956 гг.) Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2006. 500 с. (30 п.л.; рец.: Новая и новейшая история. 2007. № 1; Cahiers du Monde Russe. 47/4 (2006); Slavic Review. Vol. 68. № 1. Spring 2009).
Публикации в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК:
1. Военнопленные Первой мировой войны на Востоке России: взгляд Йохана Принса // Диалог со временем. 2014. № 47. С. 340-361. (в соавт. с М.И. Вебером; 0,75/0,35 п.л.).
2. Военнопленные I Мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета // Вестн. Пермского ун-та. Сер.: История. 2011. Вып. 3(17). С. 58-65. (0,75 п.л.).
3. Военнопленные в Богословском горном округе: контакты, конфликты, конвенции // Изв. Уральского федерального ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2012. № 1(99). С. 123-129. (0,5 пл.).
4. Военнопленные в Богословском горном округе: статистика и экономика // Изв. Уральского госун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2011. № 3(93). С. 110-129. (1,35 п.л.).
5. Военнопленные Первой мировой войны на занятых «белыми» территориях Урала и Сибири в 1918-1919 гг. // Наука. Общество. Человек: Вестн. Уральского отделения РАН. 2013. № 4. С. 79-90. (1,25 п.л.).
6. Измерения плена: Россия, Урал, Коноваловский завод, 1916 г. // Уральский исторический вестн. 2012. №. 1(34). С. 122-133. (1,0 п.л.).
7. «Им не досталось ни славы, ни почестей»: Очерк сотрудника YMCA о судьбе военнопленных на Востоке России. 1918 г. // Исторический архив. 2014. № 3. С. 126-141. (в соавт. сМ.И. Вебером; 1,2/0,6 п.л.).
8. «Круглый стол» к 100-летига начала Первой мировой войны в Екатеринбурге // Российская история. 2015. №2. С. 211-214. (в соавт. с О.С. Поршневой; 0,4/02 пл.).
9. «Мы были в шоке»: Советский плен и интернирование как стресс аккультурации // Веста. Российского ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2009. № 3. С. 132-143. (0,8 п.л.).
10. Перепись военнопленных Первой мировой войны в России: причины, условия, итоги (по материалам Пермской губернии) // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 3. С. 23-27. (0,6 п.л.).
11. Повседневность уральского плена: взгляд изнутри (конец 1916 — первая половина 1917 г.) // Веста. Челябинского госун-та. 2009. №28. Сер.: История. Вып. 34. С. 167-173. (0,55 п.л.).
12. Производительность труда пленных иностранцев на Урале. 1914— 1917 гг. // Вопросы истории. 2012. № 2. С. 149-155. (0,75 пл.).
13. [Рец.]: Oxana Stuppo. Das Feindbild als zentrales Element der Kommunikation im Spätstalinismus Der Fall Sverdlovsk 1945-1953. Hairassowitz Verlag — Wiesbaden, 2007 // Cahiers du Monde russe. 48/4 (2007). P. 755-761.(0,5 пл.).
14. Российский и советский плен как пространство неформальной коммуникации (по материалам Среднего Урала) // Российская история. 2011. №4. С. 53-63. (1,0 пл.).
15. Российский плен 1914—1917 гг. как пространство политико-идеологических манипуляций: теории центра и практики периферии // Cahiers du Monde russe. 53/1 (2012). С. 247-266. (1,35 пл.).
16. Российский плен 1914-1917 гг.: проблема институциональной атрибуции // Идеи и идеалы. 2014. Т. 2. № 3(21). С. 5-13. (0,6 пл.).
17. Российский плен 1914-1922 гг. в новейшей отечественной историографии: контексты, конструкты, стереотипы // Вестн. Пермского ун-та. Сер.: История. 2013. №. 2(22). С. 167-178. (1,0 пл.).
18. Российский плен 1914-1922 гг.: социологическое измерение (по материалам Урала) // Вестн. Российского ун-та дружбы народов. Сер.: История России. 2012. № 4. С. 44-56. (0,85 пл.).
19. Российское беженство 1914-1922 гг. в контекстах новейших отече-ствешюй и зарубежной историографий // Вестн. Пермского ун-та. Сер.: История. 2012. №. 3(20). С. 140-152. (в соавт. с H.A. Михалевым, С.А. Пьянковым; 1,05/0,35 пл.).
20. «Теперь за мужей пошли в моду австрийцы...»: плен, любовь и мораль в российской провинции 1914-1917 гг. // Родина. 2014. № 8. С. 137138. (0,4 пл.).
21. Трудоиспользование иностранных военнопленных Второй мировой войны: мифы и реальность (на материалах Среднего Урала) // Уральский исторический вестн. 2003. № 9. С. 262-274. (0,8 п.л.).
22. Этничность и вера в практиках российского плена 1914-1919 годов (по материалам Уральского региона) // Россия XXI. 2011. № 5. С. 116— 139. (1,25 п.л.).
Статьи в сборниках научных трудов и материалах конференций:
1. «Багателизация» несвободы: визуальные репрезентации лагеря № 504 МВД СССР // Оче-видная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия: сб. статей. Челябинск: Каменный пояс, 2008. С. 182-191.(0,75 пл.).
2. Военнопленные I Мировой войны на Урале: проблемы изучения демографических характеристик // Историческая демография (Сыктывкар). 2012. № 1(9). С. 34-38. (0,5 пл.).
3. Военнопленные в экономике Среднего Урала (1914—1917 гг.) // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Вып. 5. Екатеринбург: изд-во Урал, ун-та, 2005. С. 150-161. (0,8 п.л.).
4. Военноплешше на Урале в 1917 г.: от созерцания к действию // 1917 год в судьбах России и мира: сб. материалов Междунар. науч. конф. Архангельск: Поморский госун-т им. М.В. Ломоносова, 2007. С. 162-167. (0,3 п.л.).
5. Военный плен в России и СССР в годы I и П Мировых войн: проблема компаративного исследования // Общество и война: материалы Междунар. науч. семинара. Екатеринбург: изд-во Урал, ун-та, 2010. С. 119-126. (0,5 п.л.).
6. Из опыта использования военнопленных Первой мировой войны в экономике провинциальной России // История пенитенциарной системы России в XX веке: сб. материалов Междунар. науч. семинара. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. С. 122-130. (0,5 п.л.).
7. К вопросу о численности военнопленных Первой мировой войны в России и на Урале // Россия в войнах начала XX века: докл. науч. конф. Екатеринбург: изд-во Гуманитарного ун-та, 2005. С. 282-305. (0,8 пл.).
8. Коллизии уральского плена в зеркале региональной печати (19141917 гг.) // Проблемы отечественной истории: источники, историография, исследования: сб. науч. статей. СПб.; Киев; Минск: Нестор-История, 2008. С. 90-121. (2,25 пл.).
9. Копорский чай, сыр из картофеля и «вегетарианская» обувь: к характеристике культуры потребления в годы Первой мировой войны // Повседневность российской провинции Х1Х-ХХ вв.: материалы Всерос. науч. конф.: в 2 ч. Ч. II. Пермь: ПГТПУ, 2013. С. 193-199. (0,5 пл.).
10. «Лишить», «заставить», «отобрать»: Практики принуждения и насилия в пространстве российского плена 1914-1917 гт. // Мобилиза-
ционная модель экономики: исторический опыт России XX века: сб. материалов II Всерос. науч. конф. Челябинск: Энциклопедия, 2012. С. 603-609. (0,6 п.л.).
11. Мифу миф? Военнопленные-интернационалисты и Гражданская война на востоке России в зеркале советской историографии // Гражданская война на востоке России: материалы Всерос. науч. конф. Пермь: Изд-во «Пушка», 2008. С. 265-273. (0,75 пл.).
12. О времени и о себе: приметы времени в автобиографии неприметного военнопленного // Личность в политических, экономических и культурных процессах российской истории: материалы XVII Всерос. научно-теор. конф. М.: Экон-Информ, 2013. С. 658-663. (0,5 пл.).
13. Организация труда военнопленных на Урале в 1914-1917 гг.: поиски и решения // Проблемы российской истории: ежегодн. (Магнитогорск). Вып. VI. 2006. С. 169-194. (1,0 пл.).
14. Первая мировая война в воспоминаниях Василия Журавлева // История в эго-докумептах: Исследования и источники. Екатеринбург: изд-во «АсПУр», 2014. С. 279-302. (в соавт. с Д.А. Лобановым, Л.Г. Ощепковым; 1,75 п.л./0,6 пл.).
15. Плен, лень и бухгалтерия (к вопросу об эффективности трудового использования военнопленных I Мировой войны в экономике Урала // Трудовые отношения в условиях мобилизационной модели развития: сб. науч. статей. Челябинск: Энциклопедия, 2010. С. 40-59-(0,75 пл.).
16. Российский плен 1914-1917 гг.: к терминологической разметке исследовательского поля // Питания шмецько1 ¡сторн: зб. наук. пр. Днепропетровск: «Л]ра», 2015. С. 16-24. (0,5 пл.).
17. Российский плен и российское беженство 1914-1918 гг. как факторы реконфигурации социальных границ // Границы и маркеры социальной стратификации в России Х\П-ХХ вв.: материалы первого Всерос. науч. семинара. Екатеринбург: «Банк культурной информации», 2014. С. 102-115.(0,5 пл.).
18. Труд иностранных граждан в СССР в 1945-1956 гг.: проблемы изучения // Победители и побежденные. От войны к миру: СССР, Франция, Великобритания, Германия, США (1941-1950). М.: РОССПЭН, 2010. С. 242-255. (0,75 пл.).
19. Экономика советского плена: администрирование, производство, потребление // История сталинизма: Принудительный труд в СССР. Экономика, политика, память: материалы Междунар. науч. конф. М.: РОССПЭН, 2013. (История сталинизма. Дебаты). С. 78-87. (0,6 пл.).
20. Эксплуатация веры: конфессиональный фактор в российском праве военнопленных конца XVII — начала XX века // Война и сакраль-ностъ: материалы IV Междунар. науч. чт. «Мир и война: культурные контексты социальной агрессии». М.; СПб.: ИВИ РАН, 2010. С. 152155. (0,3 пл.).
Подписано в печать 18.09.2015. Формат 60x90 1/16 Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2,5. Тираж 120 экз. Заказ № 417. Отпечатано в типографии ИПЦ УрФУ 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4