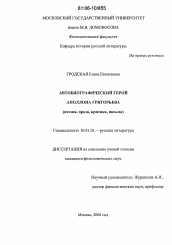автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Автобиографический герой Аполлона Григорьева
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Гродская, Елена Евгеньевна
Введение.2
Глава 1. Автобиографический герой раннего творчества Аполлона
Григорьева.37
Глава 2. Автобиографический герой Аполлона Григорьева и герои
Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева.78
Глава 3. Автобиографический герой позднего творчества Аполлона
Григорьева.141
Введение диссертации2006 год, автореферат по филологии, Гродская, Елена Евгеньевна
В последнее время наблюдается повышение интереса к личности и творчеству Аполлона Григорьева. Если в предреволюционный и советский периоды наследие Григорьева, его критика, поэзия, проза и биография изучались, в основном, изолированно, то теперь назрела необходимость их комплексного исследования. Свидетельство тому — появление серьезных монографий (С.Н.Носов, Б.Ф.Егоров, Р.Виттакер).
Феномен Григорьева - в неразрывной связи его произведений и личности их автора. Одной из основных характеристик его творчества является автобиографизм, что отмечают многие исследователи (А.А.Блок, В.А.Княжнин, Р.В.Иванов-Разумник, П.П.Громов, Б.Ф.Егоров, В.П.Раков, А.И.Журавлева).
Формулировка «автобиографический герой Аполлона Григорьева», являющаяся темой и проблемой нашей работы, приобретает статус понятия и имеет синтетический характер. Мы в него включаем образ автора (по М.М.Бахтину: «автор - носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его»1), собственно героя текста и писателя как реально существовавшей личности. Таким образом, автобиографический герой Григорьева находится на границе собственно художественного пространства текста и реальной действительности.
Теоретически такой подход обусловлен концепциями М.М.Бахтина («Автор и герой в эстетической деятельности»), Г.О.Винокура, устанавливающего связь жизни автора и его произведений, утверждающего ценность биографии как культурно-исторической проблемы2, Л.Я.Гинзбург, исследовавшей соотношение между концепцией личности, присущей даннойIэпохе и социальной среде, и художественным ее изображением Ю.М.Лотмана,' Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 16.
2 Винокур Г.О. Биография и культура. // Винокур Г.О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М., 1997.
3 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.ставившего проблему соотношения семиотической системы текста и «вне-системы», мира, лежащего за ее пределами4.
Литературная ситуация 40-х-50-х годов 19 века характеризуется процессом становления героя художественного произведения, начатого в 20-е-30-е годы Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым. Столкновение романтизма и натуральной школы оказывало влияние на этот процесс. Появление новых имен: Фета и Некрасова - в поэзии, Тургенева, Писемского, Герцена, Гончарова, Достоевского, Толстого - в прозе, Островского - в драме -предполагало широкий спектр возможностей для «героя времени»5. В этом контексте творчество и личность Аполлона Григорьева уникальны.
Григорьев соединил в себе три творческих ипостаси: критика, поэта и прозаика. Он писал об искусстве, сам являясь художником, понимая на собственном опыте хрупкость и ценность истинного творчества. Для Григорьева непреложной точкой отсчета был литературный факт. А.И.Журавлева в статье «"Органическая критика" Аполлона Григорьева» пишет: «Как-то Григорьев сказал о Пушкине, что ему была присуща «религиозная боязнь солгать на народ». Самому Григорьеву была присуща такая же боязнь солгать на искусство. Живой факт искусства - это самое главное, самый неопровержимый, не допускающий ни отмены, ни замалчивания аргумент»6.
Цельность художественных принципов писателя обусловлена не только «органичностью» его наследия, но и созданным им явлением «автобиографического героя», понятием, которое объединило «я» критики и писем, героя его прозы и лирического героя стихотворений и поэм. Специфичность понятия «автобиографический герой Григорьева» состоит и в4 См., например, Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
5 О «герое времени» см. работы Журавлевой А.И. «Герой времени» в русской литературе XIX века (Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Пакет. М., 1996. С.45-60) и Путь к герою времени: лирика, драма, роман (Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002. С. 181-197).
6 Журавлева А.И. «Органическая критика» Аполлона Григорьева // Григорьев А.А. Эстетика и критика. М., 1980. С.13.сочетании творческих ипостасей с «целым» автора и самой личности писателя, принадлежавшей конкретной эпохе.
Трудность исследования такого рода пограничного, расположенного между литературой и действительностью явления состоит в необходимости соблюдения баланса между описанием конкретного факта биографии и его преломления в творчестве. Нас интересует становление григорьевского героя в жизни и произведениях, при этом первичным является сам художественный текст. Между автобиографическим документом, который в чистом виде представляет собой письмо, и «лирическим дневником» «последнего романтика» в прозе и стихах, конечно, существует дистанция.
Автобиографический герой Аполлона Григорьева, являясь предметом нашего исследования, находится в ряду «героев времени», созданных современными писателю авторами.
Методологически исследование сочетает в себе комплексный подход: текст анализируется с точки зрения влияния на него биографии Григорьева в контексте социально-исторической действительности, но также рассматриваются и собственно имманентные характеристики произведения -проблема жанра, уровень композиции и языковые средства.
За почти полтора века в изучении творчества и личности Аполлона Григорьева было сделано немало. Первым рецензентом григорьевских стихотворений был В.Г.Белинский, чей отзыв на сборник 1846 года, несомненно, заслуживает внимания. На этот отзыв так или иначе ссылаются все исследователи поэзии Григорьева. Это объясняется тем, что Белинский, провозгласив, что Григорьев «не поэт, вовсе не поэт», тем не менее дал проницательный и в итоге сочувственный анализ стихов тогда еще начинающего и никому неизвестного автора. «В его стихотворениях прорываются блестки поэзии, но поэзии ума, негодования. Видишь в них ум и чувство, но не видишь фантазии, творчества, даже стиха. В лиризме же егопстих прозаичен, негладок, нескладен, вял». Конечно, парадоксально то, что Белинский с его верным эстетическим чутьем не угадал в Григорьеве лирика, а понял только «протест».«.пафос лиризма г. Григорьева однообразен и не столько л и ч е н, сколько эгоистичен, не столько истинен, сколько заимствова н». Заимствован, по мнению Белинского, у Байрона и Лермонтова. Тут критик отчасти прав. Действительно, ранние стихи Григорьева во многом лермонтовские. Интересно то, что впоследствии Григорьев в своей критике сам будет осуждать лермонтовское направление в литературе, как будто вторя своему учителю, каковым он считал Белинского. Надо оговорить, что и Белинский, и Григорьев под «лермонтовским направлением» подразумевали эпигонов поэта, их враждебное к ним отношение не распространялось на самого Лермонтова.
Белинский также упрекает Григорьева в том, что он «певец вечно одного и того же предмета - собственного своего страдания». И далее: «В наше времяострадания нипочем, - мы все страдаем наповал, особенно в стихах». И тут Григорьев-критик в москвитянинский период пойдет вслед за Белинским, иронизируя и над избытком «страданий» у современных ему поэтов, и над собой в молодости.
Белинский признает, что Григорьев - не поэт, «но глубоко чувствует и многое глубоко понимает, это иногда делает его поэтом». Критик выделяет «прекрасное стихотворение» «Город», где как раз, как нам кажется, очень сильно социальное негодование в духе лермонтовской «Думы» или «Как часто, пестрою толпою окружен.».
Нужно сделать вывод, что Григорьев-критик через несколько лет (в москвитянинский период) услышит Белинского и будет вторить ему по поводу лермонтовского направления, расплодившихся печориных и т.п. Однако в7 Белинский В.Г. ПСС: В 13 томах. М., 1953-1959. Т. 9, с.5938 Там же.стихах он станет замечательным лириком, тем самым опровергнув своего учителя. Впрочем, до зрелых произведений Григорьева Белинский не дожил.
Особое значение в контексте нашей проблемы имеют воспоминания о Григорьеве современников - А.А.Фета, Н.Н.Страхова, Ф.М.Достоевского, А.П.Милюкова, П.Д.Боборыкина, К.Н.Леонтьева. Воспоминания Фета «Ранние годы моей жизни» касаются студенческих лет Григорьева. Фет жил в доме Григорьевых, и его впечатления от совместного существования с «Полошенькой» (так Григорьева звали родители) проясняют нам обстоятельства юности писателя.
Фет вспоминает Григорьева как прилежного и послушного студента и сына, хотя и тяготящегося «домашней догмой», однако будившего родителей прекрасной игрой на фортепьяно и подставлявшего голову под материнский гребень. «Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались учиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Иппокрену»9. Фет называет литературные имена, вызывающие интерес юношей, - Гюго, Ламартин, Бенедиктов, Шиллер, Гете и потом - Байрон, Лермонтов, Гейне.
В воспоминаниях Фета создается образ вдумчивого, мечтательного, скромного юноши Григорьева, который в чем-то совпадает с другими воспоминаниями современников, а во многом им противоречит. Знаменитого «буйного» и «неуравновешенного» Григорьева нет в фетовском повествовании.
Дополнением к воспоминаниям Фета можно считать его рассказ «Кактус», где описывается уже «взрослый» Григорьев с неизменной гитарой, цыганским пением и в русском наряде. Образ кактуса, расцветающего только на одну ночь и наутро уже увянувшего, параллелен григорьевской «метеорской» судьбе.
Воспоминания Н.Н.Страхова, опубликованные после смерти Григорьева в «Эпохе» в качестве комментария к оренбургским письмам критика Страхову,9 Фет А.А. Ранние годы моей жизни //Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.396.рисуют портрет уже зрелого писателя. Страхов познакомился с Григорьевым в последний период его творчества, у них возникла взаимная симпатия. Григорьев называл своего юного друга и коллегу «Горацио», естественно, себя ассоциируя с Гамлетом. Страхов включается в эту литературную игру: эпиграф к его воспоминаниям - строчка из шекспировской трагедии («Горацио! ты все ему расскажешь»). Страхов характеризует Григорьева как человека, у которого личные интересы никогда «не стояли на первом плане», «не занимали главного места в душе». Страховский Григорьев — «урожденный критик, для которого критика была естественною потребностью и прямым назначением жизни»10.
Мемуарист объясняет психологический склад Григорьева, его наклонность к «безобразию» (так сам критик называл запои) стремлением к недостижимому идеалу. Григорьев «был человек в высокой степени напряженный. хотя в то же время совершенно искренний»". Григорьевскую восторженность и высокопарность Страхов объясняет «силой чувства, поэзией, пониманием».
Он признает, что Григорьев не был «деятелем», не был хорошимпроводником своих убеждений. Тем самым Страхов присоединяется к спорумежду критиком и Ф.М.Достоевским. Но цель мемуариста - это своего родаапология, оправдание Григорьева от тех нападок, которые обрушивались написателя при его жизни. «Конечно, может иногда быть, что человек нарочнодразнит себя ужасами, нарочно возводит свое положение в трагическое. Но тотглубоко ошибся бы, кто захотел бы видеть в Григорьеве только одно желаниепорисоваться. Григорьев слишком горячо любил, слишком глубоко понималвсе то, за погибель чего боялся. Его страх был страх действительной, не12напускной любви, следовательно был настоящим страданием». Мемуары внутренне диалогичны, каждая реплика - ответ на возможное обвинение.
10 Страхов Н.Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве II Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.432.
11 Там же, с.516.
12 Там же, с.470.
Страхов выстраивает несколько идеализированный образ (отчасти Гамлета, отчасти Дон-Кихота - вполне в согласии с личной мифологией самого Григорьева), который во многом противоречит опубликованным письмам, где Григорьев не скрывает своих симпатий и антипатий, нападает и на журнал «Время», и на его издателей братьев Достоевских.
Не случайно сам Ф.М.Достоевский опубликовал свое примечание к воспоминаниям Страхова. В нем Достоевский был более сдержан, отметил, что «Григорьев был бесспорный и страстный поэт, но он был и капризен, и порывист, как страстный поэт»13. Однако Достоевский отдает покойному коллеге должное, говоря о его сходстве с Гамлетом (включаясь, соответственно, в игровой диалог Григорьева и Страхова), при этом замечая, что «тот был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, которые менее других и рефлектировали». Достоевский называет Григорьева «почвенным», «кряжевым» человеком, что в эстетике обоих писателей было, несомненно, достоинством. Достоевский характеризует писателя как «наиболее русского человека» по натуре «из всех своих современников».
Воспоминания А.П.Милюкова обрисовывают Григорьева как незаурядного критика. Милюков так же, как и Страхов, оправдывает Григорьева: «У него <Григорьева> было немало литературных противников, которые не умели или не хотели оценить его самобытного критического таланта. читая статьи, его нельзя было не видеть, что автор влагал в них всю свою душу, что его мысли и воззрения, говоря его собственными словами, были его плотью и кровью. С первого взгляда некоторые мнения его казались парадоксальными, но при внимательном изучении вы невольно сознавали их правдивость»14. Милюков, признавая творческие заслуги Григорьева, его самобытность как критика, говорит, как и другие мемуаристы, о его непрактичности, о том, что, будучи «совершенным поэтом романтической13 Достоевский Ф.М. Примечание // Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.526.
14 Милюков А.П. А.А.Григорьев (отрывок из воспоминаний) // Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.558.эпохи», он «не умел основательно позаботиться о своем материальном обеспечении».
В конце своих воспоминаний писатель рассказывает анекдот, связанный с очередным григорьевским загулом. Подобные «случаи из жизни» вспоминают многие мемуаристы, что свидетельствует не только о личности Григорьева, но и о восприятии его современниками. Даже самые доброжелательные из них (таким, несомненно, был Милюков) не могут удержаться от жанра анекдотического рассказа о григорьевских похождениях, который условно можно назвать потехинским.
Именно бывший сотрудник Григорьева по «Москвитянину» Н.А.Потехин в пьесе «Наши в Париже» вывел Григорьева под именем Аполлона Сергеевича Вагабундова, который пьет запоем, произносит речи о русском начале, творит всяческие безобразия. Интересно, что эта пьеса была опубликована в год смерти Григорьева. В нашей работе мы коснемся подобного восприятия Григорьева современниками.
Воспоминания П.Д.Боборыкина дают представление об отношении к Григорьеву литературной радикальной молодежи: «. на Григорьева многие смотрели вовсе не как на отсталого славянофила, а искренне верили в его освободительные стремления, в любовь к народу и к народности, в поэзию, ценили его стихотворные опыты, распевали даже одну смелую песнь, сложенную им»15. И опять в тоне мемуариста звучит оправдательная интонация, будто ответ на возможные упреки. Боборыкин считает своим долгом разрушить «образ Вагабундова» - «отсталого славянофила». Боборыкин пишет про «обширную европейскую начитанность» Григорьева, его подверженность «веяниям», повлиявшим на нас «вовсе не с востока, а с запада». Как и прочие, Боборыкин говорит о «прирожденном романтизме» писателя, о том, что он «ни в чем не знал меры». При своем в целом положительном отношении к личности и творчеству Григорьева мемуарист все15 Боборыкин П.Д. А.А.Григорьев (Из воспоминаний о пишущей братии) // Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.568.же жалеет о том, что «натура и разные умственные влияния не позволили ему доработаться в своей критической карьере до цельности мировоззрения, до органической полноты и последовательности, употребляя его любимый термин»16.
Мы видим, что мемуары о Григорьеве носят характер «оправдательного документа», при этом даже самые доброжелательные современники не могут удержаться от замечаний в адрес уже покойного писателя. В их повествовании борются миф и реальность, как сказал бы Григорьев, «наносные начала» с «почвой». Все отмечают стремление писателя к истине, его служение литературе и «высшим интересам», однако ставшие притчей во языцех григорьевские противоречия, его безудержность во всем, стремление к тому, что он просто называл «жизнью», помогали лепить «образ Вагабундова».«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве (письмо к Ник. Ник. Страхову)» К.Н.Леонтьева - своего рода итог к мемуарам о Григорьеве современников. Леонтьев, мало знавший писателя при жизни, встречавшийся с ним два раза за год до его смерти, пишет не столько о конкретной личности, сколько об образе, «русском лице».
Мемуарист сочувственно отзывается о критической деятельности Григорьева во «Времени», хотя и отмечает, что поначалу, в эпоху «Москвитянина», «слог его находил смутным и странным, требования его17казались. слишком велики». Леонтьев замечает о григорьевской «ширине духа, с трудом вмещавшегося в слово». Так мемуарист объясняет непонимание критика литературной общественностью.
Говоря о «неясном идеале» Григорьева, Леонтьев вписывает свои «воспоминания и мысли» в контекст рассуждений о русском начале, о «безличности и царстве массы европейской, петербургской», об излишнем «пуританстве» славянофилов. В этом контексте личность Григорьева и его16 Боборыкин П.Д. А.А.Григорьев (Из воспоминаний о пишущей братии). С.587.
17 Леонтьев К.Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап.Григорьеве (письмо к Ник. Ник. Страхову) // ПСС: В 12 тт. T.6, книга 1, СПб, 2003. С.7взгляды («для себя лично он предпочитал ширину духа - его чистоте», «художественно-русская душа», «широкие критические взгляды», «прекрасное в книге прекрасно и в жизни») становятся иллюстрацией к общественно-эстетической позиции самого Леонтьева.
Он сожалеет об отсутствии биографии писателя, говорит о том, что ему интересна и анекдотическая, бытовая сторона жизни каждой настоящей индивидуальности. О несчастливой семейной жизни Григорьева, его неустроенности, «скитальчествах» мемуарист говорит только намеками, не повторяя избитых фраз о григорьевских загулах. Однако автор утверждает: «Смесь пороков и благородства, смешных привычек с поразительными силами чувств и ума — сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость»18.
Мемуары Леонтьева пытаются быть объективными, но и в самой этой попытке продолжают традицию восприятия современниками и кладут начало пониманию потомками Григорьева, чей «идеал», по их мнению, «неясен» для толпы, для «многих», но своей «широтой» воплощает поиски русского начала.
До 1917 года о Григорьеве писали в основном как о критике. Статья Н.Н.Страхова, являющаяся предисловием к 1-му тому «Сочинений Аполлона Григорьева», вышедшего в Петербурге в 1876 году (первая, правда, неудачная попытка издания критического наследия писателя) интересна тем, что в ней выражен взгляд на писателя его друга и коллеги последних лет жизни. Автор статьи говорит об известности имени Григорьева, но одновременно замечает, что значение его - для многих, даже для огромного большинства, совершенно темно. Это объясняется малой доступностью для читателей григорьевских произведений. Страхов пишет о необходимости издания собрания сочинений Григорьева.
Разбирая критическую деятельность своего учителя, Страхов заявляет: «И в мышлении и в действительной жизни искусство было для нашего критика18 Леонтьев K.H. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Страхову). С.20.
Ап.Григорьеве (письмо к Ник. Ник.исходною точкою и окончательною поверкою»19. Автор пишет о неизменностиидеала души человеческой для Григорьева, о любимом григорьевском понятии«цветная истина». Однако, излагая центральные идеи писателя, Страховдопускает некоторые натяжки. Так, он преувеличивает значение «смирноготипа» и недооценивает значение «тревожного начала» для Григорьева, которыйв последний период своей деятельности пришел к осознанию баланса междуэтими антиномиями. Страхов высоко оценивает григорьевскую критику,приводит важный для григорьевской библиографии список журналов, вкоторых публиковались статьи писателя.20Из предреволюционных изданий критики Григорьева нужно отметитьСобрание сочинений в 14 томах под редакцией В. Саводника (М., 1915-1916), вкотором критические тексты писателя были представлены достаточно полно,правда, редактор позволил себе их компилирование.
В 1916 году Александр Блок собрал и выпустил книгу стихов Григорьева,сопроводив издание собственным предисловием «Судьба Аполлона 01Григорьева». Эта статья нам интересна не только близостью к проблеме нашей работы (в ней автор исследует духовный путь писателя, связанный с его творчеством), но и личностью самого Блока - тоже «урожденного» поэта (если перефразировать Страхова). Описывая григорьевскую судьбу, Блок называет ее «необщей», за обстоятельствами биографии - «черты призвания», «бледное мерцание».
Как и многие позднейшие исследователи, Блок ключевым словом к григорьевскому творчеству называет «борьбу». «Борьба, борьба - твердит Григорьев во всех своих стихах, употребляя слово как символическое, придавая ему множество смыслов; в этой борьбе и надо искать ключа ко всем построениям Григорьева-мыслителя, который никогда не был дилетантствующим критиканом; то есть не «бичевал» никогда «темных19 Сочинения Григорьева Аполлона / Под ред. Н.Н.Страхова. СПб, 1876. C.II.
20 О критике Григорьева в предреволюционный период также писали Введенский А., Григорьев А.А., Гроссман Л., Долгов Н., Шах-Паронианц Л.М., Михайлов Д.
21 О лирическом наследии Григорьева также нужно отметить работы Жирмунского В., Княжнина В.А.царств», а боролся с ними; он понимал, что смысл слова «темное царство» глубок, а не поверхностен (смысл не бытовой, не гражданский только).«Темное царство» широко раскинулось в собственной душе Григорьева; борьбас темною силой была для него, как для всякого художника (не дилетанта), 22борьбою с самим собой». Понятно, что Блок проецирует на судьбу Григорьева собственную, сожалея о нем как о близком человеке, что слишком много «наносного» было в «блудном погодинском сыне». В отличие от современников, Блок не укоряет и не защищает, он искренне страдает вместе с Григорьевым - сопереживает его несчастливой любви к женщине, его несчастливой любви к «почве», к России.
Со всеми издержками символистского толкования, которое не вполне неуместно по отношению к Григорьеву («Человек, который, через любовь свою, слышал, хотя и смутно, далекий зов; который был действительно одолеваем бесами, который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и «замолкших»; тоска и восторги которого были связаны не с одною его маленькой, пьяной, человеческой душой, - этот человек мог бы обладать иной властию» ) Блок создает, на наш взгляд, такой образ Григорьева, который во многом совпадает с его лицом («задуман был Григорьев высоко»).
Блок первый оценил по достоинству стихи Григорьева, писал, что для нас важно, об их исповедальности, отмечал, конечно, «Цыганскую венгерку» и другие произведения из цикла «Борьба». Обилие цитат из писем Григорьева тоже свидетельствует о том, что Блок считает его писателем исповедальным. Поэт говорит о современности Григорьева, сравнивает его творчество с «Опавшими листьями» Розанова («Читайте хоть эти листья, полвека тому назад опавшие, пусть хоть в них прочтете о том же, о чем вам и сейчас говорят живые»24). Через полвека «ненужного человека», «последнего романтика» услышал еще один «романтик», «символист» (дело не в условных названиях). Блок чутче, чем современники Григорьева, прислушался к его словам. Описав22 Блок А.А. Судьба Аполлона Григорьева // Блок А.А. Собр.соч.: В 8 тт. М.; Л. 1960-1962. T.5, с.499-500.
23 Там же, с.513.
24 Там же, с.511.григорьевскую судьбу, он заметил: «Никакой «иконы», ни настоящей, русской, ни поддельной, «интеллигентской» не выходит». Назвав Григорьева «единственным мостом», перекинутым «к нам» от Грибоедова и Пушкина, Блок не просто вспомнил и «похлопал по плечу» «одинокого критика», он отнесся к нему как к близкому ему человеку, поэту.
Сетования Блока и современников Григорьева на отсутствие биографии писателя привели к изданию в 1917 году в Петербурге книги «А.А.Григорьев. Материалы для биографии» под редакцией В.А.Княжнина. В сборнике были опубликованы «Мои литературные и нравственные скитальчества», некоторые письма, самая ранняя из известных рукописей Григорьева - «Отрывки из летописи духа», документы разных архивов, сведения о роде Григорьевых, аттестат Григорьева, неизданные письма разных лиц, имеющие отношение к Григорьеву (например, Фета к Полонскому). Проделан опыт краткой хронологической канвы для биографии Григорьева, приведена краткая библиография дореволюционных текстов о Григорьеве.
В предисловии Княжнин объясняет отсутствие «самой биографии писателя» недостатком материалов - в частности, отсутствием писем Григорьева к Островскому. Издатель также благодарит Блока, с которым «в год страдный и памятный» они «вместе учились любить А.А.Григорьева, "нашего современника"»25. В статье «А.А.Григорьев и Л.Я.Визард» Княжнин описывает их историю любви, связывает биографические обстоятельства с творчеством поэта, отмечает «Цыганскую венгерку». Таким образом, Княжнин своей книгой сделал существенный вклад в изучение биографии Григорьева.
Следующим шагом в издании Григорьева и опубликовании биографических документов стала книга Ап.Григорьева «Воспоминания», изданная в 1930 году Р.В.Ивановым-Разумником. Кроме собственно текста «Моих литературных и нравственных скитальчеств», в книге были напечатаны25 Григорьев А.А. Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг, 1917. C.IX.воспоминания Фета, Страхова, Достоевского, Леонтьева, Боборыкина, Милюкова (см. выше).
В статье Иванова-Разумника «Ап.Григорьев (вместо послесловия)» автор проводит интересные для нас параллели творчества Григорьева с его биографией. Исследователь отмечает автобиографичность в особенности раннего творчества Григорьева: «Без преувеличения можно сказать, что вся литературная работа Ап.Григорьева в течение трех его петербургских лет заполнена только воспоминаниями, только биографическим материалом в прозе и стихах»26. Иванов-Разумник проводит биографические параллели ранней лирики и художественной прозы Григорьева с его любовью к Антонине Корш, исследуются эпизод, связанный с «крестовой сестрой» Григорьева Лизой, дружба писателя с Фетом. Автор пишет и об автобиографизме цикла «Борьба» (любовь к Визард), очерка «Великий трагик». Для нашей проблемы особую важность имеет следующее замечание Иванова-Разумника: «Писателя более автобиографичного, чем Аполлон Григорьев - быть может, нет во всей русской литературе»27.
В советское время творчество Аполлона Григорьева изучалось в разных аспектах. Как и в дореволюционные годы, много писалось о критическом наследии писателя. В книге Л.А.Гроссмана «Три современника: Тютчев -Достоевский - Аполлон Григорьев»28 «органическая критика» Григорьева впервые рассматривалась как особый эстетический метод. Проблема романтизма в критике писателя освещалась в работах Д.Л.Азизова «Теория романтизма в эстетике Ап.Григорьева». и М.Г.Годжаева «Проблема романтизма и реализма в эстетике Ап.Григорьева»30.
Особо следует отметить статью Б.Ф.Егорова в подготовленной им в 1967 году книге Аполлона Григорьева «Литературная критика». Эта книга была26 Иванов-Разумник Р.В. Ап.Григорьев (вместо послесловия) // Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.604.
27 Там же, с.609.
28 Гроссман Л.А. Три современника: Тютчев - Достоевский - Аполлон Григорьев. М., 1922.
29 Филологические науки, №5, 1975.
30 Ученые записки Азербайджанского пединститута языков 3, Баку, 1973. Также о Григорьеве-критике писали Гуральник У.А., Забозлаева Т.Б., Марчик А.П.первым наиболее полным советским изданием критического наследия писателя. Основным во вступительной статье Б.Ф.Егорова к этому сборнику является освещение вех творческого пути писателя. Важно такое замечание Егорова, когда он говорит о последнем этапе критика (60-е годы): «.не следует смешивать сознание Григорьева с революционно-демократическим. Значительно более четко, чем раньше, отделяя «народ» от «барства», пытаясь рассмотреть историю русской общественной мысли с точки зрения ее связи с народным мировоззрением, наконец оправдывая закономерность протеста, Григорьев тем не менее остается противником «чистого» отрицания, характерного якобы для всего «западничества», тем более - противником народной революции. «Протест» воспринимается как индивидуально-нравственный процесс, вне социального переворота»31. Замечательно тут отсутствие осуждающей интонации, принятой в советских исследованиях в случае, если предмет исследования не сочувствовал «революционным демократам».32Следует также отметить оригинальную, но спорную концепцию В.П.Ракова. В контексте нашей работы важно замечание Ракова о синкретичности творчества Григорьева, о необходимости при его описании воссоздания «самого главного - целостности его личности». «Совмещение в одном человеке нескольких дарований делало Ап.Григорьева такой творческой натурой, которая не поддается каким-либо односторонним определениям и характеристикам <.> Литературно-критические статьи Григорьева заряжены огромным философским и жизненным содержанием, а поэзия как творческий принцип пронизывает все элементы его теоретических построений»33.
Отталкиваясь от посылки о синкретизме метода Григорьева («все во всем»), Раков делает вывод о мифологическом мышлении писателя, которое31 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - литературный критик // Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С.35.
32 См. также статьи Б.Ф.Егорова: Ап.Григорьев // Русская литература и фольклор (2-я половина XIX в.). Л., 1982; Ап.Григорьев - критик // Ученые записки Тартуского государственного университета 98, 1960; Ап.Григорьев - критик // Ученые записки Тартуского государственного университета 104, 1961.
33Раков В.П. «Ап.Григорьев-литературный критик». Текст лекции. Иваново, 1980. С.3-4.подразумевает то, что творческий процесс понимается как всецело интуитивный, автор предстает как медиум, все предметы и объекты действительности одухотворяются, искусство «изоморфно» жизни. Отмечая «решающее значение» философии тождества для формирования эстетической доктрины Григорьева, исследователь приходит к крайним выводам об абсолютном тождестве для писателя таких понятий, как «жизнь» и «искусство», «прекрасное» и «нравственное».
Самым спорным, на наш взгляд, является заявление Ракова об отсутствии в эстетике Григорьева «художнической и человеческой индивидуальности творца художественных произведений». При сознании «типового» в искусстве и жизни Григорьев писал и о конкретных воплощениях «мировых веяний» в индивидуальностях Гоголя, Островского, Тургенева, Пушкина, Шекспира, Гете. Кроме философии тождества Шеллинга, Григорьеву были близки взгляды Карлейля на роль гениальной личности в мире. Для писателя индивидуальность не растворялась во всеобщем, а сохраняла свою «самость». Раков создает яркую, но, как уже сказано, весьма спорную концепцию эстетики Григорьева. Таким образом, заявляя о необходимости «синкретического подхода», исследователь несколько односторонне воспринимает григорьевскую «органичность».
Статья А.И.Журавлевой «"Органическая критика" Аполлона Григорьева» ставит своей целью «выявить причины своеобразной позиции Григорьева в движении русской эстетической мысли. и увидеть в деятельности Григорьева то, что заставляет нас и сегодня заинтересованно обращаться к его эстетическому наследию»34. Аполлона Григорьева автор статьи относит к критической традиции Белинского, стремящегося «охватить литературу как процесс, каждое частное явление искусства рассматривать как явление общего движения литературы»35.
34 Журавлева А.И. «Органическая критика» Аполлона Григорьева. С.8.
35 Там же, с.9.
Большое место занимает раскрытие сущности шеллингианства и гегелевской философии в умственной биографии Григорьева. Журавлева говорит о необычной для философской системы поэтичности шеллингианства, что привлекало Григорьева. «Не целостная система, - пишет исследователь, - а усвоение и использование некоторых важнейших идей и понятий шеллинговской философии, не всегда вполне точно совпадающих по смыслу с первоисточником, или же вступающих в другие связи, прилагаемых к иным/Гобстоятельствам, - вот что характерно для шеллингианства Григорьева». Григорьева волнуют идеи о месте искусства в универсуме, о соотношении искусства и морали, о двух типах познания (научном и интуитивном), об искусстве как высшей форме познания и воздействия на человека, о необходимости для художника нравственного идеала.«Одним из парадоксов органической критики Григорьева, - считает Журавлева, - было то, что, опираясь на романтическую философию Шеллинга, русский критик, был одним из ярких теоретиков, защитников и ценителей реалистического искусства»37. Парадокс, по оценке исследовательницы, -кажущийся, которому она дает объяснение: художественная реальность (какую призвано отражать искусство) русской культуры середины XIX в. - бурный рост реалистической литературы, становление реалистического театра - «двух важнейших для Григорьева сфер искусства» - ставили его, со всеми романтическими чертами его миросозерцания, перед необходимостью осмыслить и обосновать в органической критике «безусловное бытие» этих новых реалистических явлений. Журавлева также пишет, что для нас важно, о жанровой синкретичности григорьевской прозы: «не то исповедь, не то роман, не то критическая статья»38. Автор статьи анализирует необычный стиль Григорьева-критика и логически «оправдывает» его сложности, непонятности, множество отступлений, повторений, пристрастие к неожиданным терминам.
36 Журавлева А.И. «Органическая критика» Аполлона Григорьева. С. 17-18.
37 Там же, с.28.
38 Там же. с.7.
Итак, исследователь устанавливает баланс в григорьевских «противоречиях», что отвечает, как нам кажется, художественной системе писателя.
Из написанного в советский период о поэтическом наследии Григорьева необходимо отметить статью Н.Л.Степанова «Аполлон Григорьев»39 в книге, являющейся первым изданием поэзии писателя. Автор статьи писал об особенностях «романтической» позиции поэта, но, естественно, там присутствовали издержки, связанные со временем написания статьи.
Также нужно сказать о статье П.П.Громова «Аполлон Григорьев». Остановимся на некоторых моментах концепции Громова. Ядром этой концепции является утверждение, данное в самом начале статьи: «В общественно-литературной борьбе он <Григорьев - Е.Г.> пытался занять особенную позицию: «возвыситься» над разными борющимися лагерями, найти некое «среднее», «объединяющее крайности» положение»40. Этот взгляд интересен тем, что многие исследователи как раз обвиняли Григорьева в излишних крайностях, доходящих в жизни до разгула, а в критике, например, до острых противоречий. Громов григорьевских противоречий не снимает, но для него очевидно, что Григорьев пытался примирить свои противоречия, отказываясь от революционной ломки и настаивая на «самосовершенствовании» каждой личности.
Проанализировав все шедевры григорьевского творчества (цикл «Борьба» - как и все исследователи, Громов в нем выделяет «Цыганскую венгерку»; поэму «Вверх по Волге»), Громов делает вывод о том, что Григорьев обнаруживает «полную несостоятельность своей общей теоретической концепции, полную нереальность идей «третьего пути» в большой общественной борьбе эпохи»41. И далее: в поэме «Вверх по Волге» - «крах представлений о возможности изменения общественных отношений путем самовоспитания личности». Мы не будем спорить с естественным для советского исследователя выводом. Однако Громов признает, что в конце39 Григорьев А.А. «Избранные произведения. Л., 1959.
40 Громов П.П. Аполлон Григорьев // Григорьев А.А. Избранные произведения. Л., 1959. С.5.
41 Там же, с.71.концов поэт добился «единства поэзии и прозы, философии и жизненной реальности, психологии и быта»42. П.П.Громов также проводит ряд интересных параллелей (Григорьев и Лермонтов, Григорьев и Пушкин, Григорьев и Тютчев, Григорьев и Блок).
Содержательна статья Б.О.Костелянца - предисловие к книге Аполлона Григорьева «Стихотворения и поэмы»43. В статье исследователь прослеживает все три этапа творческого пути Григорьева. Костелянец справедливо указывает на центральную для Григорьева тему страдания и на превалирование частного над общим, вернее, на нерастворенность личного, индивидуального в общественном - всеобщей стихии.
Из работ советского периода о прозе Григорьева следует выделить статью В.В.Кудасовой «Проза Ап.Григорьева 40-х годов XIX века». Кудасова вписывает прозу в общий контекст творчества Григорьева. Исследовательница дает объяснение, что для нас важно, автобиографизму прозы писателя, указывая на то, что сам автор - тоже «личность типическая», «поэтому и она может стать объектом внимания автора, имеет право на художественную жизнь». И далее: «Отсюда особый характер автобиографизма Григорьева, в котором доминирующим является родственность духовная, а не близость житейских (биографических) деталей»44. Из этой очень важной и существенной посылки Кудасова делает вывод о прозе Григорьева как о своеобразном «ключе к расшифровке» лирики поэта. В самом деле, та автобиографическая и, если так можно выразиться, сущностно-духовная канва, данная в ранней прозе (неразделенная любовь к Антонине Корш), помогает глубже понять непосредственно стихи Григорьева этого периода.
Кудасова также отмечает тему двойничества и, как следствие, скитальчества, присутствующую в ранней прозе Григорьева и роднящую его с западноевропейской литературой (Гейне, Гофман) и русской (Гоголь,42 Громов П.П. Аполлон Григорьев. С.76.
43 Григорьев А.А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966.
44 Кудасова В.В. Проза Ап.Григорьева 40-х годов XIX века // XXIX Герценовские чтения. Литературоведение. Научные доклады. Л., 1977. С.30.
Достоевский). Вывод Кудасовой таков: «Верность жанру путевых заметок, дневников, так же как и герою-двойнику, Григорьев будет хранить до конца своего творческого пути - цикл «Одиссея о последнем романтике» («Venezia la bella», «Вверх по Волге», «Борьба», «Великий трагик»)»45. Таким образом, в выводе Кудасова устанавливает связь между ранним и поздним творчеством Григорьева, неразрывность которого - основная идея ее статьи.
Также нужно отметить книгу прозы Григорьева «Воспоминания»46, подготовленную Б.Ф.Егоровым. В этой книге были опубликованы «Мои литературные и нравственные скитальчества», ранняя романтическая проза -«Листки из рукописи скитающегося софиста», трилогия о Виталине, эссеистические очерки - «Гамлет на одном провинциальном театре», «Великий трагик» и др. В качестве биографического дополнения напечатаны письма Григорьева к отцу и М.П.Погодину, «Краткий послужной список на память моим старым и новым друзьям». В «Приложениях» опубликованы статья Егорова «Художественная проза Ап. Григорьева», статья Г.А.Федорова «Новые материалы о ранних годах жизни Ап. Григорьева», «Краткая летопись жизни Ап. Григорьева», составленная Егоровым.
В контексте нашего исследования статья Егорова о прозе Григорьева важна тем, что главным свойством григорьевской художественной прозы (по жанру и по сути) Егоров считает автобиографичность, которая объясняется воспитавшей его романтической эпохой гипертрофированного субъективизма и особым душевным складом Григорьева, его артистической, художественной натурой с неуемными страстями, с постоянными стремлениями к идеалам, с частыми сменами этих идеалов, что накладывало трагический отпечаток на все его творчество во все периоды. В данном плане последовательно анализируются григорьевские прозаические произведения с выявлением биографических фактов и объективно реальных событий, «веяний», «запаха и цвета эпохи». В завершение исследования Егоров делает вывод о своеобразных45 Кудасова В.В. Проза Ап.Григорьева 40-х годов XIX века, с.ЗЗ.
46 Григорьев А.А. Воспоминания. М., 1980.взаимосвязях между собою «трех краеугольных камней творчества Ап.Григорьева»: автобиографической прозы, критических статей и поэзии, и об их интересе для современного читателя и исследователя.
В контексте нашей проблемы необходимо отметить статью А.Латыниной «"Вечно декламирующая душа" (Аполлон Григорьев -творчество и судьба)». Латынина считает ключевым понятием жизни и творчества Григорьева слово «страсть». Она пишет о родстве григорьевской натуры с характерами Достоевского - причем не только с безудержным Митей Карамазовым (это стало общим местом в литературе о Григорьеве), но и с рефлексирующим Иваном Карамазовым. Латынина, - описывая перипетии григорьевской судьбы, пытается ответить на вопрос: «что кроется за буйством страстной натуры?» Автор статьи опровергает расхожее мнение о фанатизме Григорьева: «Он не был фанатиком убеждений - напротив, он, как никто, обладал даром сочувствия чужой мысли»47. Повторяя вслед за Григорьевым, что его время было временем «мыслей узких», Латынина, как и современники писателя, как и он сам, говорит о его невписанности в свою эпоху. Автор считает, что в писателе поражает «тонкость его критической интуиции и эрудиции, позволяющей каждое литературное явление включить в круг мировой литературы, и безошибочность художественного вкуса»48. Латынина пишет об автобиографизме творчества Григорьева, сожалеет «о том, что мы не имеем ни должной литературы, посвященной его творчеству, ни сколько-нибудь подробной биографии»49.
Подводя итог написанному о Григорьеве в дореволюционный и советский периоды, мы должны сказать, что в это время творчество и жизнь Григорьева рассматривались, в основном, изолированно. Отдельные замечания об «автобиографизме» поэзии, прозы и критики писателя не выстраивались в единую концепцию. Кроме того, попытка Ракова, например, найти47 Латынина А. «Вечно декламирующая душа» (Аполлон Григорьев - творчество и судьба) // Литературная учеба», №3, 1979. С.175.
48 Там же, с. 173.
49 Там же, с. 180.синтезирующее начало при анализе критики Григорьева, была оригинальна и интересна, но в целом, на наш взгляд, неудачна. Хотя, конечно, многостороннее рассмотрение творчества писателя и издания Григорьева (в частности, труд Блока, Княжнина, Иванова-Разумника, Егорова) стали основой для расцвета науки о Григорьеве и опубликования его текстов в постсоветский период.
Б.Ф.Егоров и А.Л.Осповат составили двухтомник Аполлона Григорьева, в первый том которого вошли лирика, поэмы, ранняя романтическая проза и очерк «Великий трагик», а во второй - критика и письма Погодину, Протопоповой, Страхову. Во вступительной статье «Аполлон Григорьев - поэт, прозаик, критик» Егоров отмечает синтетичность творчества Григорьева и его автобиографизм: «Проза и поэзия Григорьева своеобразно соотносятся с его критическими статьями: в критике Григорьев всегда тоже довольно субъективен и автобиографичен»50. Егоров отдельно останавливается на лирике Григорьева, положения этой статьи получат развитие в работе, посвященной исключительно поэзии Григорьева (см. далее).
Б.Ф.Егоров также подготовил издание поэзии Григорьева. Во вступительной статье составитель отмечает синтетичность творчества Григорьева - «спаянность» поэзии с художественной прозой, автобиографичность его лирики. «Григорьев с его романтическим мироощущением был очень субъективен в своей лирике: герой всегда является у него alter ego, вторым «я» автора»51. Однако Егоров замечает, что «объективно григорьевский лирический герой. перерастает автобиографизм,ел становится художественно обобщенным персонажем». Таким образом, исследователь отмечает две тенденции григорьевского творчества -исповедальность, автобиографизм и в то же время стремление к объективности. В этой статье Егоров подробно разбирает цикл «Борьба», выделяя в нем, как и многие исследователи, «Цыганскую венгерку», анализирует ритмическую организацию текста, фольклорные и цыганские мотивы. В статье дается50 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т.1, с.6.
51 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - поэт// Григорьев А.А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб, 2001. СЛ.
52 Там же.характеристика Григорьева-человека и Григорьева-литератора: «Григорьев был противоречивым человеком и писателем, по природе своей парадоксальным, хаотичным, в быту невероятно безответственным и беспорядочным. Но заветные, глубинные убеждения и идеалы держались у него неколебимо, удивительно для такого характера прочно»53.
Необходимо отметить важное издание григорьевских писем, подготовленное Р.Виттакером и Б.Ф.Егоровым. Эта книга - первое полное собрание сохранившихся писем писателя, который не обладал аккуратностью своего наставника Погодина и не оставил архива. Большая часть писем адресована как раз Погодину, что объясняется именно наличием его архива. Также много писем Н.Н.Страхову, Е.С.Протопоповой, различным издателям и литераторам (среди них - Фет, Боткин, Тургенев, Дружинин).
В Приложении опубликована статья составителей «Жизнь Григорьева в письмах», которая начинается следующим замечанием: «У Аполлона Григорьева три биографии: жизнь Григорьева-поэта (частично и жизнь прозаика) отличается от жизни Григорьева-критика, а жизнь Григорьева в его письмах во многом отличается от поэтической и критической»54. Несмотря на проведенное различие творческих ипостасей Григорьева, далее авторы статьи пишут о непосредственной связи критики писателя и его писем, о влиянии эпистолярного жанра на критический («. некоторые крупные статьи Григорьева, в которых он проводил принципы своей «органической критики», можно считать частью его эпистолярного наследия: такова, например, основательная статья о Тургеневе и «Дворянском гнезде», которая написана в виде писем к Кушелеву-Безбородко»55).
Статья Виттакера и Егорова состоит из нескольких частей. Первая описывает обстоятельства биографии Григорьева, в качестве комментария привлечены некоторые письма. В начале статьи отмечается связь писем и мемуарной прозы: «Хотя в письмах Григорьева не представлены его детство и53 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев - поэт. С.45.
54 Виттакер Р., Егоров Б.Ф. Жизнь Григорьева в письмах // Григорьев А.А. Письма. М., 1999. С.293.
55 Там же, с.301.студенческие годы, но как раз об этих начальных шагах своей интеллектуальной жизни он рассказал в воспоминаниях, озаглавленных «Мои литературные и нравственные скитальчества». Письма Григорьева служат как бы продолжением этой богатой хроники 20-х и 30-х годов»56.
Одна из частей статьи посвящена взглядам Григорьева, его отношению к вопросам личности, национальной самобытности, русского характера, европейской цивилизации, западничества и славянофильства, искусства. Справедливо замечание авторов статьи: «Григорьевские чувства и впечатления часто настолько запутаны или односторонни, что их можно понять лишь в соединении всех высказываний на данную тему.»57.
В статье на основе писем рисуется психологический портрет Григорьева, который отчасти совпадает с характеристиками современников: «последний романтик», безалаберный в быту, берущий долги без отдачи, наклонный к хандре и «безобразию» (запоям), нетвердый, хаотичный, «женственный», но при этом и с «элементами деспотизма».
Исследователями отмечается важная роль писем в сообщении о замысле «двух интересных книг». Эти книги писались в Италии, но не сохранились. Говоря о жанровых и стилевых особенностях писем Григорьева, Виттакер и Егоров отмечают их эволюцию: «Григорьев начинал свою эпистолярную деятельность еще в русле классических канонов, примешивая стандарты сентиментально-романтического дружеского письма <.> Затем Григорьев будет освобождаться от этикетных оболочек и некоторой романтической рисовки, его письма на протяжении 40-х гг. прямо на наших глазах становятся более простыми и искренними»58. Таким образом, в статье письма Григорьева обрисовываются как законная и важная часть его наследия, а не только как биографический комментарий. Такой взгляд на письма писателя мы разделяем в нашей работе.
56 Виттакер Р., Егоров Б.Ф. Жизнь Григорьева в письмах. С.293.
57 Там же, с.308.
58 Там же, с.318.
О критике Григорьева в постсоветский период необходимо отметить монографию В.Д.Глебова «Аполлон Григорьев: концепция историко-литературного процесса 1830-1860-х годов»59. В основе историко-литературной концепции Григорьева лежит, по мнению исследователя, идея литературной эволюции. Глебов анализирует центральные понятия григорьевской эстетики -типы и типическое, веяние. Поскольку «у основания каждого литературного направления», по мнению Григорьева, «всегда стоят гениальные художники слова», Глебов рассматривает подход критика к лермонтовскому и гоголевскому направлениям, разбирает его отношение к творчеству Достоевского, Тургенева, Пушкина, Писемского, Гончарова. Вместе с достоинствами григорьевской эстетики (выработка единого критерия «истины» для оценки литературного процесса, интересные ассоциации и параллели) Глебов видит и недостатки. Ошибочным исследователю представляется то, что Григорьев не учитывает ряда социальных аспектов в реализме, никогда не анализирует язык и стиль художественного произведения (это, кстати, неверно).
Работа Глебова представляется ценной в первую очередь тем, что это одна из попыток (мы писали о статьях Б.Ф.Егорова, В.П.Ракова, А.И.Журавлевой) обобщения эстетических взглядов Григорьева в двух планах: теоретическом и историческом.
В плане философском и культурологическом наследие Григорьева анализирует Л.Р.Авдеева в книге «Русские мыслители: Ап.А.Григорьев, Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов. Философская культорология 2-й половины XIX века». Интересна работа Авдеевой попыткой вписать Григорьева-мыслителя в философский контекст его эпохи. Исследователь подробно разбирает отношение Григорьева к идеям национальной самобытности России, его концепциях личности, нравственности, религии, философии истории и культуры, проблеме «правды и искренности в искусстве». Отмечая, что59 Глебов В.Д. Аполлон Григорьев: концепция историко-литературного процесса 1830-1860-х годов. M., 1996.«Григорьев не ставил перед собой задачи создания собственной философской системы», «пестроту», «многообразность», «противоречивость» его воззрений, Авдеева, тем не менее, обобщает взгляды Григорьева на бытие человека. «Всепроникающая мысль Григорьева - найти то единое начало или совокупность начал, определяющее воздействие которых обнаруживается в искусстве, истории, обстоятельствах жизни отдельной личности, - в различные периоды его жизни облекается в разные формы, соответствующие эволюционирующим попыткам Григорьева, но обнаруживая остающееся неизменным единство замысла - истолковать явления общественного сознания в единстве с породившими их более широкими культурно-историческими, национально-географическими и другими реалиями»60. Таким образом, Авдеева «примиряет» «противоречия» Григорьева, когда говорит о многообразных оболочках единства его взглядов, что, на наш взгляд, отвечает григорьевскому стремлению к гармонии, которое воплотилось и в его художественном творчестве. Называя писателя религиозным мыслителем, Авдеева указывает на его отторжение от «официального православия», на стремление мыслителя избежать любой «застывшей окаменелости», «китайского застоя». Исследователь отмечает предвосхищение Григорьевым идей Д.И.Писарева в рассуждениях о единстве мысли и жизни, «ведь бытие на самом деле - и в потенциях, и в проявлениях своих - обуславливает сферу духовного и, с другой стороны, постоянно обнаруживает несоответствие рационалистическим выкладкам человеческого разума, «изумляя» его»61.
Григорьев в работе Авдеевой вполне соответствует его самооценке — не консерватор, но опирающийся на традицию, не славянофил, но рассуждающий о самобытности России, не западник, но внимательно изучающий «веяния» западного искусства и философии. Таким образом, монографии и В.Д.Глебова, и Л.Р.Авдеевой являются свидетельством попытки обобщения эстетико60 Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап.А.Григорьев, Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов. Философская культорология 2-й половины XIX века. М., 1992. С.9.
61 Там же, с.15.философской системы Григорьева, что говорит о возросшем интересе к мыслителю в последнее время.
Прозе Григорьева посвящено исследование О.А.Ковалева «Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-х годов XIX века». Ковалев подходит к прозе Григорьева комплексно. В 1-й главе «"Один из русских гамлетов": Аполлон Григорьев и его эпоха» писатель ставится в контекст литературы 1840-60-х годов, проводятся параллели эстетики Григорьева со взглядами М.П.Погодина, С.П.Шевырева, с философией Гегеля и Ш.Фурье. Охват материала - от ранней художественной прозы до поздних статей. Вторая глава («Поэтика прозы Аполлона Григорьева») сосредоточена на собственно художественных принципах как ранней, так и поздней прозы Григорьева. Для нас важно то, что исследователь исходит из посылки автобиографизма, исповедальности прозы Григорьева, каковую считает «любопытным эстетическим феноменом». «В литературе о Григорьеве устоялось представление о прозе как о «замаскированных исповедях». Но будучи построенной во многом по законам современной беллетристики, его проза 40-х гг. представляет собой любопытный эстетический феномен, который мог возникнуть только в контексте необычной и в то же время характерной для своего времени литературно-эстетический позиции Григорьева. Именно проза в максимальной степени стремится выйти за пределы художественного творчества, законов искусства, являясь, в первую очередь, фактом и частью жизнетворчества Григорьева»62. Подобное отношение к автобиографической прозе писателя, как нам кажется, близко к нашему выявлению ключевого понятия для всего творчества художника — «автобиографический герой Аполлона Григорьева», которое также выходит за рамки собственно «законов искусства» и занимает пограничное положенйе между реальностью художественной и биографической.
62 Ковалев О.А. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-х годов XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 1996. С.5.
Следует сказать об одной из основных посылок Ковалева: «В данной работе не творчество рассматривается как материал для анализа личности, а наоборот, особенности личности используются как важный интерпретирующий контекст для творчества»63. Эта посылка обусловлена тем, что исследователь вслед за многими учеными и критиками считает, что «личность Ап.Григорьева интереснее, ярче, сложнее, чем его проза и даже лирика». Как раз этого взгляда мы не разделяем и в нашей работе исходим из превалирующего значения творчества при описании его взаимодействия с биографией художника.
Интересно, как Ковалев конкретно анализирует раннюю романтическую прозу Григорьева, выявляя идею ее зеркальности, осознавая героя Григорьева как «инобытие авторского духа» - на этом основывается, по мнению исследователя, принцип двойничества. Любопытно сопоставление образа «ненужного человека» из поздней эссеистики Григорьева с образом «подпольного человека» Достоевского. Мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества» рассматриваются в контексте произведений А.И.Герцена, С.Т.Аксакова, Л.Н.Толстого. «Жизнетворчество» Григорьева понимается как романтическое построение жизни по литературным законам. Заслуживает внимания утверждение автора работы о непосредственном слиянии мысли Григорьева и его поступков, «персонификации диалектики», претворении романтического миросозерцания в жизнь. Таким образом, работа О.А.Ковалева является одной из важнейших в контексте нашей проблемы.
В постсоветский период, словно в ответ на многочисленные сетования современников и потомков Григорьева, вышли три монографии, посвященные его жизни и творчеству. Первая из них - книга С.Н.Носова «Аполлон Григорьев. Судьба и творчество». Труд Носова - первая попытка охарактеризовать личность писателя в единстве его биографии и творчества. Книга Носова построена хронологически. В ней последовательно отражены этапы пути Григорьева. Концепция личности критика-прозаика-поэта близка63 Ковалев О.А. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-х годов XIX века. С.5.тому, как воспринимали Григорьева и современники, и потомки. «Неприкаянный странник, человек необузданных страстей, проживший жизнь широко и вольно, бездомно и далеко не безгрешно, Аполлон Григорьев давно уже стал в русской культуре символом национально-исторического романтизма, реальным воплощением легендарной широты «русской натуры», своего рода пророком национальной самобытности, чьи отверженность и скитальчество превратились в поэтический ореол»64.
Для исследователя личность и творчество Григорьева сливаются воедино. По мнению Носова, «поведенческая модель» писателя была не менее ценной, чем его критика, лирика и проза. Григорьев, по Носову, - «личность нового типа, противоречивейшая и изменчивая, имеющая в себе немало родственного с французскими «проклятыми поэтами», личность, как бы сорвавшаяся с традиционной бытовой колеи, отвергающая ценности сословно-иерархического общества, бунтующая против статичного мира вокруг, мира, в котором она действительно «мятежная комета», провозвестница будущих потрясений»65. Соответственно Носов считает, что творчество Григорьева значительно только тогда, когда отражает его человеческое «я». Это, по мнению исследователя, писателю удавалось не всегда. Отмечая автобиографизм его лирики, прозы и критики, Носов в то же время говорит о том, что Григорьеву в целом не удалось создание «новых форм» литературного творчества, а в традиционных ему было тесно. Носов выделяет григорьевские письма, которые по своей исповедальности напоминают прозу «потока сознания». Григорьев сознательно творил «легенду» своей жизни - жизни бунтаря, трагического индивидуалиста, для мифотворческого сознания которого жизнь и литература, идеальная и реальная действительность сливались воедино. Таким образом, в спорной во многом концепции С.Н.Носова (Григорьев, на наш взгляд, не был ни законченным индивидуалистом, ни тем более бунтарем-анархистом - это мы64 Носов C.H. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М., 1990. С.З.
65 Там же, с.120-121.будем доказывать в работе) есть рациональное зерно - слитность творчества и личности, биографии, «судьбы» Аполлона Григорьева.
Книга Р.Виттакера «Аполлон Григорьев — последний русский романтик» уже своим названием обнажает концепцию исследователя. Во введении Виттакер замечает: «Вся биография Григорьева являет собой последовательный ряд откликов на непосредственно возникающие специфические ситуации, под которыми, как правило, лежат фундаментальные философские и эстетические убеждения. Перед его биографом стоит нелегкая задача - осветить эти неизменные убеждения, объяснив их в меняющемся историческом контексте»66. В исследовании биография и творчество Григорьева раскрываются на фоне социокультурной жизни России середины 19 века. Путь Григорьева осознается как самим им сформулированная метафора - «одиссея последнего романтика». Как и для предшественников, для Виттакера Григорьев - прежде всего носитель романтического миросозерцания в ту эпоху, когда на смену романтизму и идеализму пришли реализм и позитивизм. Виттакер освещает сложную идейно-эстетическую борьбу того времени - славянофилы и западники, гегельянство и шеллингианство, революционеры-демократы и почвенники. Место Григорьева в этой борьбе - место «бунтаря-одиночки», который «вел войну сам по себе -политическую в 40-х, социальную в 50-х, интеллектуальную в 60-х».
Основной интерес для Виттакера представляют критика и поэзия Григорьева, подробно также разбираются мемуары «Мои литературные и нравственные скитальчества». Ученый называет Григорьева «самым значительным в России критиком-поэтом». Понимание писателем литературного процесса Виттакер характеризует как «дуалистический взгляд на национальное наследие как сочетание противоположных сил»68. Виттакер также ставит себе задачу развеять «миф о Григорьеве», каковой рассматривается на протяжении всей работы. Итог таков: «Григорьев стал символом того, чего на самом деле не был. Однако любители делать из него66 Виттакер Р. Аполлон Григорьев - последний русский романтик. М., 2000. С.8.
67 Там же.
68 Там же, с.427.пример особого русского типа мало что обнаружат в его произведениях для подтверждения этого образа. Куда больше соответствует действительности образ, созданный самим Григорьевым, - последний романтик»69.
Виттакер подробно анализирует взаимоотношения Григорьева с Тургеневым, Достоевским, Страховым, восприятие критика-поэта современниками и потомками. По мнению исследователя, Григорьев является одной из ключевых фигур историко-литературного процесса 19 века. Для нашей работы имеет большое значение связь, установленная ученым, между личностью Григорьева и его творчеством, которое вписано в философский и культурный контекст эпохи.
Книга Б.Ф.Егорова «Аполлон Григорьев» - итог сорокалетнего труда ученого над творчеством писателя. В монографии подробно освещена биография Григорьева, рассматриваются основные этапы его творчества. Концепция личности и деятельности Григорьева у Егорова в целом близки подходам предшественников. Григорьев в книге Егорова - страстный, ищущий человек, «эксцентричный», подверженный перепадам настроения, хандре. Но оценка творчества художника у Егорова высока. В чем-то осуждая его «бытовую распущенность» и необязательность, ученый так пишет о его цикле «Борьба»: «Цикл демонстрирует не только борьбу, но и тесное сплетение традиционной троицы - веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит. В этом отношении цикл «Борьба» может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находящегося в постоянном борении между идеалом и грешными земными чувствами и делами»70.
Егоров, в отличие от многих исследователей, именно творчество Григорьева считает точкой отсчета. Отмечая его автобиографизм, ученый не подменяет значение критики, лирики и прозы художника «яркостью личности»,69 Виттакер Р. Аполлон Григорьев - последний русский романтик. САП.
70 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000. С. 135.как это делали О.А.Ковалев и отчасти С.Н.Носов. Правда, личность Григорьева важна для исследователя: «Как он мужественно и бескомпромиссно плыл «против течения», утверждая дорогие ему идеи! Как он смело развивал новаторские принципы в художественном методе и в литературно-критических анализах - и так же смело боролся за верность традиционализму! Как не боялся быть трагически одиноким в своем новаторстве и в своем консерватизме.»71 Для нашей работы монография Б.Ф.Егорова ценна комплексным подходом к72личности и творчеству Григорьева, нахождением «вектора» в их спаянности.
Три в чем-то разных, а в чем-то похожих монографии, посвященные жизни и творчеству Аполлона Григорьева, вышедшие в постсоветский период, являются ответом на назревшую необходимость комплексного исследования биографии и творческого наследия писателя. Той же необходимостью обусловлена и статья А.И.Журавлевой и В.Н.Некрасова «Григорьев и русская литература», написанная в 1990 году. Эта статья - разрешение основных вопросов, связанных с личностью и творчеством Григорьева, поэтому ее изложение замыкает нашу историю вопроса. Деятельность художника тут вписана в литературный контекст - от «золотого века» русской поэзии до наших дней — искусства концептуализма. И Григорьев видится фигурой ключевой, своим творчеством, всей своей жизнью ответившей на больные и актуальные проблемы русского литературного процесса.
Пресловутые «крайности» и «противоречия» автора уже стали, по мнению авторов статьи, «общей схемой - обветшалой и окостенелой». «. подходя к Григорьеву с такими убеждениями. мы неизбежно должны будем отнестись к его творчеству, его позиции как к чему-то несостоятельному. Наше прочтение будет не больше чем любопытство, исследование -исследованием некоей патологии "метаний"»73. Говоря о том, что «смятенность - совсем необязательно растерянность, несостоятельность», авторы статьи,71 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.214.
72 Подробнее о книге Егорова см. Гродская Е.Е. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев // Реферативный журнал, серия 7 Литературоведение, 2002-1. М., 2002.
73 Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Григорьев и русская литература //Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Пакет. М., 1996. С.139.отталкиваясь от григорьевского понятия «почва», называют «действительной почвой» для Григорьева «факт искусства»74. Писатель «испробовал на зуб все, что только возможно», и был искренне предан искусству, литературе, осознавал литературный процесс как критик и непосредственно участвовал в нем как поэт.
Драмой русской литературы авторы статьи называют драму литературоцентризма, когда писатель был не просто литератором, а Учителем, Пророком, а литература становилась не делом, а служением. Этой болезнью переболели и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, и Блок. Тут роль Григорьева представляется ключевой. Антиномии «факт-схема», «поэзия-литература», в которые Журавлева и Некрасов помещают Григорьева (тут, по их мнению, существо григорьевских «борений») отвечают на многие проблемы - и на пророческие потуги русских писателей, и на «стихопатию» Серебряного века (как реакцию на поэтический провал конца 19 века), и на блоковский призыв «Слушайте музыку Революции!», когда в стране лилась кровь. «Поэзия, пытающаяся. подчинить себе, подмять жизнь, «все в жизни», перестает быть поэзией, самоуничтожается. Есть, всегда есть что-то кроме искусства и больше искусства. Искусство, если думает оставаться искусством, должно не подчиняться этому «чему-то», не пытаться подчинять себе «все», не отгораживаться, а вбирать, включать, осваивать все время какие-то участки неискусства - обязано быть открыто, а не герметизировано». Григорьев как раз и настаивал на неподвластности искусства никаким теориям, на самобытности его, и в то же время ему был чужд эстетизм, «искусство для искусства». Это - в критике.
А в поэзии - Григорьев - автор «Цыганской венгерки», которую выделяют все исследователи григорьевской лирики и в которой, по мнению Журавлевой и Некрасова, «подобной остроты интимное переживание, возглас, напев такой открытой пронзительности до Григорьева если и был у кого, так74 Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Григорьев и русская литература. С.140.
75 Там же, с. 146.
7 f\только у Лермонтова. И после Григорьева будет нескоро». В «Цыганской венгерке» Григорьев перекликается с Маяковским, Окуджавой, русской песенной традицией, а созданием «текста-сценария, театра, действия» предвосхищает открытия московского концептуализма.
Пронизанность всего написанного Григорьевым «биографическим единством личности», отражение критики в поэзии и прозе, а поэзии в критике, растворенность писателя в литературной жизни всем своим существом позволило автору стать, «безусловно, положительным героем» в русском историко-литературном процессе.
Таким образом, работы постсоветского периода позволяют говорить о необходимости комплексного подхода к биографии и творчеству Аполлона Григорьева. За время изучения творчества и жизни писателя учеными была проделана большая работа. Однако исследование, посвященное исключительно григорьевскому автобиографизму, в науке отсутствует. В этом, на наш взгляд, новизна настоящей работы. Цель нашего исследования - проанализировать автобиографичность григорьевского творчества, выявить специфику понятия «автобиографический герой Аполлона Григорьева», рассмотреть воплощение этого понятия в прозе, поэзии, критике, письмах писателя, вписать героя Григорьева в историко-литературный контекст эпохи.
Эта цель осуществляется путем решения следующих задач:1. проанализировать особенности автобиографизма раннего творчества Григорьева, делая акцент на его прозе, которая понимается нами как пограничный жанр между собственно художественным текстом и биографическим документом;2. сравнить автобиографического героя Григорьева с героями Достоевского, Островского, Тургенева, поместив исследуемого автора в литературный контекст эпохи;76 Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Григорьев и русская литература. С. 158.
3. понять своеобразие позднего творчества Григорьева, показав центральное место его мемуарной прозы и поэм и их связь с личностью автора;4. проследить становление григорьевского героя, выявив закономерности творческого процесса писателя.
Постановкой задач обусловлена структура работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
ПЕРВАЯ ГЛАВААВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ РАННЕГО ТВОРЧЕСТВА АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВАРанний Григорьев - проблема, отчасти изученная в науке. В монографиях Р.Виттакера и Б.Ф.Егорова творчеству Григорьева 40-х годов посвящено несколько глав1. Однако наиболее детальным представляется исследование В.В.Кудасовой о романтической прозе Григорьева. Кудасова понимает романтическую прозу писателя как «персонификацию авторского сознания прилособенном способе его зашифровки - двойничестве». О двойничестве как отличительной черте григорьевского героя пишут и Егоров, и Виттакер3.
В контексте нашего исследования дуализм автобиографического героя Григорьева интересен, прежде всего, не только в его романтическом качестве гофмановского, например, героя-двойника, когда двоемирие основывается на антитезе доброго и злого, святого и профанного и где герой либо гибнет под воздействием темных сил, как в «Песочном человеке», либо берет верх над этими силами, как в «Золотом горшке». Иными словами, нас интересует не только бинарная оппозиция - герой-злодей как антиномия положительного героя, но нам также важно и некое взаимное преломление противоположных начал, заложенных в едином автобиографическом герое Григорьева.
Наиболее выпукло дуализм героя Григорьева проявляется в его романтической прозе. Сами названия повестей - «Один из многих», «Другой из многих» - наводят на мысль о противопоставлении героя-одиночки толпе, как это было принято у романтиков. Быть не таким, как все, избежать общей «пошлой участи» чиновника было и стремлением самого Григорьева. Нам кажется, что не только «домашняя догма», неразделенная любовь к Антонине Корш и запутанность денежных обстоятельств вынудили Григорьева бежать из Москвы в Петербург. Он писал в 1845году в письме М.П.Погодину из Петербурга: «Я оставил службу, потому что я не могу служить, потому что1 См. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000. С.50-78 и Виттакер Р. Аполлон Григорьев - последний русский романтик. М., 2000. С.70-89.
Кудасова В.В. Проза Ап. Григорьева 40-хгодов XIX века // XXIX Герценовские чтения. Литературоведение. Научные доклады. Л., 1977. С.31.
3 О двойничестве в ранней прозе Григорьева см. также Ковалев О.А. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-х годов XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 1996. С.11-13.служба убивает, потому что, наконец, я чувствую в себе силы делать на свете что-нибудь лучшее, чем вести настольные реестры. Кто сознает в себе Бога, т.е. человека, тому стыдно губить полдня на машинную деятельность, особенно если он не пылает возвышенною страстию к разным степеням Владимиров, Анн и Станиславов. Предоставляю это другим верным слугам4отечества».
Обвинения Б.Ф.Егорова, адресованные Григорьеву, в небрежности, безответственности5 не совсем правомерны, как нам кажется. В том же письме Погодину Григорьев пишет, что он «в Петербурге не развратничает, а добывает свой хлеб трудом, часто горьким и почти всегда неблагодарным»6. Григорьев сознательно предпочел так называемую жизнь свободного художника жизни чиновника. «Не служит, то есть в том он пользы не находит», - вспоминаются слова Фамусова о Чацком. В этом смысле служащие Севский и Чабрин - герои повестей Григорьева - связаны с Григорьевым допетербургского периода. Севский еще подчинен «домашней догме», выслушивает наставления «маменьки», должен возвращаться домой к определенному часу. Чабрин, как Григорьев петербургского периода, уже живет самостоятельно, но также ведет благонамеренную жизнь служащего.
Отражение Чабрина, его обывательской стороны - столоначальник Ипполит Орнаментов, для которого предел мечтаний - выгодная женитьба и круглый капитал. Характерно, что и Чабрин, и Орнаментов служат в одном департаменте и хотят жениться на одной и той же девушке. Повести Григорьева строятся на взаимных отражениях одного в других, другого во многих, если перефразировать заглавия повестей. О.А.Ковалев пишет: «Для поэтики Григорьева ключевыми являются идея другого человека как зеркала и идея призрачной жизни. Отразить в себе самого себя - значит выйти, по Григорьеву, за пределы самого себя. Герой Григорьева осознается как4 Григорьев А.А. Письма. М., 1999. С.13.
5 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.37.
6 Григорьев А.А. Письма. С.13.инобытие авторского духа. Эта модель эстетического творения реализована и в пределах самой прозы: персонаж может, создавая другого, смотреться в него, как в зеркало»7. Таким образом, назовем принцип построения характеров принципом взаимного отражения. Этот прием использовал Лермонтов в «Герое нашего времени». Правда, у Лермонтова «система зеркал» располагается вокруг главного героя.
У Григорьева несколько иначе. В центре повествования у него не один герой, а два (пары Званинцев - Севский, Имеретинов - Чабрин). Прообразом этих пар является Виталии из трилогии «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина». Образ Виталина -зерно, из которого вырастут парные герои двух последующих повестей.
Арсений Виталии - герой явно автобиографический. Нам кажется, что само имя Арсений («ars» - по-латыни «искусство») ассоциируется с именем Аполлон (как известно, греческий бог, покровитель искусств). А говорящая фамилия Виталии («vita» - «жизнь») отличается от классицистических фамилий Правдиных и Стародумов только латинским корнем. Григорьев неоднократно говорил о том, что верит только в жизнь, в ее могучие веяния.
Арсений Виталии ведет рассеянную жизнь светского литератора. Это типичный романтический герой. Его описание в III главе повести отчасти повторяет описание и Онегина, и Печорина: «На таких личностях лежит печать постоянного разочарования.», Виталину свойственно «состояние вечногооотрицания и тягостной, мучительной апатии». «Рано чувства в нем остыли», — говорит Пушкин об Онегине, а «господа печоринской школы» наводнили литературу 40-х годов (например, «Тамарин» Авдеева). Позже Григорьев осудит печоринство9. Но в 1842 году в первом из сохранившихся писем Григорьева, адресованном другу писателя, будущему историку С.М.Соловьеву, он пишет об одном их общем приятеле: «Потерявши все7 Ковалев О.А. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-х годов XIX века. С. 12.
8 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. M., 1990. T.l. С.260.
9 О печоринстве как социокультурном явлении см. Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. M., 2002. С.213-226.IРОССИЙСКАЯбиблиотекагрешное терпение с его неистовствами, я наконец прямо написал к нему, что он де не ребенок, что пора де ему оставить печоринствовать»10.
Но в этом же письме Григорьев заявляет: «Мне грустно без тебя, брат мой, - одинок, решительно одинок стою я с моими воззрениями на жизнь, с моими мечтаниями и верованиями, с моими вечными страданиями, закрытый от всех, решительно от всех. Я нашел даже особенное наслаждение в том, чтобы как можно более казаться не тем, что я в самом деле». Упрекая другого в печоринстве, Григорьев тут же начинает печоринствовать сам. Молодое, неокрепшее сознание еще не в состоянии провести четкую грань между собой и другими, между собой и миром, наконец, юноша Григорьев еще с трудом может разобраться в самом себе.
По нашему мнению, раннее творчество Григорьева (и в первую очередь, романтическая проза) - это попытка самоопределения писателя в мире. Происходит это самоопределение путем создания синтетического явления автобиографического героя, который вбирает в себя и взаимные отражениягероев друг в друге в прозе, героя поэм и «я» в лирике и письмах.***В трилогии о Виталине автобиграфизм главного героя лежит на поверхности. Название одной из глав первой части - «Записки софиста» прямо отсылает к «Листкам из рукописи скитающегося софиста» - литературно оформленному дневнику самого Григорьева. Во второй части трилогии, в «Моем знакомстве с Виталиным», глава, названная «Записки Виталина», текстуально совпадает с «Листками». Антония - это, конечно, Антонина Корш, в которую Григорьев был влюблен, семейство Старских - это семейство Коршей, Валдайский - это Кавелин - счастливый соперник Григорьева11.
При описании своей застенчивости в общении с Ниной Григорьев пишет в «Листках»: «. но зачем мне всегда жужжат в ушах проклятые слова Гоголя:10 Григорьев А.А. Письма. С.6.
11 Впервые на эти соответствия указал Иванов-Разумник. См. Иванов-Разумник Р.В. Аполлон Григорьев (вместо послесловия) //Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.607.«. или заговорит, что Россия - государство пространное»12. И сравним с «Записками Виталина»: «Вот видите ли, - сказал я ей, - мне очень много вредит одно место «Мертвых душ», которое я слишком твердо запомнил: «. или заговорит, что Россия государство пространное.»13. Эта деталь выразительна. Отношение Чичикова (а именно о нем так говорит Гоголь) к хорошенькой блондинке, его неумение, несмотря на обычную, свойственную герою обходительность, светски обращаться с дамами, Григорьев переносит на своего автобиографического героя, этой деталью подтверждая свои рассуждения в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» о книжной, отвлеченной юности, об истощении сил в борьбе с призраками.
Причем характерно то, что если «я» «Листков из рукописи скитающегося софиста» - это персонификация личности самого Григорьева, то в трилогии о Виталине рассказ о несложившихся отношениях с Корш отдан герою. А во второй части трилогии о Виталине есть «я» повествователя, и прием описания героя через призму авторского зрения опять отсылает нас к «Евгению Онегину» («С ним подружился я в то время.») и «Герою нашего времени», где в руки повествователя попадает журнал Печорина.
По верному наблюдению О.Г.Егорова, «эстетическое в дневнике не является конечной целью творческого акта. Оно - сопутствующий продукт неэстетических импульсов»14. Значит, «Записки Виталина» можно назвать «эстетическим дневником». Жанр «эстетического дневника» яснее обозначает специфику явления автобиографического героя Григорьева. Это ни в коем случае не личность самого автора, как «Листки» и «Записки Виталина» - не обычный дневник.
Автобиографический герой Григорьева - это эстетическое явление, связанное своей сущностью с личностью самого Григорьева, но не12 Григорьев А.А. Воспоминания. M., 1988. С.86.
13 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.289.
14 Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. Исследование. М., 2003. С.16.дублирующая его создателя. Иными словами - нам уже не суждено узнать, каков был писатель Аполлон Григорьев (любые воспоминания не могут быть полностью объективными). Но созданный им автобиографический герой - это, образно говоря, эстетический слепок души его автора, помогающий (пусть и не в полной мере!) понять уникальную личность Григорьева через призму его творчества.
В стихотворениях Григорьева раннего периода неразделенная любовь к Антонине Корш преломляется через лирическую ипостась его героя. В двух стихотворениях, озаглавленных одинаково - «К Лавинии» и обращенных к Корш, Григорьев использует имя героини Жорж Санд - культового автора своей юности (статьи и письма Григорьев петербургского периода подписывает «Трисмегистов», зашифровывая имя графа Альберта из «Консуэло» и «Графини Рудолыитадт»). Автор создает миф космической, неразделенной любви, восходящий к «Демону» Лермонтова.
Что не тогда явились в мир мы с вами,Когда он былЕще богат любовью и слезамиИ полон сил?.
Да! вас увлечь так искренно, так святоВ хаос тревогИ, может быть, в паденье без возвратаТогда б я мог.
Это - начало первого стихотворения «К Лавинии». Уже здесь вселенская, космическая любовь противопоставляется любви «героя времени», когда «драмы — вздор».
Таким образом, и в лирическом произведении мы наблюдаем конфликт противоположных начал, тут он в силу специфики жанра романтической лирики резче обозначен, чем в прозе:А что теперь? Не скучно ль нам обоимТеперь равно,Что чувство нам, хоть мы его и скроем,Всегда смешно?.15Риторические вопросы, из которых состоит стихотворение, подчеркивают неуместность космической любви в пошлый век. Как мы уже видели, Григорьев стремился избежать общей «пошлой участи» чиновника. Тут можно сказать, что герой стихотворения «К Лавинии» бежит «пошлой участи» отвергнутого воздыхателя в его современном варианте. Ведь по «Листкам из рукописи скитающегося софиста» и «Запискам Виталина» мы знаем бытовую сторону этой любви: юноша находился в ложном положении, у него не было денег (все доходы от службы контролировались матерью), он не мог позволить себе прислать требуемые предметом обожания книги и ноты. Григорьев презирает себя, ненавидит Кавелина (Валдайского), который виноват только тем, что более бесстрастен, а значит, не так застенчив в своем поведении с Антониной, и который свободен от опеки «маменьки» и «папеньки».
В письме к отцу из Санкт-Петербурга 1846года Григорьев писал: «Любопытно бы мне знать тоже, как Вы смотрели и смотрите на мою страсть к А<нтонин>е Корш, на мою первую и, может быть, единственную страсть. И я -и она, мы оба были равны летами, общественным положением, даже состоянием; столько, как и какой-нибудь Константин Дмитриевич Кавелин, имел бы я право надеяться. А у меня не было надежд; ребенок, которому чесали головку - я, однако, был столько благороден, чтобы отречься от всяких надежд. Да и на что мне было надеяться? Кавелин, правда, не был выше меня ни положением, ни даже состоянием, но он был почти свободен - а я?. Вы не виноваты в этом: виновата судьба, но тем не менее мои лучшие, мои благороднейшие впечатления были отравлены.»16. В этом отрывке из письма «домашняя догма» переплетается с неразделенной любовью.
15 Григорьев А.А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб, 2001. С.57,16 Григорьев А.А. Письма. С.17-18.
О какой «несвободе» говорит Григорьев? Нам кажется, что не только о несвободе физической, но и о несвободе метафизической. А именно, о той несвободе от воли рока, о которой сказано во втором стихотворении «К Лавинии»:Для себя мы не просим покоя И не ждем ничего от судьбы, И к небесному своду мы двое Не пошлем бесполезной мольбы.
Дальше идет обычное григорьевское отрицание «Нет!», которое усиливает общий негативный пафос стихотворения. Демоническое неприятие «полноты бытия» и «покоя» - это стремление - уже на космическом уровне -вырваться из «тины мелочей». «Ведь только в бурях есть покой», - сказал любимый юношей Григорьевым Лермонтов. И доколе не верим мы счастью, Нам понятно проклятье одно. И, проклятия право святое Сохраняя средь гордой борьбы, Мы у неба не просим покоя И не ждем ничего от судьбы.
Кольцевая композиция стихотворения как будто очерчивает «проклятый» замкнутый круг, в котором оказываются герой и героиня. Слово «борьба», появляющееся здесь, - ключевое для лирики Григорьева. В первую очередь, по нашему мнению, автобиографический герой Григорьева боролся с самим собой. Молодой автор пробует этот мир на прочность. Он готов примерить на себя маску лермонтовского демона, а на свою избранницу - маску жоржсандовской героини, лишь бы избежать пошлости, быта и «общей участи» «многих». Необходимо отметить, что взаимоотношения «демона» и «Лавинии» по сути своей несколько комичны из-за того, что героиня Жорж Санд -эмансипированная, свободная девушка, существующая в социуме, в то времякак демонический герой Григорьева - категория космическая, находящаяся «поверх барьеров» общественного уклада.
Таким образом, лирика Григорьева раннего периода по-особому высвечивает романтический конфликт героя с миром. Ее отличие от прозы - в более резких черно-белых тонах, в более четкой антиномичности героя и] 7мира. Герой лирики - это герой романтический, новый статус он приобретает в прозе.
Как мы уже писали, в прозе герой Григорьева отражается в окружающихего персонажах, создается «система зеркал». Но связь с лирикой, с лирическим«я» автобиографического героя тем тесней, чем прочнее их общая основа автобиографизм. «Линия сердечная» григорьевского героя воплотилась и влирике, и в прозе - тому свидетельство не только история с Корш, но и сюжет,связанный с «крестовой сестрой» Григорьева Лизой. В прозе он отражен вглавах из 3-й части трилогии о Виталине («Офелия. Одно из воспоминанийВиталина) - «Рассказ Виталина» и «Дневник мечтателя», а в лирике - встихотворном цикле начала 50-х годов «Дневник любви и молитвы».
О «крестовой сестре» Аполлона Григорьева Лизе известно немного.
Б.Ф.Егоров предполагает, что это была Елизавета Стрекалова, дочь сослуживцаГригорьева-отца по 2-му департаменту Московского магистрата ТихонаЕлисеевича Стрекалова. Одно из первых стихотворений Григорьева, заглавиекоторого - инициалы «Е.С.Р.» - таким образом, расшифровывается как«Елизавете Стрекаловой». «Р.», по предположению Егорова, означает «какое1 Йлибо заветное слово».
Нам, вероятно, уже не узнать, что это была за девушка. Наши сведения и об Антонине Корш, и о Леониде Визард, и о Марии Дубровской, несомненно, богаче, чем информация о девушке, с которой в жизни Григорьева связано17 О сопоставлении лирики и прозы см. Журавлева А.И. Путь к герою времени: лирика, драма, роман // Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. С.181-197.
18 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.40.было полудетское чувство. Но именно эта девушка вдохновила поэта на создание личного мифа о любви падшего ангела, которым ощущает себя герой, к возвышенному и чистому созданию, которым предстает героиня.
Необходимо отметить, что женское начало в произведениях поэтов-романтиков, к которым принадлежал Григорьев, амбивалентно. Б.Ф.Егоров писал о важности для писателя «темы кометы, страстной и хаотичной стихии»19, которая связана со стихотворением Пушкина «Портрет», где есть строчка «как беззаконная комета в кругу расчисленных стихий». Женское начало в произведениях, например, Блока, который воспринимал Григорьева как своего предшественника, издал его стихотворения и создал статью «Судьба Аполлона Григорьева», двоится. С одной стороны, женщина - это Прекрасная Дама (как известно, образ Вечной Женственности в поэзии Блока появился под влиянием философии Владимира Соловьева), а с другой - это Незнакомка среди «пьяниц с глазами кроликов».
У Григорьева - в этом смысле, действительно, предтечи Блока - женщина - это, с одной стороны «Елена», о которой он пишет «моя в царстве Божьей мысли», а с другой - погибшее создание, как «Офелия» в конце «Дневника мечтателя». Миф о демоне и чистой, непорочной героине видоизменяется в творчестве Григорьева. Он усложняется за счет психологизации любовных отношений в прозе: героиня - не статичный образ, как Тамара в «Демоне» Лермонтова, а персонаж, наделенный собственным характером, как та же Офелия. В результате мы наблюдаем двойственный характер «лирического мифа» в творчестве раннего Григорьева. И, говоря о его возвышенных чувствах к «крестовой сестре» Лизе как спасительнице падшей души героя, мы не должны забывать о том, что возвышенное, чистое создание может обернуться стихийным, беспорядочным. Герой хочет увлечь свою избранницу «в паденье без возврата», но уже в природе самого «чистого ангела» таится соблазн и хаос.
19 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.60.
Таким образом, двойственный автобиографический герой Григорьева коррелирует с амбивалентной героиней.
Обратимся к более детальному рассмотрению образа «крестовой сестры» Лизы, «Офелии», как она названа в последней части трилогии о Виталине. И в прозе, и в лирике развивается общий сюжет - герой встречает в храме молящуюся женщину. «Я помню старый, простой, бедный храм, с почерневшими образами, выглядывавшими мрачно из старинных серебряных окладов, тусклый свет лампад, однообразное пение, однообразное, как стоны рыданий человека о своем падении, смиренное, как моление ожидающего. Моя душа так сходна была с этим храмом - как этому старому храму, были ей чужды все иные звуки, кроме стонов падения.»20 - это цитата из «Рассказа Виталина». Герой рассказывает повествователю историю из своей юности. Изначально задана ретроспективная точка зрения, герой вспоминает «дела давно минувших дней».
Бытовая деталь - «мы прежде напились чаю, то есть удовлетворили материальным потребностям, и потом уже решились «чем-нибудь высоким заняться», по выражению Хлестакова»21 - иронически снижает возвышенность последующего рассказа. Итак, ретроспективность повествования и предваряющая рассказ ирония обрамляют автобиографический сюжет. Григорьев как бы пытается остранить дорогие, но тяжелые для него воспоминания.
Герой приходит в старый храм и встречает там женщину: «. вдали ото всех, хотя коленопреклоненная со всеми, стояла женщина». Уже в этой фразе подчеркивается отделенность женщины от толпы и в то же время ее стремление слиться с молящимися. В описании внешности героини также присутствует двойственность: у нее «глаза с двойственным светом, то тихим и грустным, как20 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.315.
21 Там же, с.309.влажный взгляд грешницы, то ярким и светлым, как взор кудрявого ребенка, беспечно порхающего за мотыльком.»22.
С самого начала присутствует сравнение с «кающейся Магдалиной, обнявшей крест распятого Учителя». Женщина, призванная спасти героя, - это падшая Магдалина. Противоречие в облике героини, заданное с самого начала, потом воплотится в более конкретном «Дневнике мечтателя».
Сам Виталии охарактеризует все сказанное им как «лирический бред», своей иронией сливаясь с точкой зрения повествователя. Можно сказать, что точка зрения героя мерцает и раздваивается - то сливаясь с точкой зрения повествователя (своего приятеля), то отделяясь от нее и уходя в романтизированное прошлое.
А вот как описывается та же самая ситуация в «Дневнике любви и молитвы»:И снова он, старинный, мрачный храм, И тихий свет лампады одинокой, И в куполе Всевидящее Око, И лики длинные, как тени, по стенам. И образы святых над царскими дверями, Парящих в небе стройными рядами. И выше всех Голгофа. И на ней Распятый Бог, страдалец за людей.23 Дальше идут слова «и вспомнил я», то есть и стихотворном цикле так же, как и в прозе, присутствует ретроспективный взгляд. Герой вспоминает детство, «лет за восемь», как он молился с отцом.
Мы знаем, что реальные отношения Григорьева с отцом были крайне непростыми. Но мистически настроенному юноше, вероятно, всегда было необходимо чувствовать единение с отцом. Это подтверждает уже цитированное письмо Григорьева отцу 1846года из Санкт-Петербурга, там он22 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.315.
23 Григорьев А.А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. С.100-101.пишет: «А Вы, которому я хотел бы, в замену Бога, передавать все, Вы также смеялись над моим рыцарством»24.
Григорьевское ощущение отторгнутости от семьи (о ситуации с матерью еще будет идти речь) порождало отрыв от Отца Небесного, взаимоотношения с Которым составляют драму всей григорьевской жизни. Григорьев был богоискателем вполне в духе героев Достоевского, и «Дневник любви и молитвы» это подтверждает.
Когда герой «закрывает холодно воспоминанья свиток», он видит «налево» «одну» - слово выделено курсивом - стоящую «близ гроба Искупителя». В стихах нет ни слова о героине как о кающейся Магдалине: «Печальна и бледна, / Мне Божьим ангелом явилася она». Благодаря ее «свету черных, жгучих глаз» (кстати сказать, «очи черные, очи страстные» не вполне согласуются с Божьим ангелом, но это противоречие не получает в цикле развития, в этом его отличие от прозы, где Григорьев «сводит концы с концами», реализовывает намеченные противоречия) герой «восстает из праха» и «постигает святое вдохновенье». Благодаря чистому ангелу Григорьев воссоединяется в молитве с Небесным Отцом: Отец Любви! Перед Тобой Теперь склоняюсь я в смиренье, Когда-то полного сомненья, Когда-то гордой головой. Я не ропщу на мой удел, На бытие без назначенья. Путем страданья к просветленью Идти Божественный велел.25 «Лирический бред» Виталина кончается словами: «Да будет благословенно Провидение, которое не дало мне успокоения, да будет благословенна жизнь,'У/гда будет благословенно страдание!.».
24 Григорьев А.А. Письма. С. 18.
25 Григорьев А.А. Стихотворения. Поэмы. Драмы. С. 105.
Текстуальное совпадение стихов и прозы доказывает единство автобиографического героя Григорьева, в котором сливается и лирическое «я», и «остраненный» герой прозы. Отличие лирической ипостаси от «прозаической» - как мы уже говорили, в более резкой романтической антиномичности лирики по сравнению с многослойной, «зеркальной» прозой.
Эту многослойность подтверждает «Дневник мечтателя», в котором история, связанная с «крестовой сестрой» Лизой, конкретизируется, и, в отличие от несколько отвлеченных «Рассказа Виталина» и «Дневника любви и молитвы», обретает бытовые очертания. В «Дневнике мечтателя» возникает любовный треугольник, в принципе обычный для лирического сюжета в творчестве Григорьева. В жизни писателю дважды предпочитали его соперника: Антонина Корш - Кавелина, Леонида Визард - Владыкина. В творчестве любовный треугольник подчеркивает, резче обозначает ту самую «систему зеркал», которая является композиционным принципом ранней прозы Григорьева.
В «Дневнике мечтателя» продолжает развиваться григорьевская автобиографическая «линия сердечная» не только любви, но и дружбы. Еще в «Рассказе Виталина» появляется новый персонаж - Вольдемар, в котором без труда узнается товарищ юного Григорьева - Афанасий Фет. Об отношениях Григорьева с Фетом мы знаем и по «Листкам из рукописи скитающегося софиста», и по воспоминаниям самого Фета. Фет в период студенчества жил вместе с поэтом в одной комнате, на втором этаже московского дома Григорьевых. Дружба молодых людей была осложнена разницей в темпераменте — порывистый Григорьев и созерцательный Фет.
Вот как описывает Виталии свое отношение к Вольдемару: «Я любил его безотчетною, нежною, покорною преданностию женщины - и теперь даже это один человек в целом свете, с которым мне не стыдно было бы предаваться ребяческим, женским ласкам. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его26 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.317.постели: стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души. Может быть, я сделал его тем, чем он стал теперь, ибо как за якорь спасения схватился я за художественное влечение его природы, не думая, что вместе с этим развивалось в нем равнодушие. Я был нянькой, любовницей, женщиной для этого человека, и он знал это: он терзал меня! И когда, в замену своей преданности, моя мужская натура требовала такой же, он убеждал меня в небытии моей мужской натуры, моих огненных77стремлений, моих безумных потребностей.»По воспоминаниям Фета мы знаем, что Григорьев с любовью следил за развитием его таланта, переписывал все его стихотворения в отдельную тетрадь. Фет, со своей стороны, подшучивал над незрелыми ранними стихами своего приятеля. Дружба с Фетом была для Григорьева той же борьбой, что и любовь. И образ Вольдемара из «Рассказа Виталина» и «Дневника мечтателя» это подтверждает.
Именно Вольдемар добивается расположения девушки, которую любит Виталии. Интересно, что герой как будто подталкивает своего друга на этот роман. Разбудив до этого дремавшую душу неопытной девушки, Виталии сводит ее с Вольдемаром. Вот описание их танца глазами Виталина: «Они понеслись. Они были оба хороши, как античные изваяния. Я смотрел на них, я любовался ими. Я страдал невыносимо. Я проклинал».
Необходимо отметить, что основа поэмы Фета «Студент» - тот же сюжет с «крестовой сестрой» Григорьева Лизой. Поэма - взгляд на романтическую историю уже глазами друга Аполлона. Хотя Фет описывает эту историю, будучи пожилым человеком, временная дистанция не мешает поэту вспоминать и «Гамлета-Мочалова», и увлечение Григорьева Гегелем, «и Лермонтова, и Байрона, и Мюссе» - круг чтения обоих юношей, знакомый нам по «Литературным и нравственным скитальчествам». В поэме есть и танец героя поэмы с Лизой:27 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. Т.1. С.313-314.
И мы неслись под пламенные звуки -И - Боже мой! - как дивно-хороша Она была! И крепко наши руки Сжимались, и навстречу к ней душа Моя неслась в томленьи новой муки. - И я тебя люблю! - едва дыша, Я повторял. - Что нам людская злоба!лоВзгляни в глаза мне: твой, - я твой до гроба!Эта строфа доказывает обоснованность ревности героя «Дневника мечтателя».
Сопоставление двух текстов - григорьевского и фетовского (причем «Студент»написан уже после смерти друга Фета) - дополнительно подтверждает наличие00автобиографической основы в ранней прозе Григорьева.
Виталии, понимая жажду Вольдемара влюбиться («ему это нужно для его поэзии») в результате жертвует своим чувством ради товарища. Запутанный психологический клубок (самопожертвование, страдание, любовь, ревность) осложняется тем, что кузина выходит замуж за ничтожество, с точки зрения Виталина. Опять герой Григорьева попадает в замкнутый круг пошлой жизни, где девушка выходит замуж без любви, потому что «так полагается», на то воля ее родителей.
Двойная роль, которую играет Виталии - и друга дома, и тайного влюбленного — подчеркивает двойственный характер автобиографического героя Григорьева. Зеркальность повести проявляется в том, что девушки также добиваются и ее будущий муж (мнимый счастливый соперник - «Офелия» его не любит) и Вольдемар (тайный, но действительный счастливый соперник - он становится любовником уже замужней кузины Виталина). Таким образом, героиня повести, в отличие от героини «Дневника любви и молитвы», реализовывает ту двойственность, которая изначально была заложена в ее28 Фет А.А. Вечерние огни. М., 1971. С.230.
29 Об автобиографичности эпизода с «крестовой сестрой» Григорьева Лизой см. также мнение Иванова-Разумника (Григорьев А.А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.605).образе (мы помним про «двойственность» ее взгляда, когда герой впервые увидел свою спасительницу в храме).«Любовная лодка» героя Григорьева опять разбивается о быт. Как и в истории с Корш, герой метафизически объясняет свою любовную неудачу. «Мы все трое осуждены», - говорит он «бедной Офелии». Конец этого сюжета таков: «Я спас его. Он будет жить. Отец! Я исполнил подвиг, порученный мне Тобою. Но она - осуждена навсегда. И он уже начинает стыдиться своего увлечения, стыдиться орфографических ошибок в ее письмах. Дитя мое! Ты должна презирать меня: я отдал тебя в добычу миру - я пожертвовал тобою. Бедная Офелия!»30В финале своего дневника герой берет на себя роль Провидения - это он спас Вольдемара, это он пожертвовал Офелией. Богоискательство автобиографического героя Григорьева в этом случае закончилось трагически. Герой исполняет функцию неких высших сил: его миссия - спасать одних и губить других. Иными словами, это то же самое печоринство, как в уже цитированном григорьевском письме Соловьеву. Герою удается демоническим образом увлечь героиню в «паденье без возврата» (нелюбимый муж, уставший любовник), но и сам герой не находит счастья, пожертвовав своей «Офелией». Итак, конфликт любовной истории из «Рассказа Виталина» и «Дневника мечтателя» разрешается по воле героя и автора трагически.
Гипертрофированность индивидуалистического, эгоистического начала в личности автобиографического героя Григорьева, с одной стороны, и страдание и склонность к самопожертвованию - с другой, породят парных героев последующих повестей. Как мы уже писали, Виталии - зерно, из которого вырастут эти герои.***Парные герои последующих повестей - это Севский и Званинцев в повести «Один из многих» и Чабрин и Имеретинов в повести «Другой из30 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.ЗЗО.многих». В свою очередь, парность этих повестей подчеркивается их названиями. Перечисленные герои, по нашему мнению, - две ипостаси единого автобиографического героя Григорьева, который в прозе изначально воплотился в образе Виталина, признающегося повествователю: «Во мне жили две души: одна, которая рвалась на волю, и другая, которая страдала за нее и подчиняла ее страданию»31. Эта «двойственная» автохарактеристика героя Григорьева могла бы без натяжек быть адресована самому писателю, психологический портрет которого мы можем составить по его письмам.
Раздвоенность души «апологиста раздора» (так Григорьев аттестовал себя в письме к Погодину 1843 года) была прокомментирована Белинским в рецензии на сборник стихов Григорьева 1846 года: «Безумное счастье страданья <строчка из стихотворения Григорьева «Обаяние» - Е.Г.> - вещь возможная, но это не нормальное состояние человека, а романтическая32искаженность чувств и смысла». С точки зрения Белинского, ратующего за «дельную поэзию», «счастье страданья» - действительно, «не нормальное состояние человека». Однако для «последнего романтика» Григорьева, личности которого была свойственна постоянная неудовлетворенность собственной жизнью, с одной стороны, и стремление «двигаться дальше» - с другой, страдание, в самом деле, было счастьем.
Достоевский, думается, при общении с критиком в период их совместной работы во «Времени» и «Эпохе» очень хорошо уловит это григорьевское качество. Предположим, что именно знакомство с Григорьевым будет способствовать созданию того сложного психологического типа, который мы теперь называем героем Достоевского.
Таким образом, раздвоенность души автобиографического героя Григорьева непосредственно связана с личностью самого автора, что еще раз31 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.311-312.
32 Белинский В.Г. ПСС: В 13 тт. М., 1953-1959. T.9, с.593.доказывает «родство душ» самого Григорьева и созданного им автобиографического героя.***В повести «Один из многих», как уже было сказано, в центре повествования находятся парные герои Званинцев и Севский. На первый взгляд, они противоположны. В самом начале описания Званинцева появляются слова «странно», «эксцентрически». Званинцев - особенный человек, стоящий над толпой: «. что-то слишком дерзкое в выражении больших черных глаз возбуждало чувство невольной антипатии во всем петербургском народонаселении, так привыкшем к уровню однообразных вицмундирных физиономий, так искренно неприязненного всему, что смеет носить печатьЛ Лкакого-либо нравственного превосходства». Описание портрета Званинцева объединяется с отношением к нему «всего петербургского народонаселения». Уже внешний вид героя способен возбудить «чувство невольной антипатии».
Авторское отношение к герою с самого начала неоднозначно. С одной стороны, точка зрения автора будто бы находится на одном уровне со всеми, это подчеркивает обобщенно-личные «мы» и «нам»: «. во всяком немного выдающемся выражении физиономии, во всяком непозволительно резком очертании профиля мы готовы видеть всегда что-то зловещее, что-то враждебное нам, чадам посредственности»34. Однако эмоциональная окраска высказывания, сожалеющее «увы!»: «Увы, таковы все мы от первого до последнего» — выводит автора за пределы точки зрения «многих». Таким образом, слияние со взглядом «многих» оказывается мнимым.
В описании Севского с самого начала присутствуют слова с положительной эмоциональной окраской: одет он «чрезвычайно мило и грациозно», Севский - «чрезвычайно редкий мужеский тип». Повторение слова «чрезвычайно» способствует созданию «чрезвычайно» положительного33 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. Т.1. С.ЗЗЗ.
34 Там же.впечатления уже от самой внешности Севского. У Севского, в отличие от Званинцева, - темно-голубые глаза (напомним, что у Званинцева глаза черные).
А последнее предложение в описании Севского прямо противопоставляет этого героя Званинцеву: «.его прекрасный лик еще дышал доверием ко всему и ко всем, еще не был сжат гордостию, не признающею ничего, кроме себя в мире»35. Это высказывание - явно «камешек в огород» Званинцева, у которого «бледные, тонкие губы, сжатые в вечную улыбку». Ю.В.Манн в книге «Динамика русского романтизма»36 отмечает четыре непременных элемента внешности романтического героя: волосы, чело, глаза (взгляд) и, что в данном случае для нас важно, улыбка (смех). Про глаза Званинцева и Севского - двух романтических героев мы уже сказали. Описание улыбки Севского отсутствует, а вот улыбка Званинцева - это, конечно, демоническая улыбка.
По ходу дальнейшего развертывания образа Званинцева (мы сознательно не употребляем понятия «развитие образа», так как, по нашему мнению, образы героев у Григорьева не развиваются, а именно развертываются, они во всех своих проявлениях заданы изначально, динамика существует только в смысле как бы доказательства с самого начала свойственных герою качеств) яснее обозначается его демоническая природа, его роль «вершителя судеб». В tq время как Севский находится «в той поре жизни, когда не доверяют себе и верят другим», способен «верить глубоко в существование избранников, которым доступно созерцание совершенства, в существование вождей, озаренных светом неба, вождем, за которыми должно идти, если нужно, в3 7самую бездну». Автор с самого начала приготавливает читателя к той роли, которую Званинцев будет играть в судьбе Севского, - роли «избранника» и «вождя».
В разговоре с Севским Званинцев произносит важные слова: «Я в вас люблю самого себя, свою молодость». Званинцев хочет, чтобы Севский не35 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.337.
36 Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М.,1995.
37 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.336-337.просто стал «его созданием», он хочет сделать из юноши «самого себя». В этой реплике Званинцева проявляется та же «система зеркал», о которой мы писали ранее. Правда, если говорить об «отражениях», то Севский - это «отражение» Званинцева как бы в кривом зеркале. Горячее отношение Званинцева к Севскому компенсируется антипатией Севского по отношению к его «вождю». Их противоположность раскрывается на протяжении всей повести: Званинцев независим и богат - Севский находится под опекой «маменьки»; Званинцев хочет подчинить себе весь мир - Севский не в состоянии даже завоевать любовь понравившейся ему Лидии.
Однако на более глубинном уровне эти герои составляют одно целое: они оба влюблены в одну и ту же девушку (Севский явно, Званинцев тайно), оба играют в карты в доме ее отца («крупный куш» в виде Лидии достается Званинцеву). Герои сходятся как «лед и пламень», их противоположность настолько очевидна (говоря метафорически, там, где у Севского плюс, у Званинцева - минус), что их «странное сближение» уже перестает казаться странным. Они представляют собой «единство и борьбу противоположностей».
Автор опять метафизически мотивирует отношения героев: они сходятся «по воле рока». Эти герои объединены не только на уровне сюжетных перипетий, но и на уровне авторского отношения к ним. Автор, как уже было сказано, испытывает тайную симпатию к Званинцеву и явную к Севскому. Авторская симпатия к Званинцеву и Севскому мотивирована тем, что пара Званинцев - Севский, как уже было сказано - это единый автобиографический герой Григорьева. И в Званинцеве, и в Севском есть черты, сближающие этих персонажей с личностью их создателя.
Необходимо сказать о классификации Ю.М.Лотмана парных героев. Ученый в работе «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия» пишет о «взаимосвязанной паре персонажей» - джентльмене и разбойнике: «В романтической традиции оба персонажа были носителями разрушительного злого начала, представляя лишь его пассивную и активную ипостаси. Но вболее широкой исторической перспективе эта антитеза наложилась на уходящее в глубокую архаику противопоставление добра как сложившегося, застывшего порядка и зла в образе разрушительно-созидательного творческого начала»38. Лотман также говорит о единстве и взаимной дополняемости этих героев.
Несомненно, создавая Званинцева и Севского, Григорьев оглядывался, например, на Бальзака (Вотрен и Растиньяк). О григорьевской склонности отождествлять себя с героями литературы говорили и Р.Виттакер, и О.А.Ковалев. Для романтика вообще характерно построение жизни и произведений согласно уже сложившимся типам и мотивам. Однако нас интересует взаимосвязанность парных героев Григорьева с его биографией, с формирующейся юношеской психологией писателя, с его автобиографическим героем.***Один из автобиографических мотивов в повести «Один из многих» - это мотив материнской опеки над Севским. Отношения Севского с матерью, контроль над всеми действиями сына, обязанность восемнадцатилетнего юноши возвращаться домой к определенному часу, - все это сближает героя Григорьева с автором, с «домашней догмой» в его родительском доме в Москве.
Вот как Григорьев описывает свою мать в «Моих литературных и нравственных скитальчествах»: «В матери моей было в высокой степени развито чувство самой строгой справедливости, но с девяти лет моего возраста я уже не помню ее здоровою. Что за болезнь началась у ней и продолжалась до самой ее смерти, я не знаю. более 20-ти лет болезнь ее грызла, и несколько дней в месяц она, бедная мать моя, переставала быть человеком. Во время приливов или припадков этой болезни светлые, хорошие стороны ее личности исчезали, свойства, в умеренном виде хорошие, как например хозяйственная38 Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997. С.718.заботливость и расчетливость, переходили в ужасные крайности: неудовлетворенное, обиженное судьбою самолюбие даровитой, но лишенной39средств развития личности выступало одно на месте всех душевных качеств». Это Григорьев пишет уже после смерти матери, время отодвинуло те воспоминания о тяжелых днях пребывания с родителями, которые еще живы были в душе, когда он создавал образ матери Севского. Именно «обиженное самолюбие» - доминанта этого характера в повести. Описание «визга» и истерик матери Севского, ее желание подчинить уже взрослого сына своей воле, как кажется, вполне согласуются с «приливами болезни» матери самого Григорьева.
Однако в авторском тоне при описании матери Севского появляется сочувствие, когда он говорит: «. кругом ее, бедной, больной женщины, все дышало одиночеством и тоской безысходною». Мать Севского мучает своего сына и мучается сама. Как и в отношениях с собственной матерью, автор объясняет это болезнью.
Итак, сближение героя Григорьева с личностью автора строится на родственности образов матерей в повести «Один из многих» и в «Моих литературных и нравственных скитальчествах». Свои страдания в родительском доме Григорьев отдает Севскому, тем самым остраняя эти страдания. Если же смотреть с психологической точки зрения, то можно сказать, что Григорьев изживает, сублимирует свои переживания, создавая образы Севского и его матери. Тем самым наше положение о том, что ранняя проза Григорьева - это попытка самоопределения и самоутверждения автора в мире путем создания синтетического явления автобиографического героя, дополняется и углубляется.***Отношения Севского с Лидией тоже роднят этого героя с его автором. Уже описанные нами истории с Антониной Корш и «крестовой сестрой» Лизой39 Григорьев А.А. Воспоминания. M., 1988. С.16-17.в их типических чертах - любовь без взаимности, ревность, страдание -находят отражение в повести «Один из многих». Однако в отношениях Севского уже не присутствует миф космической любви, который мы описывали ранее. Наоборот, в эпизоде, где Севский пишет письмо Лидии, автор ироническими комментариями («Продолжение, как видите, слишком не гармонировало с братским началом, но таковы письма влюбленных. Начнет всякий, как человек порядочный, и кончит черт знает чем, тем, о чем и сам не думал, принимаясь писать»40) «охлаждает» в восприятии читателя пламенную страсть героя.
Самому Григорьеву были свойственны и ирония, и самоирония. Эволюция «я» в письмах происходит именно в этом ключе. Если сравнить ранние и поздние письма Григорьева, то становится очевидным, что романтическая, возвышенная лексика ранних писем («Человеку, у которого отравлена жизнь, остается ловить минуты»41 - из письма к отцу 1846года) уступает место сниженной, просторечной лексике («Я не могу истребить в себе тоски пса по женщине, которая, вероятно, отупела уже в покое Пензенской губернии, и между тем, с какой-то бессовестностью отдаюсь всякому впечатлению, похожему на любовь»42 - из письма 1859 года к Протопоповой). Конечно, от Григорьева 1846 года до Григорьева 1859 года - «дистанция огромного размера», но уже на примере ранней повести мы можем наблюдать начало эволюции его автобиографического героя.
Отдавая Севскому «былого себя», когда само былое было еще живо в душе и памяти, автор продолжает остранение собственных переживаний, о котором мы писали ранее. Таким образом, его проза переходит на качественно другой уровень - вместо «психологической компенсации», которой являлась трилогия о Виталине, перед нами, пусть еще и незрелый, но художественный40 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.358.
41 Григорьев А.А. Письма. С. 18.
42 Там же, с.208.текст, отличающийся от «эстетического дневника», прежде всего, характеромавтобиографического героя, более объективным к нему отношением автора.***Григорьевское отношение к Званинцеву, как мы уже писали, неоднозначно. Близость автора с его героем основывается, в том числе, на связи Званинцева с масонами. Григорьевские отношения с масонами - одна из проблем в науке. По словам Б.Ф.Егорова, «масонство Григорьева - одно из самых загадочных и темных мест в его биографии»43. Исследователь предполагает, что Григорьев вступил в масонскую организацию еще в Москве. Книга стихотворений Григорьева 1846 года, первый раздел которой составляли «Гимны», явно связанные, как обнаружил Б.Я.Бухштаб, с «Полным собранием песен для масонов» (Берлин, 1813), подтверждает если и не членство Григорьева в масонской ложе, то, во всяком случае, близость Григорьева масонским идеям. Связь Григорьева с масоном-проходимцем Милановским, о которой также пишет Егоров, о которой сам писатель упоминает в уже цитированном письме к отцу, еще раз подтверждает масонские умонастроения Григорьева. В данном контексте то, что Званинцев - ученик масона, -совершенно не случайно.
Двойственность, свойственная григорьевскому автобиографическому герою, присутствует уже в описании Званинцева-ребенка: «Это был странный ребенок, или, лучше сказать, это было странное создание двух веков: спартански-смелый, ловкий и сильный, он был, однако, важен и задумчив не по летам»44. Воспитание другом отца Званинцева, который сделал его «спартанцем», и стариком-мистиком, который познакомил героя с масонскими идеями, породило в Званинцеве эту двойственность. Вообще говоря, «спортивная» сторона воспитания Званинцева напоминает «закаливание» ребенка-Лаврецкого в «Дворянском гнезде» его отцом.
43 Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.52.
44 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.353.
Раннее обручение Званинцева с дочкой его воспитателя оставило в Званинцеве след на всю жизнь. Демон-Званинцев на поверку оказывается с самой юности несчастливым в любви человеком - так же, как и Севский, так же, как и Григорьев. Будучи «странным созданием», он бесстрашен, хитер, независим, расчетлив, но в то же время нуждается в любви и дружбе. Когда кончает жизнь самоубийством его «протеже» Антоша, Званинцев искренно переживает.
Олицетворяя собой рок, Званинцев так же, как и Печорин, тяготится тем, что всегда обречен наблюдать развязку «комедии» («Finita la comedia», -говорит Печорин после убийства Грушницкого). Званинцев своими действиями как будто ускоряет замысел судьбы - это роднит его с героем лирики Григорьева (сравните, например, стихотворение «Над тобою мне тайная сила дана.»).
Если Севский - одна сторона автобиографического героя Григорьева -сторона страдательная, подчиняющаяся, «смирная», то Званинцев - другая его ипостась - активная, демоническая, «хищная». Будем помнить об условности этого деления. Ведь в Званинцеве, как мы уже отметили, есть и черты страдательные. Он так же, как и Севский, мучается от одиночества. Правда, в борьбе за Лидию выигрывает Званинцев, это мотивируется, кроме всего прочего, и тем, что Севский не в состоянии защитить любимую девушку. В образе Званинцева, по нашему мнению, воплотился сложный комплекс григорьевских представлений о том, каким должен быть «настоящий человек», - умным, смелым, обаятельным, расчетливым, хладнокровным, наконец -счастливым.
Связь Григорьева с Милановским - полуподлецом-полумасоном, если перефразировать пушкинскую известную эпиграмму, была обусловлена желанием создателя образа Севского найти себе «вождя», а скрытое желание «премировать», как писал Григорьев в «Листках из рукописи скитающегося софиста», проявилось в Званинцеве.
Как мы уже отмечали, григорьевский герой жадно ищет самоопределения в мире. Молодой Григорьев еще не всегда может отличить черное от белого. Демоническое обаяние Званинцева, скрытое сочувствие к нему автора, судьба Севского, про которого сказано в конце, что он «где-то столоначальником», авторская ирония по отношению к нему в эпизоде с письмом к Лидии, - все это доказывает, что Григорьев к моменту написания «Одного из многих» еще не освободился от влияния печоринства и от желания «печоринствовать» самому. Когда Григорьев пишет из Санкт-Петербурга в 1845 году в письме к Погодину: «Есть две дороги - дорога общая, избитая, и дорога креста; я выбрал последнюю»45, то за этими, в общем, вполне романтическими словами читается то же самое желание самоопределиться.
Двойственность автобиографического героя - две его ипостаси Званинцев и Севский — показывают, что в петербургский период творчества автор находился в состоянии «апологиста раздора». Он делал выбор между печоринством и отказом от эгоизма (название ранней драмы «Два эгоизма» -тому свидетельство). Герой повести, как и герой лирики, примеряет на себя маску демона. Он еще не стал самим собой. Поиски «самого себя» Григорьев продолжит в заключительном произведении из цикла романтических повестей - «Другом из многих». То же стремление самоопределиться отражается и в поэмах петербургского периода.***В поэмах Григорьева раннего периода (здесь анализ будет производиться на материале поэм «Олимпий Радин», «Видения», «Предсмертная исповедь», «Встреча»)46 мы наблюдаем тот же процесс формирования автобиографического героя, что и в прозе, лирике, письмах. Имя героя одной из поэм - Олимпий Радин отсылает нас к Арсению Виталину. Олимпий - из-за античного происхождения - так же ассоциируется с Аполлоном, как и Арсений45 Григорьев А.А. Письма. С.14.
46 Поэма «Первая глава из романа «Отпетая», самая поздняя, относящаяся к 1847 году, из-за ее существенного отличия от перечисленных произведений будет рассмотрена ниже.(напомним, что мы производим это имя от латинского «ars» - «искусство»), а фамилия Радин родственна фамилии Виталии по ее «классицистическому» происхождению с той лишь разницей, что первая - от русского корня («радость»), а вторая, как уже говорилось, - от латинского («vita» - «жизнь»). Вообще говоря, Олимпий Радин - с сочетанием античного имени и русской фамилии - прямо отсылает нас к антично-русскому имени Аполлона Григорьева.
Имеет смысл рассматривать поэмы Григорьева как составную часть единого целого ранних повестей и лирики. Их демонический герой напоминает Званинцева. Для героя поэм характерны «насмешка злобная», гордость «святым страданьем», он - «равнодушен, холоден и тверд», «и горд, и смел, и волен», страдает «тоской по участи иной». Герой поэм - такой же романтический герой, как «я» лирики. Он не двоится на демона и его жертву, как герой прозы, он однозначен и поэтому более схематичен.
Этот герой вполне укладывается в романтический штамп героя Лермонтова. Не случайно «Предсмертная исповедь» прямо ассоциируется по своей композиции с «Мцыри». Герой умирает и перед смертью исповедуется, рассказ сначала ведется от первого, а потом от третьего лица. Размер григорьевской поэмы - тот же четырехстопный ямб в сочетании с исключительно мужской рифмовкой, которым написана лермонтовская поэма.
47 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. Т.1. С. 159.
48 Там же, с.161.«Прямая, единая честь» «рода людского», чувство собственного достоинства, если выражаться проще, - проблема, глубоко волновавшая молодого Григорьева. Он писал Погодину из Санкт-Петербурга в уже цитированном письме 1845года: «Есть смирение благородное, смирение перед человеком-Богом - и Вы знаете, смирен ли я; но смирение и позорное унижение перед жрецами Ваала и рабами Велиара есть срам и грех»49. «Фанатик», «который обрек себя бороться, страдать до смерти», не мог не создать героя, сущностью которого как раз и является «страдание», «путь креста» и демоническая гордость. Григорьев, который хотел быть «по крайней мере равным» со своим соперником Кавелиным (о проблеме «личностного равенства» пишет Б.Ф.Егоров50) не мог, как мы уже говорили, смириться с «пошлой участью» «многих». Итак, бунт героя Григорьева сродни бунту его создателя - они оба «восстают» против «пошлости» и «подлого филистерства».
В поэмах этот бунт так же, как и в лирике, переведен в метафизический план: «. мы другого бытия / Глубоко падшие сыны», в то время как остраненный герой прозы терпит от «домашней догмы», как Севский, наделен сложной психологией. Однако основа для героев Григорьева - это автобиографизм, сущность личности его создателя, из-за чего он и получил у нас название - автобиографический герой Григорьева.
Характерны подзаголовки поэм - «рассказ», «рассказ в стихах». Такие подзаголовки связывают поэмы с прозой. Это именно рассказы, родственные по жанру скорее повествовательной прозе, чем лирике. В поэмах есть авторские отступления, как, например, во «Встрече», посвященной Фету: Люблю хандру, люблю Москву я, Хотел бы снова целый день Лежать с сигарою, тоскуя, Браня родную нашу лень; Или, без дела и без цели,49 Григорьев А.А. Письма. С. 14.
50 См. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. С.61.
Пуститься рыскать по домам, Где все мне страшно надоели, Где надоел я страшно сам И где, приличную осанку Принявши, с повестью в устах О политических делах, Всегда прочтенных наизнанку, Меня встречали. или вкось И вкривь - о вечном Nichts и Alles Решали споры. Так велось В Москве, бывало, - но остались В ней, вероятно, скука та ж, Вопросы те же, та же блажь.51Такое отступление свидетельствует об уже обозначенном нами процессе эволюции автобиографического героя - Григорьев остраняет за счет ретроспективности повествования чувства и переживания, владевшие им так недавно. Когда-то волновавшие его философские споры, чему свидетельство и раннее, уже цитированное письмо С.М.Соловьеву, и «Листки из рукописи скитающегося софиста», и трилогия о Виталине, превращаются в явно пародийную антиномию - Ничто и Всё («Nichts и Alles»).
Надо сказать, что Григорьев зрелого периода будет с недоверием относиться к отвлеченным, «головным» теориям, которые «гнут действительность под свой уровень». Изощривши свой ум в философских диспутах с друзьями в молодости, будучи прекрасным знатоком немецкой классической философии, Григорьев уже в момент написания поэмы «Встреча» (март 1846 года), как мы видим, иронически относится к былым страстным спорам. Мы еще будем рассматривать восприятие Григорьевым тургеневских Гамлета Щигровского уезда и Рудина, оценку критиком «книжности» и«отвлеченности» этих героев. А пока - былое еще живо, живы воспоминания о несостоявшейся любви к Корш.
Герой той же «Встречи» - Сергей Петрович Моровой - в общем, перекочевавший из «Одного из многих» в поэму Званинцев: «по сказкам -шулер он», «наслаждений вечно жадный», ему свойственны «лукавство вкрадчивого змея и математика расчет». Так же, как Званинцева, «его бранят и проклинают» «чада посредственности». На маскараде он встречает женщину, напомнившую ему ту, которую он погубил в молодости, и она гордо говорит герою: «Безумец, с вечной волей рока / Оставь надежду враждовать: / На нас лежит его печать.»52 Естественно, это тот же мотив рока, что и в лирике, и в прозе.
Сочетание прозаизированного авторского отступления в поэме, где Григорьев иронизирует над философскими увлечениями ранней молодости, и основной части, герой которой - знакомый нам по прозе и лирике демон, свидетельствует об уже обозначенном нами процессе в душе создателя своего автобиографического героя. Как уже сказано, Григорьев сублимирует собственные переживания, однако юношеский ум еще не в состоянии справиться с обуревающими его эмоциями.
Поэмы Григорьева - это любопытное явление в творчестве поэта. В них отразились те же душевные процессы, что и в прозе, и в лирике, однако из-за промежуточности лиро-эпического жанра поэм в них эти процессы проступают нагляднее, нежели в лирике и прозе. Происходит «сочетание несочетаемого», своего рода «обнажение приема». Но художественная ценность поэм, безусловно, ниже, чем ценность произведения, являющегося вершиной раннеготворчества Григорьева. Мы имеем в виду повесть «Другой из многих».***Повесть «Другой из многих» подводит итог всему раннему творчеству Григорьева. Раздвоенность автобиографического героя, которую мы наблюдалив повести «Один из многих», тут проявляется в образах Ивана Чабрина и Василия Имеретинова. Однако здесь демон (Имеретинов) и его жертва (Чабрин) в эпилоге меняются местами. Чабрин убивает на дуэли своего мучителя Имеретинова. Если Званинцев в итоге одерживает любовную победу над Севским (ему достается невеста Севского Лидия) и такой итог разрешает противостояние героев, то конфликт Имеретинова и Чабрина глубже и психологически изощреннее, чем «борьба» героев предыдущей повести.
Этому способствует форма повествования, которое построено на переписке и дневниках героев. Повествование от третьего лица (за исключением эпилога) порождает объективность произведения. Сам повествователь пишет в эпилоге о «неполноте и отрывочности» доставшейся ему «из рук одного приятеля» «переписки». Подзаголовок повести «переписка разных лиц», с одной стороны, отсылает нас к сентименталистским романам -например, к «Новой Элоизе» Руссо, а с другой - к ранней повести Достоевского «Бедные люди». Об этой повести еще будет идти речь во второй главе.
Через субъективизм точек зрения героев (их письма и дневники, написанные от первого лица) автор приближается к той объективности, которую достиг Лермонтов в «Герое нашего времени» (журнал Печорина, попавший в руки повествователя - прообраз «бумаг», которые «опубликовывает» повествователь григорьевской повести).
В предыдущих повестях (уже рассмотренных трилогии о Виталине и «Одном из многих») также есть дневниковые записи, но там жанр «эстетического дневника» вписывается в общий контекст романтического автобиографического повествования. В то время как повесть «Другой из многих» написана в совершенно другом жанре. Сохраняя романтические традиции, Григорьев продолжает остранение автобиографических мотивов, он как бы отрезает пуповину, связывавшую автобиографического героя с личностью его создателя.
По Бахтину, образ автора - это категория, стоящая над повествованием, авторское отношение к герою не должно превращаться в слияние автора и героя: «. автор знает и видит больше не только в том направлении, в котором смотрит и видит герой, а в ином, принципиально самому герою недоступном; занять такую позицию и должен автор по отношению к герою»53. Именно в этом направлении, как мы видели, двигался молодой Григорьев. И двоящийся автобиографической герой его последней ранней повести - тому подтверждение.***Конфликт между Имеретиновым и Чабриным, представляющими собой единого автобиографического героя Григорьева - так же, как конфликт между Севским и Званинцевым более ранней повести, - основа «Другого из многих». Как и Званинцев, Имеретинов - ученик масона. Но, в отличие от Званинцева, у Василия Имеретинова «огромные голубые глаза, дыхание его «прерывисто и слабо, как дыхание ребенка». Имеретинов смертельно болен чахоткой. Могучей натуре Званинцева, конечно, были несвойственны ни болезненность, ни избалованность и капризность героя «Другого из многих».
Правда, так же, как и Званинцева, Имеретинова характеризуют словами «странно», «странность» - «странный у него голос», «взгляд его на жизнь так странен», «вообще, - по словам Чабрина, - на нем лежит печать такой особенности, как будто между ним и всеми нами молодыми людьми, как он же, нет ничего общего». Эта «странность», «особенность», конечно, роднит Имеретинова со Званинцевым, оба они возбуждают антипатию «многих». Они -другие, избранные.
Однако гибель Имеретинова от руки Чабрина в эпилоге, обреченность и близость к смерти этого героя на протяжении всей повести коренным образом отличают Имеретинова от Званинцева. Таким образом, демон в последнейповести Григорьева предстает в другом обличье - это какой-то вырождающийся демон.
Григорьев к этому времени уже отходит от своих масонских идей, от связи с проходимцем Милановским, хочет «сжечь то, чему поклонялся». Через описания Имеретинова Чабриным, влюбленными в Василия женщинами видно, что и автор разделяет их сочувствие к этому герою. Однако григорьевское отношение к демонизму рельефнее всего проявляется в построении образа Чабрина.
Как уже говорилось, Чабрин, в отличие от Севского, живет самостоятельной жизнью, но служит чиновником в департаменте - так же, как и Григорьев допетербургского периода. «Зеркальность» повести проявляется, кроме прочего, в том, что отражение обывательской стороны героя - это, как мы уже писали, столоначальник Ипполит Орнаментов, как и Чабрин, мечтающий жениться на Софье Счастной - девушке с богатым приданым.
Имеретинов путает в судьбе Чабрина все карты. Василий смущает душу своего друга детства такими речами: «. скажу тебе. что я не совсем как ты понимаю вызов рока, потому что я с ним встречался лицом к лицу»54. Как мы видим, в повести «Другой из многих» присутствует тот же мотив рока, что и в предыдущих повестях, и в лирике, и в поэмах. Имеретинова называют «дитя вечного рока», и эта метафора реализована в тексте буквально - как уже сказано, герой находится на грани смерти (чахотка) и, действительно, гибнет в эпилоге от руки Чабрина. Но прежде чем погибнуть самому, он губит трех женщин - свою подругу Лизу, которая кончает жизнь самоубийством, Прасковью Рассветову, которой он внушает любовь к себе и бросает впоследствии, и Софью Счастную, невесту Чабрина, которую он тоже «влюбляет» в себя.
Чабрин, со своей стороны, оказывается достаточно сильным для того, чтобы противостоять демоническому обаянию Имеретинова. Образ Чабринастроится на сближениях и расхождениях - сюжетных и композиционных - с образом Имеретинова. Имеретинов переписывается с наставником масоном -Чабрин - с родителями, которые также дают ему наставления. Правда, родительская забота о Чабрине - это, скорее, пародия на отношения Имеретинова со своим «духовным отцом». У друга Чабрина ротмистра Зарницына, с которым герой также ведет переписку, Имеретинов когда-то встал на пути в любовной истории. Чабрин влюблен в Софью Счастную -Имеретинов от скуки, как Печорин княжну Мери, заставляет Софью влюбиться в себя. Таким образом, в композиции «Другого из многих» мы наблюдаем тот же принцип взаимного отражения, что и предыдущих повестях.
Между Имеретиновым и Чабриным дружба-борьба совсем иного рода, чем между Званинцевым и Севским. Чабрин оказывается не жертвой, а победителем. Его судьба после дуэли с Имеретиновым неизвестна — повествователь ничего о ней не сообщает, и такой открытый финал свидетельствует о победе автобиографического героя Григорьева над самим собой (ни одна возможность для Чабрина не исключена, он получает освобождение).
Убийство Чабриным Имеретинова говорит о том, что Григорьев истребил в себе «чуждое ему» «второе я». Б.Ф.Егоров пишет о том, что таким образом Григорьев «расправлялся» и с Милановским, и «со своим прошлым»55. Не только с мерзавцем Милановским и масонским прошлым «расправляется» Григорьев, он одерживает победу над печоринством, над эгоизмом (напомним, что название его юношеской драмы - «Два эгоизма»).
Сходный с вышеописанным процесс мы наблюдаем в поэме «Первая глава из романа «Отпетая». Там - «герой известный - сатана» получает воплощение в пошловатом Андрее Петровиче, который «ни дурен, ни хорош / Собой особенно - на всех людей похож», «он был герой, и даже очень пылкой, /в танцклассе и с друзьями за бутылкой»56. Вот с какой иронией Григорьев говорит о реальном воплощении демона-искусителя в поэме.
В повести «Другой из многих» двоящийся автобиографический герой подтверждает конфликт Григорьева с самим собой. Автор, таким образом, сводит воедино линии «головную» и «сердечную», проходившие через весь цикл его раннего творчества. Повесть подводит итог философским исканиям молодого писателя. Мотивы рока, любви, предательства, демонического искушения тут получают свое разрешение в виде победы Чабрина - двойника Григорьева, потерявшего свою любовь, над искусителем Имеретиновым, отношение к которому автора остается сочувственным.«Глупо как-то я создан», - роняет Имеретинов цитату из «Героя нашего времени», и это высказывание вполне можно адресовать самому Григорьеву, который в поздней поэме «Вверх по Волге» говорил о том, что «билася» в нем «какая-то неправильная жила», жаловался в письмах Погодину и Протопоповой на постоянную хандру. Но, несмотря на сочувствие своему отчасти духовному двойнику, Григорьев «расправляется» с ним, а заодно и со своим юношеским эгоизмом, печоринством, желанием во что бы то ни стало «премировать». В этом смысле повесть - это личное достижение молодого Григорьева, его собственная победа над собой.
Любовь к Антонине Корш, московские философские споры, петербургские метания оставались в прошлом. Григорьев возвращался в Москву уже не тем юношей, каким он уехал из нее. Тому свидетельство -духовный переворот 1848 года, на который оказала влияние книга Гоголя«Выбранные места из переписки с друзьями».***Три письма Григорьева 1848 года, адресованные Гоголю, замечательны тем, что они представляют собой как бы срез духовного состояния егоавтобиографического героя этого времени, с одной стороны, а с другой — из этих писем мы можем понять круг тех идей, которые волновали автора в тот момент. К этому времени он «немало думал» над проблемами нравственной ответственности человека за свои действия, пытался установить баланс между средой и личностью, пережил описанную нами в настоящей главе борьбу.
Свое состояние в момент создания писем герой Григорьева описывает как «болезненное душевное состояние». И, повторяя слово «болезненный», он пишет о «болезненном процессе» - «серьезном, внутреннем процессе», начавшемся в герое под влиянием книги Гоголя. В этом процессе «принесено было на жертву много личного самолюбия - тяжело расставаться с тем, за что мы все, чада волнующего века, держимся, как за доску спасения, с этими хотя и призрачными, но, тем не менее, блестящими опорами.»57 Далее Григорьев говорит о том, что «сомневаться так сомневаться уж во всем, даже в самом сомнении - от этого-то. в скептицизме лежит зачаток веры, ибо для того, чтобы усумниться в самом себе, надобно поверить во что-нибудь выше себя». Герой Григорьева тут произносит ряд ключевых для своего раннего периода слов - «личное самолюбие», «чада волнующего века», «скептицизм», «вера».
Духовные искания молодого Григорьева, как мы видели, проходили под знаком поисков веры, притом что себя герой аттестовал как «апологиста раздора». Свойственная герою Григорьева «борьба», вечное движение вперед, намерение «не остановиться ни перед какою бездною» - признаки как романтического юношеского максимализма, так и характерного и для зрелого и позднего Григорьева внимания не просто к собственному душевному процессу, но и стремления увидеть в нем черты, характерные для его «переходной» эпохи в целом.
Будучи критиком, Григорьев анализировал «движения души» современных ему авторов, то, как эти движения отразились в их произведениях. Вслед за Шеллингом исповедуя принципы «высшей объективности»,критическая ипостась героя Григорьева возводила правду личную и правду художественную к высшей правде. О критике москвитянинского периода, когда у писателя начали складываться принципы его «органической критики», еще будет идти речь, а пока необходимо отметить, что уже в письмах Гоголю автор намечает те пути развития своего героя, которыми они (и герой, и его автор) пойдут впоследствии.
Круг писателей и их произведений, о которых Григорьев говорит в письмах Гоголю, - это Герцен («Кто виноват?»), Достоевский («Двойник»), Жорж Санд («Индиана», «Консуэло», «Графиня Рудолыптадт»), Пушкин (стихотворение «Портрет»), Лермонтов (вольный перевод из Гейне «Они любили друг друга так долго и нежно.»), упоминаются Шиллер, персонажи Шекспира - Офелия, Дездемона, Миранда из «Бури», героиня Гете Миньона из романа, который Григорьев переводил и опубликовал в «Москвитянине», -«Годы учения Вильгельма Мейстера». Кроме того, естественны обращения к произведениям самого Гоголя - «Мертвым душам», «Портрету», «Шинели», «Риму», «Театральному разъезду после представления новой комедии». Таким образом, письма Гоголю - это своего рода обзор тех авторов, творчество которых волновало критика в ранний период творчества.
Это в первую очередь - Лермонтов, Жорж Санд и романтически воспринимаемый Шекспир (об отношении автобиографического героя Григорьева к образу Гамлета мы будем писать во второй части настоящей главы). Причем осмысление Жорж Санд происходит в ключе ранней эстетики Григорьева: «Чего хочется Занд - если действительно может что-либо хотеться поэту, действительно носящему в себе страдания, страсти и стремления целой эпохи?., везде и повсюду проглядывает мысль о святости истинно брачного союза, о значении женщины как помощницы и сообщницы мужа во всем благородном и великом: то Ральф и Индиана - две души, понявшие наконец свое родство и заключившие союз перед лицом девственной природы. Везде иповсюду - женщина является тем, чем она должна быть в Христовом царстве -стихиею умягчающею, влажною, везде и повсюду брак - святыня»58.
Тут критик касается «женского вопроса», понимаемого возвышенно романтически. К этому времени Григорьев уже год женат на сестре своей первой любви Антонины Корш - Лидии. Он еще верит, что брак - святыня, хотя понимает, что «современный быт семейный, и наш русский семейный быт в особенности, куда как далеки от Христова идеала». Брак самого писателя был неудачен. Однако, несмотря на это, его герой сохранит романтическую веру в «родство душ», и уже через несколько лет Григорьев встретит Леониду Яковлевну Визард (о посвященном ей лирическом цикле «Борьба» еще пойдет речь в третьей главе нашего исследования).
Отзыв о «Двойнике» Достоевского перекликается с идеями критики москвитянинского периода. «Тяжело становится на душе от этого произведения, но не так возвышенно тяжело, как от «Шинели»: нет, вы, вчитываясь в это чудовищное создание, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно ничтожным героем. Какая же тут вина, ответственность, какой суд над собою. Жил червем, умер червем - и дело кончено.»59 В этом отзыве соединяется христианское мировосприятие, которое привлекло ищущего точку опоры Григорьева к книге Гоголя, и то стремление к высшей объективности, отрицание раздробленности натуральной школы, о которой Григорьев будет писать в своих обзорах в «Москвитянине».
Жанр писем, монолога, адресованного конкретному человеку, причем человеку, чьим «учеником» и «ревностным поклонником» Григорьев себя тогда считал, сообщает критическим изысканиям автобиографического героя особую доверительность интонации. Эти письма можно воспринимать и как исповедь (сродни художественному дневнику «Листки из рукописи скитающегося софиста»), а можно и как промежуточное, пограничное явление между критической статьей и личным письмом.
58 Григорьев А.А. Письма. С.34.
59 Там же, с.32-33.
По предположению составителей комментария к письмам Б.Ф.Егорова и Р.Виттакера, «Григорьев, по примеру Белинского, предполагал знакомить публику со своими письмами к Гоголю и готовил их к распространению в копиях»60. Это предположение доказывает некоторая программность писем. Они не просто являются «исповедью веры». В третьем, последнем, письме Григорьев чуть ли не поучает своего кумира: «В Вашем письме о том, чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, — чуть ли Вы не давали советов излишних»61.
Соседство жанров панегирика, исповеди и проповеди совсем не странно, ведь все эти жанры подразумевают наличие личностного начала, в них всегда присутствует эмоциональность, оценочность. Они так же, как биографический или автобиографический жанр мемуаров, письма или дневника, взаимодействуют с личностью, а нередко и с обстоятельствами биографии их автора.
Таким образом, герой писем Гоголю - это тот же григорьевский автобиографический герой, которому свойственна синтетичность и пограничное положение между жизнью и литературой, «биографией» и«культурой», миром реальным и художественным.***Путем создания «многоликого» автобиографического героя в прозе, лирике, поэмах, письмах Григорьев осмыслил свой юношеский, романтический опыт - и книжный, и реальный. В этом смысле раннее творчество писателя, которое впечатляет своим объемом, содержит предпосылки к дальнейшему развитию автора и становлению его автобиографического героя.
60 Григорьев А.А. Письма. С.335.
61 Там же, с.34.
ВТОРАЯ ГЛАВААВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА И ГЕРОИ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО, А.Н.ОСТРОВСКОГО, И.С.ТУРГЕНЕВАДля наиболее полного уяснения сущности понятия «автобиографический герой Григорьева», думается, является необходимым поместить его в литературный контекст эпохи. Произведения современников Григорьева -Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева дают нам интересный материал как для исследования сущности григорьевского героя, так и для понимания места этого героя в литературном процессе.
Со всеми названными писателями Григорьева связывали личные отношения. Благодаря этому «биографическое» измерение творческих связей художников в процессе сравнения героев их произведений приобретает дополнительную глубину.
Однако надо быть очень осторожным в отождествлении автобиографического героя Григорьева и героев литературы. Тут мы имеем дело с явлениями принципиально разного уровня. Автобиографический герой Григорьева - это пограничное явление, объединяющее реального автора, автора как эстетическую фигуру (по Бахтину)1 и то «я» - критическое и художественное - от имени которого автор-реально существовавшая личность и автор-эстетическая фигура говорят в своих произведениях (включая письма). Таким образом, при сравнении автобиографического героя Григорьева с любым литературным персонажем «в остатке» всегда будет двоящаяся на «реальную» и «идеальную» фигура автора.
Когда в письме-исповеди Погодину Григорьев пишет про приезд в Германию: «Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра» то надо иметь в виду, что пишет это живой человек, который в данную, конкретную минуту своей жизни отождествляет себя с тургеневским персонажем. Как писал Бахтин, литературный герой - это единство, образуемое автором, он получил оформление, он находится в замкнутом пространстве художественного1 См. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 9-191.
2 Григорьев А.А. Письма. С. 224.произведения. Автобиографический герой Григорьева - это явление принципиально разомкнутое, и, проводя параллели с образами литературы, мы не должны об этом забывать. Однако сравнение автобиографического героя Григорьева с его литературными «родственниками» продуктивно в том отношении, что таким образом происходит расширение самого понятия «автобиографический герой Григорьева» за счет фона и окружения, в которое оно попадает.
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ АП. ГРИГОРЬЕВА («Один из многих», «Другой из многих») И ГЕРОЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО («Бедные люди», «Двойник»)Творчество Ф.М.Достоевского в жизни и критической деятельности Ап. Григорьева имело особое значение. Полное неприятие ранних произведений писателя (отзыв критика о «Двойнике» в письме Гоголю мы приводили в первой главе нашего исследования) сменило восторженное отношение к «Запискам из Мертвого дома». Сотрудничество с братьями Достоевскими во «Времени» и «Эпохе» окончилось разрывом, мотивированным разногласиями между Федором Михайловичем и Григорьевым на почве общих им идей почвенничества.4 Напряженные взаимоотношения Достоевского и Григорьева осложнялись отчасти сходством их темпераментов: им обоим были свойственны эмоциональные взрывы, неуступчивость в принципиальных вопросах. Однако тот факт, что именно Достоевскому была посвящена программная статья Григорьева «Парадоксы органической критики», свидетельствует о существовавшей между писателями близости - если не личной, то творческой.
Сравнение героев Достоевского и Григорьева обосновано тем, что так же, как и герой Григорьева, герой Достоевского автобиографичен.
3 Об оценке Григорьевым Достоевского см. Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Бочаров С.Г. О художественных мирах. M., 1985. С.172-176.
4 Об этом см. Осповат А.Л. К изучению почвенничества (Достоевский и Ап.Григорьев) // Достоевский. Материалы и исследования, вып.З. Л., 1978 и Гродская Е.Е. Взаимодействие общественных и эстетических взглядов Ф.М.Достоевского и Ап.Григорьева// К 60-летию профессора Анны Ивановны Журавлевой. Сборник статей. М., 1998.
С.Н.Носов в статье «Проблема личности в мировоззрении Ап. Григорьева и Ф.М.Достоевского» отмечает: «И Достоевскому, и Григорьеву была свойственна. особая исповедальность творчества, которую А.И. Герцен отметил как знамение новой литературной эпохи, утверждая в обозрении «Западные книги», что современная литература - «исповедь современного человека под прозрачной маской романа или просто в форме воспоминаний, переписки»5. Типологическая характеристика Герценом современной литературы, приведенная исследователем, подтверждается наличием личностного, автобиографического начала в литературе 40-х - 50-х годов 19 века. Это и «Записки охотника» Тургенева, и раннее творчество Толстого, и расцвет мемуарной литературы (замечательны мемуары С.Т.Аксакова и «Былое и думы» самого Герцена).
Та исповедальность, о которой пишет Носов, - это качество письма, свойственная писателям и не в строго автобиографических текстах. Б.И.Бурсов в книге «Личность Достоевского» проводит параллель между Толстым и Достоевским в плане автобиографизма, присущего их творчеству.6 Ап.Григорьев с его автобиографическим героем - это явление, не менее значимое для понимания развития автобиографической линии русской литературы 19 века, чем Толстой с его Николенькой Иртеньевым и Левиным и Достоевский с его Голядкиным, подпольным человеком и романными героями.
В этом смысле сравнение героев Достоевского и Григорьева приводит к осознанию как закономерностей литературного процесса в целом, так и к пониманию специфики их героев.
Принимая за основу тезис об автобиографичности героя Достоевского, надлежит выяснить, в чем отличие характера автобиографизма Макара Девушкина и г-на Голядкина от автобиографизма ранней прозы Григорьева.
5 Носов С.Н. Проблема личности в мировоззрении Ап.Григорьева и Ф.М.Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования, вып. 8. Л., 1988. С.52.
6 Бурсов Б.И. Личность Достоевского. Роман-исследование. Л., 1979. С.7.
Налицо разное, так сказать, качество автобиографизма героев писателей. Если у Григорьева - это не только отпечаток личности самого автора, лежащий на парах Званинцев - Севский, Имеретинов - Чабрин, но и совпадающие у героя и автора обстоятельства биографии (мотив несчастливой любви, оторванность от семьи, увлечение масонством), то у Достоевского качество автобиографизма его героев находится в совершенно другой плоскости. Это скорее общий для героя и автора психотип.
В этом смысле исповедальность, присущую творчеству Достоевского в целом и в частности его ранним произведениям, нужно понимать не как помещение автором героя в обстоятельства собственной биографии (что характерно для раннего Григорьева), а как наделение автором героя собственным психологическим складом, о котором мы можем судить по письмам писателя и по тому образу автора, который создается в его произведениях.***В науке существует мнение о родственности героя Достоевского личности Аполлона Григорьева. Так, Р.Виттакер в своей монографии «Аполлон Григорьев - последний русский романтик», характеристику писателя из которой мы еще будем анализировать во второй части настоящей главы, разбирая понимание Шеллинга критиком в письме Эдельсону, приводит характерный пассаж из этого письма: «Глубоко говорит Шеллинг, что появление нового Бога выражается первоначально в вакханалиях, неистовстве, юродстве - результатах могущественного, но не уясненного самому себе предчувствия, пламенной, но не проведенной в догматы веры. Этот момент есть и в процессах целых эпох, есть и в процессах отдельных душ, как есть во всем создании, ибо это - процесс космический». Виттакер считает, что Григорьев здесь использует философию Шеллинга для того, чтобы оправдатьп«безобразное пьянство и загулы». Исследователь делает следующий вывод:7 Виттакер Р. Аполлон Григорьев - последний русский романтик. С.213.«Порочность этого письма, как и его стиль, наводят на мысль о подпольном человеке Достоевского». Общим у Григорьева и героя Достоевского Виттакер считает и «вкус к парадоксальному».«Записки из подполья» вышли в 1864 году, году смерти Ап.Григорьева. Из письма Достоевского Страхову нам известно, что Григорьев положительно воспринял «Записки из подполья», сказав их автору: «Ты в этом роде и пиши». Однако этот общий отзыв не показывает отношения критика к герою произведения. Мы знаем, еще начиная с москвитянинского периода, о негативном отношении писателя к своевольной личности, пытающейся предъявить счет миру. Мы будем писать об этом во второй части настоящей главы.
Григорьев при всей своей «необузданности» и склонности к «безобразию» воплотил в своем герое не только «борьбу», но и поиск равновесия - и нравственного, и художественного. Не случайно его последней эстетической привязанностью стал Пушкин, в котором Григорьев видел гармоническое начало, изведавшее при этом «вся добрая и злая». Поэтому сравнение Виттакера Григорьева с подпольным человеком кажется такой же натяжкой, как и приписывание исследователем писателю исключительно. «хаотических», «буйных», «загульных» черт.
В статье В.Г.Селитренниковой и И.Г.Якушкина «Аполлон Григорьев и Митя Карамазов» проводится параллель между героем «Братьев Карамазовых» и так же, как и у Виттакера, не с героем, а с личностью Аполлона Григорьева. Высказывается следующее мнение: «Григорьев представлял собой законченный тип, избравший или создавший один определенный путь поисков идеала в тумане переходного времени. В этом смысле его собственная жизнь стала художественно-философским произведением, превышающим (как это частоАбывает) по ценности все им писанное». О спорности последнего тезиса ученых8 Селитренникова В.Г., Якушкин И.Г. Аполлон Григорьев и Митя Карамазов // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, №1. 1969. С.13.говорить, как нам кажется, излишне. Последние работы о творчестве Григорьева, признание его одним из самых глубоких критиков 19 века подтверждают «ценность» «всего им писанного».
Сравнение образа Мити Карамазова и григорьевской личности проводится в рамках «кряжевого романтизма», «ритма вихревого движения», который, по мнению исследователей, «одинаково присутствует в жизни Аполлона Григорьева и Дмитрия Карамазова», «народности» обоих характеров - и персонажа, и писателя, веры «стихийного народного происхождения», разорванности героев статьи между «двумя безднами», «двойственность» которых состоит в том, что «человек полностью отдается двум противоположным идеалам». Формулируя таким образом положение о григорьевской «двойственности», Селитренникова и Якушкин, как и Виттакер, забывают о стремлении писателя к равновесию, поиск которого стал смыслом жизни художника.
Кроме того, сравнение Мити Карамазова и Аполлона Григорьева, то есть персонажа романа и личности действительно существовавшего человека, как нам кажется, лишено научной основы. Герой произведения и личность писателя принадлежат - один - литературе, а другой - реальной жизни. Автобиографический герой Аполлона Григорьева имеет двойственную природу, принадлежит миру «реального» и «идеального», однако это именно герой, через призму творчества писателя мы рассматриваем его личность.
Таким образом, наша задача - сравнение героев Достоевского и Григорьева, которое в контексте приведенных нами точек зрений различных ученых представляется необходимым и выявляющим особенности творчества обоих художников.***Герой повести Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин, по словам Шкловского, — «униженный человек, перед которым внезапно раскрыласькартина его унижения»9. Униженность, бедность, превращающие живого человека в «ветошку», - только одна грань тематики «Бедных людей», однако немаловажная.
Постоянны жалобы молодого Достоевского в письмах родным на бедность. Например, в письме опекуну П.А. Карепину от 20 октября 1844 года Достоевский писал: «Теперь критический срок для меня уже прошел, и я остался один без надежды, без помощи, преданный всем бедствиям, всем горестям моего ужасного положения - нищете, наготе, сраму, стыду и намерениям, на которые бы не решился я в другое время»10. Характерно, что за 20 дней до этого письма (30 сентября) Достоевский сообщал брату о том, что кончает «роман в объеме Eugenie Grandet»11, то есть «Бедных людей». В момент писания повести, следовательно, Достоевский находился в отчаянном положении: он подал в отставку, был на грани нищеты. Таким образом, мы можем провести параллель между героем и автором в плане их материального положения.
Многочисленны жалобы Девушкина на бедность, на отсутствие самого необходимого. Однако даже в крайней нужде Девушкин стремится сохранить достоинство. Характерна его реплика: «И мудрецы греческие без сапог хаживали, так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться?»12Создателю образа Девушкина, несмотря на склонность к депрессиям иотчаянию, тоже было свойственно стремление сохранить достоинство в самойтяжелой ситуации. В письме брату Достоевский иронизирует, говоря о том, чтоему опекун из Москвы не присылает денег: «Если свиньи-москвичи промедлят,я пропал. И меня пресерьезно стащут в тюрьму (это ясно). Прекомическое 11обстоятельство». Эта ирония Достоевского, видение смешного в9 Шкловский В.Б. О «Бедных людях» // Шкловский В.Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957. С.30.
10 Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 тт. Л., 1972-1990. T.28, ч.1, с.101.
11 Там же, с. 100.
12 Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. M., 1956-1958. T.1, с.171.
13 Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 тт. T.28, 4.1, с.ЮО.драматических обстоятельствах собственной жизни является источником того особенного юмора Достоевского, его пародийного переосмысления драматического и даже трагического, которое характерно уже для ранних его произведений. Об этом еще будет идти речь.
В ранней романтической повести Аполлона Григорьева «Один из многих» есть персонаж, который тоже терпит лишения и нужду, как и Девушкин. Этот персонаж - Антоша Позвонцев. Мотив отсутствия денег, материальной несостоятельности, проходящий через письма Григорьева (так же, как и Достоевский, Григорьев неоднократно жаловался на безденежье, он писал в письме 1847 года из Москвы Погодину: «Я чувствую - нет, я знаю, что силы мной не растрачены, что их еще слишком много. Но есть путы, которые мешают им. Повторяю - помогите мне нравственно подняться. Путы эти -долги и болезни физические»14), воплотился в его ранней прозе и, в частности, в образе Антоши.
Этот герой появляется перед демоном Званинцевым в «очень бедном» костюме, и автор, чтобы усилить впечатление, подчеркивает: «. и бедность эта еще ярче выказывалась от необычайной неопрятности»15. Перед тем, как решиться просить у Званинцева денег, Антоша ночует «под кустами Крестовского».
Автобиографизм этого персонажа заключается не только в абсолютном безденежье («отчаянное безденежье и хандра» - спутники этого героя так же, как и его автора), но и в его прошлом - «тихая, скучная жизнь в Москве» (напомним, действие повести происходит в Петербурге - там она и создавалась Григорьевым), «полная надежд» молодость. Именно с образом Антоши связана следующая бытовая деталь: «Ему восьмнадцать лет, бедному малому, а ему каждое утро чешут головку костяным гребнем за догматическим чаем: ему больно физически, ему больнее нравственно, - но костяной гребень все-таки14 Григорьев А.А. Письма. С.21.
15 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. Т.1, с.343.чуть не до крови чешет его голову, и льются неумолкающие жалобы из уст больной матери - бедная, больная женщина!»16Именно эту «догматическую процедуру» вспоминает Григорьев в уже цитированном нами в первой главе письме 1846 года из Санкт-Петербурга к отцу, когда говорит о своей безнадежной любви к Антонине Корш: «.ребенок, которому чесали головку - я, однако, был столько благороден, чтобы1 7отречься от всяких надежд». Итак, автобиографизм образа Антоши очевиден.
Его сопоставление с Девушкиным основывается, в первую очередь, на бедности, «униженности и оскорбленности». Отсутствие самого необходимого, катастрофическая нехватка средств к существованию - лейтмотив и образа Антоши, и образа Девушкина. Автобиографичность этих мотивов, в свою очередь, позволяет сравнить этих героев в плане сходства авторского замысла. Однако - и это немаловажно - образ Антоши Позвонцева по обстоятельствамбиографии ближе его создателю, чем образ Девушкина Достоевскому.* * *Важно отметить различие форм повествования «Бедных 'людей» и «Одного из многих». Эпистолярная форма повести Достоевского (повествование от 1-го лица), на первый взгляд, должна подчеркивать слитность автора и персонажа. Напомним, именно это происходило в раннем тексте Григорьева «Листки из рукописи скитающегося софиста». Однако, как верно замечают К.Н. Атарова и Т.А. Лесскис: «I форма сама по себе является как заявкой тождества автора и повествователя» только «на поверхностном уровне»18.
Известна фраза из письма Достоевского 1846 года брату: «В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу16 Там же, с.387.
17 Григорьев А.А. Письма. С. 17-18.
18 Атарова К.Н., Лесскис Г.А. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной прозе // Изв. АН СССР, сер. лит. и яз. T.35. №4. 1976. С.346.сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может»19. Это заявление Достоевского как автокомментарий к собственному произведению, разумеется, заслуживает внимания.
Действительно, форма повествования от 1-го лица - еще не доказательство слитности автора и персонажа. Девушкин, конечно, дистанцирован от своего автора. В то время как, несмотря на повествование от 3-го лица, в повести Григорьева Антоша Позвонцев прямо автобиографичен. Однако это то, что лежит «на поверхностном уровне». Как нами было заявлено в начале этой части, автобиографизм Достоевского отличен от автобиографизма Григорьева. Тот психотип, который воплотился в Девушкине, близок психологическому складу его автора. А у Григорьева, из-за меньшей, в сравнении с Достоевским, психологизации образов, автобиографичность тогоже Антоши лежит в иной плоскости, в плоскости биографии.***Герой Достоевского уже в «Бедных людях» (потом в романных герояхпсихологический склад личности автора «выкажется» еще более полно)воспроизводит те черты характера своего создателя, которые мы можем узнатьиз его писем. Письмам Достоевского присуща сентиментальность,выражающаяся в междометиях и восклицаниях: «Боже мой! Знаю, что мыбедны» - в письме к отцу; к нему же: «Ах! Как я упрекаю себя, что был1причиной Вашего горя» ; «Беру перо, но не для того чтобы оправдываться: нет! я знаю, что вина моя, какие бы обстоятельства ни извиняли ее, далеко ниже оправданий»22 - в письме родственникам.
Та же сентиментальность, открытое выражение чувств, проявляющиеся в тех же восклицаниях и междометиях, свойственны и письмам Девушкина (сама фамилия героя указывает на нежный, отчасти женственный его характер):19 Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 тт. Т.28, ч.1, с.117.
20 Там же, с.57.
21 Там же, с.58.
22 Там же, с.64.«Квартирка-то была, знаете, маленькая такая: стены были - ну, да что говорить - стены были, как и все стены, не в них и дело, а вот воспоминания-то обо всем моем прежнем на меня тоску нагоняют.» ; «Ах, маточка моя, что это с вами!»24; «Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголке своем.»25. У этой сентиментальности, присущей автору и герою, есть оборотнаяIсторона - причем у автора она проявленнее, чем у его героя, - это жесткость, до известной степени даже некоторая жестокость выражений. Характерен пассаж из письма брату, где Достоевский сообщает о том, что остался на второй год в Инженерном училище: «До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною. Но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз. Я потерял, убил столько дней до экзамена, заболел, похудел, выдержал экзамен отлично в полной силе и объеме этого слова и остался. Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолженье года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину, отчего остался я. При 10-ти полных я имел 9 х/г средних, и остался. Но к черту все это. Терпеть так терпеть.»26 >Этот отрывок из письма Достоевского характерен именно жесткостью, выражающейся в сниженной лексике («раздавить», «подлость», «к черту»). Кроме того, в этом письме выражается бунт юноши против несправедливости, сделанной по отношению к нему. Смирение («терпеть так терпеть») похоже, скорее, на произнесенные сквозь стиснутые зубы слова, чем на искреннее христианское смирение. Об этом говорит и предыдущая (совсем не христианская) фраза («Но к черту все это»).
Девушкину тоже свойственны бунтарские настроения, несмотря на его смирение и униженность. Характерен «литературный» бунт Девушкина против «Шинели» Гоголя, которую ему прислала Варенька. Об этом бунте пишет С.Г.Бочаров. Главное в эпизоде, по замечанию исследователя, - это то, что23 Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. Т.1, с.87.
24 Там же, с.90.
25 Там же, с. 145.
26 Достоевский ПСС: В 30 тт. Т.28, ч.1, с.53.«Девушкин чувствует так: в его конуру пробрались и подсмотрели чужуюскрытую жизнь»27. Нас же интересует именно бунт как таковой,противоречащий отчасти «овечьей» натуре героя (в одном из писем братуДостоевский отмечает у себя наличие «овечьей доброты»).
Интонация повествования меняется, когда Девушкин говорит овозмутившей его «книжке». Он упрекает Вареньку: «Дурно, маточка, дурно то,28что вы меня в такую крайность поставили». Этот выговор совершенно не согласуется с обычным для героя восхищенным, умиляющимся тоном, которым он обращается к своей «маточке».
Девушкин воспринимает «Шинель» как ропот человека на судьбу и Бога: «. всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим Богом»29. Воспринимая повесть Гоголя как упрек в собственный адрес, Девушкин к тому же считает эту книжку «злонамеренной» и «истинно удивляется», «как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились»30.
Таким образом, этот бунт Девушкина против «обиды», нанесенной, как ему кажется, не только самому герою, но и всему чиновничьему мирозданию (своим социальным положением Девушкин гордится и считает, что место переписчика - это место, отведенное ему Богом), оказывается «охранительным», «репрессивным» бунтом, бунтом против бунта. Совсем на другой бунт решается герой в связи со своим отношением к Вареньке Доброселовой. И уже это «вольнодумство» роднит его с автобиографическим героем Аполлона Григорьева.
27 Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 184.
28 Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. T.l. С.144.
29 Там же.
30 Там же, с.146.* **Как мы уже сказали, Девушкин считает собственное социальное положение чиновника - опорой, местом, отведенным ему Богом. Он «в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия -никогда не замечен», ему «даже крестик выходил»31. Отношения героя с Варенькой Доброселовой дарят Девушкину радость, придают его существованию смысл, однако (и это для нас главное!) разрушают привычную для героя иерархию мира и даже лишают его уверенности в жизни.
Именно из-за Вареньки Девушкин жертвует последним. Против него ополчаются хозяйка и Ратазяев, его поднимают на смех: «Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиция - все потеряно!. Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хозяйка просто бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня, ниже щепки поставила. А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Величали, величали нас, хохотали, хохотали, предатели!»32Девушкина называют «Ловеласом», и это трагикомическое прозвание (Девушкин так же похож на коварного обольстителя, как его сосед Ратазяев на талантливого писателя; это то самое пародийное пересмешничество Достоевского, о котором пишет Тынянов33) проявляет то ложное положение, в котором очутился герой из-за его отношений с Варенькой. Причем это положение ложно и в смысле вывертывания наизнанку истинной ситуации -окружающие приписывают Девушкину несуществующий роман (то есть буквально - о герое измышляется ложь), и в смысле реальности перевернутости тех обстоятельств, в которых Девушкин очутился из-за Доброселовой - он31 Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. T.l. С.145.
32 Там же, с. 168.
33 См. Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии). //Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.запил, загулял, «попал в историю». «Ну, а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадай, тут уж и падение!»34 Появляется впечатление, что говорит это не кроткий Девушкин, а Митя Карамазов, падающий в бездну «вверх пятами».
Хотя и тут Девушкин находит «лазейку» (Бахтин): «Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват». Эта ссылка на судьбу роднит Девушкина с героем раннего Григорьева (с героем лирики, который «не ждал ничего от судьбы», поскольку был уверен, что все предрешено, и с Антошей Позвонцевым, который был «покорен решению рока»).
Однако позднее Девушкин раскается и будет писать Вареньке: «Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт»35. Слова «дебош и азарт», как кажется, совсем не вяжутся с «голубиной» натурой героя. Однако он из-за отношений с Варенькой проходит период именно бунта, пускай и не вполне осознанного, в том числе и против основы своего существования - от его «дебоша и азарта» страдает, в первую очередь, служба.***Описание жизни и судьбы Антоши Позвонцева Григорьев начинает с момента деклассированности, бедности и униженности его положения, в котором Девушкин оказывается из-за отношений с Варенькой. Позвонцев все потерял не только из-за долгов, но и потому, что не мог соответствовать общему укладу мироздания. Как мы уже писали в первой главе, сам молодой Григорьев ощущал романтическую отторгнутость от жизни и людей, писателю в ранний период творчества были свойственны печоринские настроения.
Григорьев последовательно воспроизводит те социальные роли, которые играл Позвонцев: примерный сын, «головку» которого «чешут» «костяным34 Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. Т.1 С. 172.
35 Там же, с.191.гребнем», примерный студент, сидящий «на лавке против кафедры», «в голове» которого «совершается умственный процесс» (невозможно не узнать в этом студенте самого автора, слушающего курс в Московском университете), «солидный молодой человек», который «стяжал себе. уважение глупцов и дружбу лицемеров», наконец, влюбленный, перед которым «мелькает легкий, воздушный образ девочки» с «голубыми глазками»36 (в этом «образе» автор изображает, конечно, свою первую любовь - Антонину Корш). Перед девушкой Позвонцев тоже играет роль - роль «демона» - «он будет демоном, если она может любить только демона».
Эти роли из-за ретроспективности повествования (все перечисленное -это воспоминания Позвонцева) представляются ему «фантастическими призраками». Такое сравнение создает мотив нереальности происходившего с героем, что усугубляет его отторгнутость от мира. Позвонцев не смог вписаться ни в одну из этих ролей, что мотивировано автором «гордостью» героя.
При явном отличии образов Макара Девушкина и Антоши Позвонцева (Позвонцев еще молод, Девушкин стар, Девушкин - чиновник, Антоша находится вне социальной иерархии) этих героев сближает несоответствие и одного, и другого их социуму. Причем у Позвонцева это несоответствие мотивировано его гордой натурой (то есть внутренними, психологическими причинами - так же, как и невписанность в стандартный жизненный уклад самого Григорьева в Петербурге), в то время как «вольнодумство» и «либеральные» мысли и поступки Девушкина объясняются во многом внешними причинами - его дружбой с Варенькой Доброселовой.
Позвонцев выбирает себе в покровители демона Званинцева, который является для него идеалом. Званинцев дает ему деньги, крышу над головой, дарит свою дружбу. Катастрофическая развязка линии Позвонцева в повести «Один из многих» (самоубийство Антоши) является парадоксальным образом через бунт против героя против своего благодетеля (и в конечном итоге, противтой роли, которую отведено было ему играть в жизни: «К чему жить, когда я не умею властвовать жизнию. Быть может, есть иные сферы, где все, что сдавлено земною оболочкой, найдет простор и широкие размеры» - пишет Позвонцев в своем предсмертном письме) утверждением метафизического начала над физическим, вечности над бытом, души над телом.
Такое романтическое разрешение основного для раннего Григорьева конфликта сближает образы Позвонцева и Девушкина. Девушкин в конце тоже терпит катастрофу — Варенька уезжает. Повесть «Бедные люди» кончается рыданием Девушкина: «Голубчик мой, родная моя, маточка моя!» В произведении Достоевского, таким образом, тоже происходит утверждение духовного, а не материального - ради Вареньки герой жертвует, как мы уже писали, основой своего существования - собственным социальнымположением. С отъездом Вареньки для героя теряется смысл жизни.***Оба произведения - и «Бедные люди», и «Один из многих» относятся к ранним и в творчестве Достоевского, и в творчестве Григорьева. Через героев этих повестей оба молодых автора пытались обрести себя в этом мире. Колебания Девушкина между «службой» и «дружбой» (напомним, именно в момент писания «Бедных людей» Достоевский вышел в отставку), гордость Антоши, его нравственные взлеты и падения - выражение поисков молодых Достоевского и Григорьева.
Достоевский в результате опубликования «Бедных людей» «проснулся знаменитым». Однако процесс поисков и обретения себя через «сомнения и тревоги» продолжился в «Двойнике» - произведении, сравнение героя которого с двоящимся автобиографическим героем Григорьева представляется необходимым.* * *Мы уже писали в первой главе нашего исследования о специфике двойничества в раннем творчестве Аполлона Григорьева. Дуализм его автобиографического героя в прозе воплощается в парах Званинцев - Севский («Один из многих»), Имеретинов - Чабрин («Другой из многих»). Особенность этих персонажей в том, что они являются двумя ипостасями единого героя - в них выражается стремление «премировать», демоническое, активное начало (Званинцев, Имеретинов) - с одной стороны, и склонность к самопожертвованию, «страдательное», пассивное начало (Севский, Чабрин) - с другой. «Страдательные» герои подчиняются своим «демоническим» врагам-наставникам.
У Достоевского в «петербургской поэме» «Двойник» раздвоенность главного героя - Якова Петровича Голядкина оказывается порождением больного рассудка персонажа. По замечанию Н.М.Чиркова, «в этой повести, по1 Осуществу, устраняется двупланность Гофмана». Это наблюдение исследователя, как нам кажется, следует понимать в том смысле, что Достоевский в «Двойнике» идет дальше романтиков. Его интересует, в первую очередь, психологическая разработка образа, а не «наглядная иллюстрация» бинарности романтического бытия.
Следует, во-первых, сопоставить Григорьева и Достоевского в плане присущего создателю «Одного из многих» и «Другого из многих» юношеского максималистского романтизма и одновременно (в образе Чабрина) до известной степени его преодоления и наполнения автором «Двойника» романтической проблемы двойничества новым «психологическим» содержанием, а во-вторых, сравнить качество автобиографизма парных героев Григорьева и обоих «господ Голядкиных».
38 Чирков H.M. О стиле Достоевского. М., 1967. С.5.***«Петербургская поэма» «Двойник» не случайно отчасти разочаровала Белинского, ждущего от молодого автора после «Бедных людей», вероятно, такого произведения, которое было бы столь же «социальным» и «натуральным». Фантастический колорит «Двойника» оттолкнул критика-рационалиста. Однако эта повесть является продолжением линии «Бедных людей» в плане поиска героя Достоевским.
Характерно то, что если в Макаре Девушкине мотив поиска героем себя (выражающийся и в поисках своего слова) сочетался с социальной ущемленностью героя, и эта «натуральность» отчасти «затемняла» психологическую разработку характера, то в «Двойнике» социальный элемент (служба Голядкина в департаменте) не мешает сосредоточенности автора на внутренней борьбе, раздирающей, причем буквально, душу героя. В повести мы наблюдаем своего рода реализацию метафорического выражения «борьба в душе» (мы помним, что понятие «борьбы» было основным для творчества Григорьева - и для раннего его периода, в частности).
Голядкин борется сам с собой, а не только со своими «врагами», которых он маниакально видит повсюду. Основа этой борьбы - отторжение собственной личности. Он «как будто сам от себя спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет»39. Бесконечные внутренние диалоги героя («Голядка ты этакой»), в конце концов, порождают второго господина Голядкина, вытесняющего «истинного», «правдолюбивого» господина Голядкина старшего. Таким образом, основа раздвоения личности - это внутренняя борьба героя с самим собой, объясняемая автором медицинским диагнозом, а главным образом, реализованная в доведении до логического конца раздора между «я» настоящим и «я» враждебным.
Голядкин так же, как и Девушкин, уверяет себя в собственной, с одной стороны - «благонамеренности», а с другой - «амбиции». Борьба за свою честь(предложение Голядкину младшему стреляться на пистолетах), протест против намерения «врагов» обратить его, живого человека, в «ветошку» - лейтмотивы этого образа.
Появление в жизни Голядкина старшего его двойника обусловлено не только желанием героя «спрятаться» от самого себя, но и вытеснением, «остранением» тех психологических черт, которыми персонаж желал бы обладать и которые ему одновременно ненавистны. Эти черты - та самая «амбиция», проявляющаяся в желании первенствовать, угодить начальству, казаться (а не быть в самом деле) лучшим и «достойнейшим».
При возникновении господина Голядкина младшего «истинный» господин Голядкин заводит с ним дружбу. Причем в начале этой дружбы «хитрец» и «мошенник» притворяется «бедным человеком» (обратим внимание на вновь появляющийся после «Бедных людей» мотив униженности и оскорбленности, которые впоследствии оказываются мнимыми), «человеком затерянным», который «пострадал весьма много»40. В этом отношении Голядкин младший - волк в овечьей шкуре.
С другой стороны, декларации Голядкина старшего о том, что он «душа правдивая», «маску надевает лишь в маскарад», «человек простой, незатейливый», отчасти являются именно маской. Встретив своего двойника, Голядкин с радостью соглашается быть его «покровителем», собирается с его помощью «интригу вести в пику им». Раздвоенность изначально заложена в герое. Он уверяет себя в собственном «правдолюбии» и «незлобивости», а между тем хочет власти, хочет сокрушить всех «врагов» своих, даже путем интриги.
Таким образом, как мы уже писали, романтический дуализм Достоевский переводит в психологический план. Путем тщательной разработки психологии персонажа, через нюансы внутреннего диалога автор, развивая бинарные мотивы истинности - ложности, гордыни - смирения, создает образ, который,по сравнению с героем предыдущего его произведения, является более характерным для того самого «фантастического реализма», который наиболее полно воплотится в зрелом творчестве писателя.
Парные герои Аполлона Григорьева Севский и Званинцев, являющиеся двумя ипостасями единого автобиографического героя, - такие же двойники, как Голядкин старший и Голядкин младший. Между персонажами Григорьева та же дружба-вражда, как и между героями-двойниками Достоевского. Званинцев в разговоре с Севским, «вперивши в молодого человека неподвижный, сильный, магнетический взгляд», спрашивает свою жертву: «Вы очень меня ненавидите?»41 При этом Званинцев ищет дружбы Севского, признается, что любит в нем «самого себя», хочет быть его покровителем.
Как мы видели, Голядкин младший тоже искал дружбы Голядкина старшего. А последний, считая второго Якова Петровича жертвой обстоятельств, соглашался на эту дружбу и хотел быть так же, как и Званинцев, «благодетелем» «гонимого судьбой» фантома. Потом герои Достоевского меняются местами: Голядкин младший занимает место Голядкина старшего, вытесняет его из жизни. «Истинного» господина Голядкина помещают в финале в сумасшедший дом.
Званинцев, опекая Севского, способствуя его женитьбе на Лидии, сам любит эту девушку и добивается взаимности. В конце повести Званинцев и Лидия оказываются вместе. (Об избавлении Лидии от позора мы еще будем писать во второй части настоящей главы.) Таким образом, Званинцев так же, как двойник у Достоевского, вытесняет Севского, происходит подмена.
Желание Званинцева оказываться всегда рядом с Севским («Вечно, везде, где бы вы ни были, вы меня встретите; таков рок»42) параллельно неразлучности Голядкина старшего и Голядкина младшего. «Настоящий» Яков Петрович ищет своего «врага» себе на погибель. Погоня «истинного» героя за41 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.l. С.340.
42 Там же.своим двойником, маниакальное желание отомстить плоду своего больного воображения обнажает соединение в повести Достоевского мотивов мнимости и реальности, фантастического и натурального бытия.
Эти мотивы присутствуют и в повести Григорьева «Один из многих». Таинственность Званинцева, его «вездесущесть», как мы уже писали в первой главе, являются демоническими чертами. За реальным обликом человека «в черном бархатном сюртуке» скрывается Мефистофель. Благородный Севский против своей воли подпадает под влияние своего старшего друга, на самом деле, вовсе не друга, а врага. Званинцев играет роль опекуна юноши, но в действительности - это только маска. Не случайно Брага, истинный друг Севского, обвиняет Званинцева в кознях и интригах.
Таким образом, и в повести Достоевского, и в повести Григорьева присутствует двупланность. Отличие этих произведений в том, что текст Григорьева является всецело романтическим. Демонические черты в Званинцеве на первом плане, он, что называется, демон во плоти.
Типична для романтизма и любовная интрига повести, как и в лирике раннего Григорьева, воплощающая мотив любви демона к юной девушке. (Для нас сейчас неважно то, что пятнадцатилетняя Лидия не слишком похожа на ангела - она избалованна и капризна. Нас интересует архетипический романтический мотив, восходящий к западноевропейскому романтизму, а в русской литературе нашедший отражение в лермонтовском «Демоне».) Итак, в повести Григорьева романтическая двупланность реализована в сочетании метафизичности и ее конкретного воплощения. В то время как с героем Достоевского все сложнее. Тут мы наблюдаем, как нами уже было заявлено, наполнение этой двупланности психологическим анализом раздвоенной личности героя.
Необходимо отметить пародийность (о которой мы уже писали) романтических клише в «Двойнике». Когда автор пишет о «страшном, испепеляющем взгляде», «выразительном, сверкающем взгляде» господинаГолядкина, то контекст описания этого взгляда - диалог с Крестьяном Ивановичем - врачом (а вовсе не врагом!) героя. Вспомним «магнетический» взгляд Званинцева, которым тот смотрел на Севского. Разница описаний этих «демонических» взглядов - в различном авторском отношении к героям. Званинцева Григорьев воспринимает как настоящего демона, молодому автору еще близко романтическое восприятие мира (в том числе в его традиционном варианте). В то время как Достоевский смеется над клишированным романтизмом, пародирует такую важную, устойчивую черту внешности романтического героя, как взгляд. Таким образом, мы видим разное отношениек романтизму авторов «Двойника» и «Одного из многих».***Угол авторского зрения на героя в случае с Достоевским и Григорьевым зависит и от степени, как уже было сказано, автобиографичности персонажей. Господин Голядкин - герой явно автобиографический, на нем, как и на Макаре Девушкине, лежит печать психологического склада его создателя. В письме брату от января - февраля 1847 года Достоевский говорил: «Но скоро ты прочтешь «Неточку Незванову». Это будет исповедь, как Голядкин, хотя в другом тоне и роде»43. Авторское признание того, что «Двойник» является исповедью, заставляет нас взглянуть на эту повесть с точки зрения поисков общего между автором и его героем.
Отторжение героем собственной личности было свойственно и его создателю. Он писал отцу о своей переписке с братом: «. недавно получил от <него> клочок исписанной бумаги, где он на меня нападает донельзя за мое мнимое к Вам молчанье, и, признаюсь, этим письмом оскорбил меня до глубины души, выставив меня перед самим собою прежалким созданьем. Я пропустил это мимо, потому что его посланье не ко мне писано. Я считаю себя гораздо лучшим, нежели с кем он ведет подобную переписку»44. Мотив мнимости и реальности в этом письме (несправедливое обвинение брата в43 Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 тт. Т.28, ч.1. С.139.
44 Там же, с.59.мнимом проступке, мнение адресата о себе самом как о лучшем, нежели тот «умышленный» человек, к которому «писано» письмо) делает сходство персонажа и его создателя очевидным.
Господин Голядкин так же, как и Достоевский в этом письме, стремился быть «совсем другим», отличным от того, кем его считают «враги». М.М.Бахтин писал, что, по Достоевскому, «в человеке всегда есть что-то, что только сам он может открыть в свободном акте самосознания и слова, что не поддается овнешняющему заочному определению»45. Исследователь говорил это в связи с бунтом Девушкина после прочтения гоголевской «Шинели» (об этом «бунте» мы уже писали), однако мнение Бахтина согласно его концепции можно распространить на всех героев Достоевского — в частности, и на героя «Двойника», и, что для нас важно, на его автора.
Достоевский так же, как и его герой, боялся чужого несправедливого мнения о нем, о его поступках. В молодом писателе присутствовало желание абсолютной свободы, которая, конечно, возможна только при отсутствии «овнешняющего» взгляда на личность. Протест Голядкина против обращения его в «ветошку» был свойственен и его создателю. Достоевский боролся за человека в человеке. Обостренное чувство собственного достоинства, присущее ему на протяжении всей жизни и воплотившееся в его героях, находит отражение уже в «Двойнике».
Про автобиографизм парных героев в раннем творчестве Григорьева мы уже писали в первой главе нашей работы. В повестях «Один из многих» и «Другой из многих» мы наблюдаем процесс становления героя Григорьева, который происходит путем «остранения» романтических переживаний молодого автора. В образах Чабрина и Имеретинова из повести «Другой из многих» проявляется победа автора над печоринством и демонизмом.
Убийство Чабриным своего друга-врага на дуэли пародийным образом воспроизводится Достоевским: Голядкин старший предлагает Голядкину45 Бахтин M.M. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С.98-99.младшему стреляться на пистолетах. Мы уже говорили об отличии отношения Достоевского и Григорьева к романтизму. В развязках повестей «Двойник» и «Другой из многих» выражается разный характер романтического мировосприятия авторов. Если Чабрин одерживает победу над Имеретиновым («жертва» побеждает своего «мучителя»), то «истинный» господин Голядкин терпит поражение от своего «второго я» - попадает в сумасшедший дом.
Надо сказать, что тема сумасшествия волновала Достоевского. Он писал в одном из писем брату, что у него «есть прожект сделаться сумасшедшим». В другом письме Михаилу Михайловичу сказано: «В «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Мне до сих пор как-то страшно»46. Достоевский явно проецировал судьбу «немецких поэтов» на собственную. Психическая неуравновешенность автора «Бедных людей» и «Двойника» нам известна. Герой его более позднего романа «Идиот» князь Мышкин - эпилептик (таковым был и его автор). Но Аглая Епанчина верно говорит, что у Мышкина есть «главный ум». Таким образом, психическая нестабильность' господина Голядкина так же автобиографичны, как и мотивы оскорбленной «амбиции», желание самоутвердиться.
Григорьев «остранял» в своем герое Чабрине из последней романтической повести близкие ему мотивы несчастливой любви, личной неустроенности, а обрисовка «вырождающегося демона» Имеретинова свидетельствовала о преодолении печоринства и демонизма. То же самое мы можем сказать и об авторе «Двойника». Выскажем предположение, что в романтически трагической развязке своей «петербургской поэмы» Достоевский, проецируя судьбу «немецких поэтов» на судьбу «несчастного» Голядкина, таким образом исповедовался, говоря о том, что глубоко его волновало уже в ранний период творчества. Итак, при всем отличии авторского отношения к героям «Двойника» и повестей «Один из многих» и «Другой измногих и самих этих героев - налицо явное сходство, во-первых, в мотиведвойничества, а во-вторых, в автобиографизме персонажей.***Типологическое сходство ранних героев Григорьева и Достоевского - в автобиографизме персонажей отражает общее состояние русской литературы в тот период. Поиски авторов в этом направлении продолжатся в последующем творчестве писателей. Однако отмеченное и проанализированное разное качество автобографизма героев художников позволяет говорить о разных способах отражения личности автора в своем герое. Явление же автобиографического героя Григорьева в его слитности с личностью автора абсолютно уникально, что будет ясно из дальнейших частей настоящей главы. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ АП. ГРИГОРЬЕВА И ГЕРОЙ МОСКВИТЯНИНСКИХ ПЬЕС А.Н.ОСТРОВСКОГОВ науке прочно установилось мнение, что Островский наряду с Гоголем и Пушкиным был самым важным писателем для Григорьева. Б.Ф.Егоров в своей монографии выстраивает следующую иерархию (по значимости для критика): Гоголь - далее Островский - и, наконец, Пушкин. Развитие автобиографического героя Григорьева (его критической ипостаси) шло именно в таком направлении, однако нельзя не заметить, что и поздний Григорьев будет признавать Островского единственным современным ему автором, с которым у него «все общее».
О «молодой редакции» погодинского «Москвитянина», ведущими сотрудниками которой были Григорьев и Островский, написано немало47. Все исследователи указывают на славянофильский уклон взглядов москвитянинцев, пишут о зарождающемся в их творчестве почвенничестве.
47 См. Бочкарев В.А. К истории молодой редакции «Москвитянина» // Ученые записки Куйбышевского педагогического института, 1942, вып.6, с. 180-191; Венгеров С.А. Молодая редакция «Москвитянина». Из истории русской журналистики // Вестник Европы, 1886, № 2, с.581-612; Виттакер Р.Аполлон Григорьев -последний русский романтик. СПб, 2000, с. 90-127; Дементьев А.Г. Очерки по истории русской журналистики 1840-1850 гг. M. - Л., 1951, с. 221-240; Егоров Б.Ф. 1) Очерки по истории русской литературной критики середины XIX в. Л., 1973, с. 27-35; 2) А.Н.Островский и «молодая редакция» «Москвитянина» // А.Н.Островский и русская литература. Кострома, 1974, с. 21-27; 3) Аполлон Григорьев. M., 2000, с. 90-120; Журавлева А.И. - «Островский-комедиограф» (M., 1981, с. 29-37) и «Русская драма и литературный процесс XIX века» (M., 1988, с. 53-70); Лакшин В.Я. A.H. Островский. M., 1976, с. 132-179.
Общественная позиция Григорьева и Островского как членов «молодой редакции», действительно, была близка взглядам славянофилов, однако А.И.Журавлева замечает: «В какой степени славянофильство было теоретическим литературным убеждением по своим истокам, в такой же слагавшиеся в москвитянинском кружке ранние формы будущего почвенничества вырастали из житейских впечатлений, из непосредственного прикосновения к почве городского простонародного быта, который в патриархальной Москве был еще очень связан с мужицким, крестьянским»48. Отличие москвитяницев от славянофилов отмечает и Лакшин.
Интересно, что в юности, будучи студентами Московского университета, и Островский, и Григорьев с сочувствием относились к западническим гегельянским идеям Грановского. Григорьев до конца жизни сохранил симпатию (с известными оговорками) к Герцену, а Островский, как известно, из «Москвитянина» ушел в «Современник».
Тот же Герцен был прав, говоря про отношения западников и славянофилов: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»49. Это слова из герценовского надгробного слова Константину Аксакову, они вошли в переработанный вариант главы «Былого и дум», посвященной полемике между западниками и славянофилами. Для нас важно признание «революционера», гегельянца и западника Герцена в симпатии к будто бы идейным противникам.
После преследований славянофилов в конце 40-х годов и общего «государственного похолодания» в России из-за французской революции48 Журавлева А.И. «Русская драма и литературный процесс XIX века». С.55.
49 Герцен А.И. Собр.соч.: В 30 тт. M., 1954-1963. Т.5. С.171.
1848года к моменту формирования «молодой редакции» (1850-йгод) горячие споры между западниками и славянофилами, описанные Герценом, уже стихали. А «ранние формы будущего почвенничества» еще только давали о себе знать. Кружок Островского и Григорьева, таким образом, по его «идейным взглядам» трудно привязать к определенному направлению общественной мысли. Это было, по меткому выражению Журавлевой, «литературно-бытовое содружество» с интересом к народной песне, быту купцов и городского простонародья, с отталкиванием от уже мертвеющих форм как западничества, так и славянофильства. Поэтому вполне объяснимо отношение Григорьева к этим двум направлениям: «Мы не ученый кружок, как западничество и славянофильство: мы - народ»50.***Сравнение автобиографического героя Григорьева с героем москвитянинских пьес Островского правомерно, но осложнено разницей жанров - критики, лирики, прозы и писем, с одной стороны, и драмы - с другой. Герой драмы, в особенности комедии Островского, связан с автором опосредованно. Как верно замечает Лакшин про создателя национального театрального репертуара, «в его пьесах есть благородные резонеры, но нет лиц, в которых мы узнали бы автора»51. Иными словами - мы не можем говорить о герое Островского как об автобиографическом герое, в отличие от героя Григорьева.
Жанр реалистической драмы подразумевает объективность сценического действия. В классицистической драме, например, Фонвизина Стародум из «Недоросля» выражает идейную позицию автора. В «Ревизоре», как известно, только один положительный персонаж - смех (Григорьев: «В «Ревизоре» уже смех только выступил честным и карающим лицом»52).
50 Григорьев А.А. Сочинения в двух томах. T.2. С.384.
51 Лакшин В.Я. А.Н.Островский. M., 1982. С.4.
52 Собрание сочинений Аполлона Григорьева в 14 тт. / Под ред. В.Саводника. M., 1915-1916. Вып.9. С.20.
В народной комедии и драме Островского («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется») всегда есть положительный персонаж (Ваня Бородкин, Любим Торцов, Илья Иванович), однако прямой автобиографичности в этих героях нет. Характерно то, что персонажи раннего Островского связаны не с личностью самого драматурга, а с психологическим складом автобиографического героя Григорьева.
Критик, как известно, был дружен с Островским, был первым, кто открыл его «новое слово» для широкой публики. «Воплощенная русскость» (восприятие Григорьева и современниками, и потомками), критик и сотрудник Островского по «Москвитянину», по нашему предположению, явился во многом некоторым образцом и даже «психологическим прототипом» для драматурга в создании героев (при чем не только положительных) его ранних пьес.
Таким образом, при известной трудности сравнения героя драмы и героя критики, лирики, прозы, писем в данном конкретном случае это сравнение,повторяем, правомерно. >***Первая пьеса Островского москвитянинского периода - это «Не в свои сани не садись». В этой пьесе русский характер представлен двумя персонажами - купцом Русаковым и женихом его дочери Дуни Ваней Бородкиным. Тип Русакова - это тип кряжевого купца, такого же «энергического» и «кряжевого», по выражению Григорьева, человека, каким был дед критика. Жизнь деда Григорьева была «многодельной» и «многотрудной», он «пробивал себе дорогу лбом»53. Придя в Москву «в нагольном полушубке», он сделался настоящим барином.
Сравнивая Русакова - потомственного купца и деда Григорьева, попавшего из простых в дворяне, мы не соотносим, разумеется, их социальныеположения. При разнице в образовании (дед Григорьева был страстным библиофилом, а Русаков знает только свое дело, не пускается, в отличие от Гордея Карпыча из «Бедности не порок», в «фальшивую образованность») героя пьесы Островского и персонажа «Моих литературных и нравственных скитальчеств», как нам кажется, роднит «кряжевость», «энергичность», та «основательность к жизни», на отсутствии которой в современной купеческой молодежи жалуется Русакову Бородкин.
Русаков - вовсе не сусальный, не «розовый» русский образ. «Бить некому!» - восклицает он про ту же молодежь в том же разговоре с Бородкиным. «Мы, бывало, страх имели, старших уважали»54. Тех гипертрофированных черт самодурства, как в Большове из «Банкрота», как в Диком из более поздней «Грозы», в Русакове, конечно, нет. Его сожаление о желании купеческой молодежи «жить по моде», намерение «учить» («палка-то по них плачет») - оборотная сторона «кряжевости» и «основательности».
Родители отца Григорьева запретили сыну жениться на дочери их семейного кучера, бывшей крепостной, из-за чего младенец Аполлон изначально считался незаконнорожденным. Упрямство Русакова, его гневная реакция на побег Дуни причиняют героине дополнительные страдания. Благополучная развязка «Саней» осложняется пережитым Дуней позором. Замуж выходит уже не та наивная и патриархальная девушка, которая была влюблена в Бородкина с детства. Влияние на ее судьбу «героя-цитаты» (Журавлева) Вихорева оказалось настолько сильным, что едва не разрушает патриархальный мир пьесы. Бородкин является избавителем и спасителем девушки.
Интересно проследить общие мотивы - увоза и избавления от падения - в пьесе Островского и повести Григорьева «Один из многих». У Островского увоз девушки - это позор, бесчестье. Ипостась автобиографического героя Григорьева Званинцев тоже увозит Лидию, однако тем самым он спасает ее отучасти стать женой барона, который «покупает» пятнадцатилетнюю героиню у ее отца. Званинцев, сам будучи автором многочисленных интриг, избавляет Лидию от страшной участи «проданной вещи» (важный мотив для всего творчества Островского, начиная с торга между Болыиовым и Подхалюзиным, в котором дочь купца Липочка должна была стать наградой приказчику за то, что он окажет услугу своему «благодетелю», превратив его в мнимого банкрота; Болынова обманут в результате и дочь, и Подхалюзин).
Однако различие между Бородкиным и Званинцевым очевидно. Бородкин берет Дуню в законные жены, таким образом смывая позор, виновником которого был Вихорев, увезший девушку тайно. Званинцев же привозит Лидию к себе без венчания. С точки зрения молодого Григорьева, тогдашнего поклонника «эмансипированной» Жорж Санд, поступок Званинцева благороден. Для патриархального мира Островского такой выход из ситуации, конечно, невозможен.
Отличие функциональных ролей Бородкина и Званинцева в «нравственных концепциях» произведений свидетельствует о разнице не только между моралью москвитянинских пьес Островского и автобиографического героя раннего Григорьева, но и об изменении самого героя Григорьева в период существования «молодой редакции». Объявив в обзоре «Русская изящная литература в 1851 году», что «Печорин, который развился под влиянием обстоятельств, чуждых настоящему русскому быту. уже для нас, в настоящую минуту, мираж, призрак»55, критик очерчивает тем самым новый духовный и моральный облик - свой и своего героя. В москвитянинский период герой Григорьева окончательно прощается с демонизмом и печоринством, что доказывает его отношение к народным пьесам Островского вообще и к комедии «Не в свои сани не садись» в частности.
55 Собрание сочинений Аполлона Григорьева в 14 тт. / Под ред. В.Саводника. Вып.9. С.10.
Григорьев упрекал в статье 1855 года «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене» современную ему критику в том, что она считает, будто Русаков и Бородкин «не могут существовать». Это значит, что сам Григорьев считал правдивость изображенных у Островского типов не подлежащей сомнению. Основой убежденности в достоверности персонажей Островского был григорьевский тезис о том, что «гениальная натура, при всей своей крепкой и несомненной самости или личности, является, так сказать, фокусом, отражающим крайние, истинные пределы современного ей мышления, последнюю, истинную степень развития общественных понятий и убеждений»56. Такими «истинными убеждениями» для москвитянинцев являлась вера в народ, в его патриархальную мораль. Поэтому и Островский, изображая кряжевого Русакова и отчасти несовременного Бородкина верил в их «безусловное существование». Не случайно пьеса, по замечанию Григорьева, пользовалась успехом у современной писателю публики.
Наш вывод не опровергает мнение Журавлевой о «несколько условном мире» пьесы. Ведь исследователь пишет о том, что в ней «драматург попытался воспроизвести, опоэтизировать простонародные патриархальные отношения в очищенном от современных искажений виде»57. Эти «искажения» присутствуют в пьесе за пределами сцены (вспомним диалог Русакова и Бородкина о купеческой молодежи). На сцене же, действительно, царит патриархальный лад, нарушаемый Вихоревым, пришедшим извне.
Для Григорьева и Островского в москвитянинский период столкновение патриархальной среды, «кряжевости» и «своевольной» личности, безусловно, существовало. Однако в «Санях» оно не проявлено. Пьесами, являющимися иллюстрацией этого конфликта, можно считать комедию «Бедность не порок» и народную драму «Не так живи, как хочется».
56 Собрание сочинений Аполлона Григорьева в 14 гг. / Под ред. В.Саводника. Вып.9. С. 12.
57 Журавлева А.И. Островский-комедиограф. М., 1981. С.87.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Автобиографический герой Аполлона Григорьева"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автобиографический герой Аполлона Григорьева, воплощенный в многогранном творчестве писателя (поэзия, проза, критика, письма), представляет собой синтетическое явление, расположенное на границе художественного мира литературы и мира реальной действительности. Проведенный анализ раннего и позднего периодов творчества Григорьева позволяет говорить о пути становления героя.
Для раннего героя Григорьева была характерна раздвоенность между двумя оппозиционными полюсами, которые конкретно выразились в создании в романтической прозе парных героев. Ранняя проза, являясь психологической моделью развития юноши Григорьева, представляла собой остранение переживаний его героя ("домашняя догма" в родительском доме, неразделенная любовь к Антонине Корш, увлечение масонством). Тот же мотив остранения присутствует и в лирике, и в поэмах.
Художественная ценность раннего творчества Григорьева возрастает благодаря такому остранению автобиографических черт в герое. Повесть "Другой из многих" принадлежит уже не жанру "эстетического дневника", а жанру "остраненной прозы".
Раздвоенность между желанием "премировать", "печоринствовать" -демонической ипостасью героя и склонностью к смирению и принятию существующего порядка вещей - приближение к более позднему "почвенничеству", "смирению перед народной правдой" - "страдательным" воплощением того же героя - приводит к перелому, выраженному в письмах Гоголю по поводу "Выбранных мест из переписки с друзьями".
Итог развития раннего героя Григорьева - в осознании нераздельности частного и общего, личности и мира. Однако борьба, являющаяся одной из основных этических и эстетических характеристик героя Григорьева, продолжалась и на более позднем этапе жизни и творчества писателя.
Типологическое сравнение автобиографического героя Григорьева с героями Ф.М.Достоевского, А.Н.Островского, И.С.Тургенева позволяет полнее уяснить, с одной стороны, сущность этого понятия, а с другой - место григорьевского героя в литературном контексте эпохи.
Отличие автобиографизма героев Достоевского и Григорьева - в его разном качестве. Если герой Достоевского связан с автором "Бедных людей" и "Двойника" общим для них психотипом, складом личности, то григорьевского героя роднит с его создателем помещение в обстоятельства биографии писателя. В раннем творчестве Достоевского больше развиты психологизм, разработка характера, нежели в раннем творчестве Григорьева.
Отношение к романтизму - при характерном для обоих авторов мотиве двойничества - разнится в плане серьезного восприятия демонизма и романтического культа любви григорьевским героем и иронического снижения романтических коллизий в судьбе г-на Голядкина. Однако общим для Достоевского и Григорьева является остранение собственных переживаний в личности и жизни своих героев.
Героев Григорьева и Островского мы сравниваем в плане прототипичности григорьевского автобиографического героя для персонажей москвитянинских пьес Островского. Герой драматурга связан своим складом, широкой русской натурой с героем Григорьева. Рефлексия критика по отношению к образу Любима Торцова из "Бедности не порок" и Петра из "Не так живи, как хочется" подтверждает родственность этих персонажей с григорьевским героем.
Однако "загульные черты " Торцова и Петра не исчерпывают сущности автобиографического героя Григорьева. Тут мы корректируем взгляд современников и потомков на личность Григорьева. Мы воспринимаем писателя и его героя как творческую, одаренную индивидуальность, оставившую уникальное в своей значимости наследие. Григорьевские загулы не могут затемнить значение его личности и творчества.
Сравнение героя Григорьева с героем Тургенева обнажает двойственность и того, и другого типа. Большое значение для критика тургеневского творчества - с одной стороны, и отражение черт героев "Гамлета Щигровского уезда", "Рудина" и "Дворянского гнезда" в автобиографическом герое Григорьева - с другой, — все это говорит о плодотворности творческого и личного сотрудничества обоих писателей.
Двойственность характеров героев художников мы видим в их расположении между двумя архетипическими полюсами - между Гамлетом и Дон Кихотом в восприятии этих героев мировой литературы обоими авторами. Рефлексия, анализ и самопожертвование, широта души - вот черты и героя Григорьева, и героя Тургенева.
Вписанность этих героев в контекст эпохи 40-хгодов с ее романтическим максимализмом, увлеченностью философскими идеями Гегеля и Шеллинга подтверждает общность писателей и их героев.
Поздний автобиографический герой Ап. Григорьева наиболее полно воплотился в мемуарах "Мои литературные и нравственные скитальчества" и поэме "Вверх по Волге". В этих произведениях автор подвел итоги пути становления своего героя.
Григорьев пришел к осознанию баланса между отдельной личностью и окружающей ее действительностью. Борьба, как было сказано, оставалась одной из важных характеристик героя - цикл "Борьба" и двоящийся романтический мир поэмы "Venezia la bella" (лейтмотив произведений -любовь к Леониде Визард) - тому подтверждение.
Однако итоговое воплощение эпической и лирической ипостасей героя Григорьева - в неотделимости его личности от исторического и литературного процесса эпохи и в том, что мы назвали "заземлением ", утратой романтических иллюзий молодости.
Таким образом, анализ автобиографического героя Аполлона Григорьева позволил нам создать картину пути развития и становления этого героя в литературно-историческом контексте эпохи и в рамках собственно судьбы и творчества писателя.
Список научной литературыГродская, Елена Евгеньевна, диссертация по теме "Русская литература"
1. Белинский В.Г. ПСС: В 13 тт. М., 1953-1959.
2. Блок А.А. Собр.соч.: В 8 тт. М.; Л., 1960-1962.
3. Боборыкин П.Д. А.А.Григорьев (Из воспоминаний о пишущей братии) // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.; Л., 1930.
4. Герцен А.И. Собр.соч.: В 30 тт. М., 1954-1963.
5. Гоголь Н.В. ПСС: В 14 тт. Л., 1940-1952.
6. Гофман Э.Т.А. Избранные произведения в 3 тт. М., 1962.
7. Сочинения Григорьева Аполлона / Под ред. Н.Н.Страхова. СПб,1876.
8. Собрание сочинений Григорьева Аполлона: В 14 тт. / Под ред. В.Саводника. М., 1915-1916.
9. Григорьев А.А. Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг, 1917.
10. Григорьев Аполлон. Воспоминания / Под ред. Р.В.Иванова-Разумника. М.; Л., 1930.
11. Григорьев Аполлон. Стихотворения / Под ред. Н.Степанова. Л., 1937.
12. Григорьев Аполлон. Избранные произведения / Под ред. П.П.Громова и Б.О.Костелянца. Л., 1959.
13. Григорьев Аполлон. Стихотворения и поэмы / Под ред. Б.О.Костелянца. М.; Л., 1966.
14. Григорьев Аполлон. Литературная критика / Под ред. Б.Ф.Егорова. М., 1967.
15. Неопубликованные письма Григорьева Аполлона // Вестник МГУ: филология, №2, 1971. Публикация Р.Виттакера
16. Григорьев Аполлон. Эстетика и критика / Под ред. А.И.Журавлевой. М., 1980.
17. Неопубликованные письма Григорьева Аполлона 1859-1860 гг. // Вестник МГУ: филология, №6, 1981. Публикация Р.Виттакера
18. Григорьев А.А. Театральная критика. JL, 1985.
19. Григорьев Аполлон. Воспоминания / Под ред. Б.Ф.Егорова. М., 1988.
20. Григорьев Аполлон. Сочинения в двух томах. 2 тт. / Под ред. Б.Ф.Егорова и А.Л.Осповата. М., 1990.
21. Григорьев Аполлон. Письма / Под ред. Р.Виттакера, Б.Ф.Егорова. М., 1999.
22. Григорьев Аполлон. Стихотворения. Поэмы. Драмы / Под ред. Б.Ф.Егорова. СПб, 2001.
23. Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 тт. Л., 1972-1990
24. Достоевский Ф.М. Собр.соч.: В 10 тт. М., 1956-1958.
25. Карлейль Т. Исторические и критические опыты. М., 1878.
26. Леонтьев К.Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап.Григорьеве (письмо к Ник. Ник. Страхову) // ПСС: В 12 тт. Т. 6, книга 1. СПб, 2003.
27. Лермонтов М.Ю. ПСС: В 4 тт. Л., 1939-1940.
28. Милюков А.П. А.А.Григорьев (Отрывок из воспоминаний) // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.-Л., 1930.
29. Островский А.Н. ПСС: В 16 тт. М., 1949-1953.
30. Островский А.Н. в воспоминаниях современников. М., 1966.
31. Потехин Н.А. Наши в Париже // Потехин Н.А. Наши безобразники. Сцены. СПб, 1864.
32. Пушкин А.С. ПСС: В 10 тт. Л., 1977-1979.
33. Страхов Н.Н. Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.; Л., 1930.
34. Тургенев И.С. Собр.соч.: В 12 тт. М., 1975-1979.
35. Фет А.А. Ранние годы моей жизни // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.; Л., 1930.
36. Фет А.А. Вечерние огни. М., 1971.
37. Фет А.А. Кактус // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М., 1988.
38. Чернышевский Н.Г. ПСС: В 15 гг. М., 1939-1953.
39. Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.1. Статьи и монографии
40. Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап.А. Григорьев, Н.Я.Данилевский, Н.Н.Страхов. Философская культорология 2-й половины XIX века. М., 1992.
41. Азизов Д.Л. Теория романтизма в эстетике Ап. Григорьева // Филологические науки, №5, 1975.
42. Альтшуллер А.Я., Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев театральный критик // Григорьев А.А. Театральная критика. Л., 1985.
43. Атарова К.Н., Лесскис Г.А. Семантика и структура повествования от первого лица в художественной прозе // Изв. АН СССР, сер. лит. и яз. Т. 35, №4, 1976.
44. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
45. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
46. Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
47. Бочкарев В.А. К истории молодой редакции «Москвитянина» // Ученые записки Куйбышевского педагогического института, вып. 6. 1942.
48. Бурсов Б.И. Личность Достоевского. Роман-исследование. Л., 1979.
49. Бухштаб Б.Я. Гимны Аполлона Григорьева // Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966.
50. Введенский А. Аполлон Григорьев как критик // «Нива» 39, 1894.
51. Венгеров С.А. Молодая редакция «Москвитянина». Из истории русской журналистики // Вестник Европы, № 2, 1886.
52. Виноградов В.В. Школа сентиментального натурализма (Роман Достоевского «Бедные люди» на фоне литературы 40-хгодов) // Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.
53. Виноградов В.В. К морфологии натурального стиля (Опыт лингвистического анализа петербургской поэмы «Двойник») // Виноградов В.В. Избранные труды. Поэтика русской литературы. М., 1976.
54. Винокур Г.О. Биография и культура // Винокур Г.О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М., 1997.
55. Виттакер Р., Егоров Б.Ф. Жизнь Григорьева в письмах // Григорьев Аполлон. Письма. М., 1999.
56. Виттакер Р. Аполлон Григорьев последний русский романтик. М.,2000.
57. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
58. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
59. Глебов В.Д. Аполлон Григорьев: концепция историко-литературного процесса 1830-1860-хгодов. М., 1996.
60. Годжаев М.Г. Проблема романтизма и реализма в эстетике Ап. Григорьева // Ученые записки Азербайджанского пединститута языков 3, Баку, 1973.
61. Григорьев А.А. Одинокий критик //Книжки «Недели» 8,9, 1895.
62. Громов П.П. Аполлон Григорьев // Григорьев Аполлон. Избранные произведения. Л., 1959.
63. Гроссман Л. Аполлон Григорьев. Основатель новой критики // «Русская мысль» 11, №2, 1914.
64. Гроссман Л.А. Три современника: Тютчев Достоевский - Аполлон Григорьев. М., 1922.
65. Гуральник У.А. Ап.Григорьев критик // История русской критики. Т.1, М.; Л., 1958.
66. Гуральник У.А. Литературно-критическое наследие Ап.Григорьева // Вопросы литературы, №2, 1964.
67. Дементьев А.Г. Очерки по истории русской журналистики 18401850гг. М.-Л., 1951.
68. Долгов Н. Григорьев как театральный рецензент // «Русская мысль», №5, 1914.
69. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев критик // Ученые записки Тартуского государственного университета 98, 1960.
70. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев критик // Ученые записки Тартуского государственного университета 104, 1961.
71. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев литературный критик // Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967.
72. Егоров Б.Ф. А.Н.Островский и «молодая редакция» «Москвитянина» // А.Н.Островский и русская литература. Кострома, 1974.
73. Егоров Б.Ф. Ап.Григорьев // Русская литература и фольклор (2-я половина XIX в.). Л., 1982.
74. Егоров Б.Ф. Художественная проза Ап.Григорьева // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М., 1988.
75. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев поэт, прозаик, критик // Григорьев Аполлон. Сочинения в двух томах. 2 тт. М., 1990.
76. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000.
77. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев поэт // Григорьев Аполлон. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб, 2001.
78. Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. Исследование. М., 2003.
79. Жирмунский В. Стихотворения Аполлона Григорьева // «Северные записки», №2, 1916.
80. Журавлева А.И. «Органическая критика» Аполлона Григорьева // Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980.
81. Журавлева А.И. Островский-комедиограф. М., 1981.
82. Журавлева А.И. Русская драма и литературный процесс XIX века. М.,1988.
83. Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Григорьев и русская литература // Журавлева А.И, Некрасов В.Н. Пакет. М., 1996.
84. Журавлева А.И., Некрасов В.Н. Григорьев А.А. // Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В двух частях. 4.1. М., 1996.
85. Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М, 2002.
86. Забозлаева Т.Б. А.А.Григорьев // Очерки истории русской театральной критики: 2-я половина XIX в. Л., 1976.
87. Иванов-Разумник Р.В. Ап.Григорьев (вместо послесловия) // Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.; Л., 1930.
88. Княжнин В.А. А.Григорьев поэт // «Русская мысль», №5, часть 2,1916.
89. Княжнин В.А. А.А.Григорьев и Л.Я.Визард // ГригорьевА.А. Материалы для биографии. Пг., 1917.
90. Ковалев О.А. Проза Аполлона Григорьева в контексте русской литературы 30-60-хгодов XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 1996.
91. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX вв. М., 1994.
92. Костелянец Б.О. Аполлон Григорьев. // Григорьев Аполлон. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966.
93. Костикова И.В. Философско-социологические взгляды Томаса Карлейля. М., 1983.
94. Кудасова В.В. Проза Ап. Григорьева 40-х годов XIX века // XXIX Герценовские чтения. Литературоведение. Научные доклады. Л., 1977.
95. Лакшин В.Я. А.Н.Островский. М., 1982.
96. Латынина А. «Вечно декламирующая душа» (Аполлон Григорьев -творчество и судьба) // Литературная учеба», №3, 1979.
97. Лотман Л.М. А.Н.Островский // История русской литературы в четырех томах. Т.З. Л., 1982.
98. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
99. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
100. Манн Ю.В. Динамика русского романтизма. М., 1995.
101. Марчик А.П. Аполлон Григорьев критик // Вопросы литературы, №4,1968.
102. Марчик А.П. «Органическая критика» Ап.Григорьева // Известия АН СССР: Отделение литературы и языка 25, 1966.
103. Михайлов Д. Аполлон Григорьев. Жизнь в связи с его литературной деятельностью. СПб, 1900.
104. Молчанова С.В. Очерк Ап.Григорьева «Великий трагик»: лексикостатистические особенности // Русская речь, №1, 2001.
105. Носов С.Н. Проблема личности в мировоззрении Ап. Григорьева и Ф.М.Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования, вып.8. Л., 1988.
106. Носов С.Н. Тургенев и Аполлон Григорьев // И.С.Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1990.
107. Носов С.Н. Аполлон Григорьев. Судьба и творчество. М., 1990.
108. Овчинина И.А. А.Н.Островский. Этапы творчества. М., 1999.
109. Осповат А.Л. К изучению почвенничества (Достоевский и Ап.Григорьев) //Достоевский. Материалы и исследования, вып.З. Л., 1978.
110. Раков В.П. Аполлон Григорьев литературный критик. Текст лекции. Иваново, 1980.
111. Ревякин А.И. Искусство драматургии А.Н.Островского. М., 1974.
112. Селитренникова В.Г., Якушкин И.Г. Аполлон Григорьев и Митя Карамазов // Научные доклады высшей школы. Филологические науки, №1. 1969.
113. Степанов H.J1. Аполлон Григорьев // Григорьев Аполлон. Стихотворения. Д., 1937.
114. Страхов Н.Н. Предисловие // Сочинения Григорьева Аполлона. Т.1.СП6, 1876.
115. Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1976.
116. Успенский Б.А. Поэтика композиции // Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
117. Чирков Н.М. О стиле Достоевского. М., 1967.
118. Шах-Паронианц J1.M. Критик-самобытник: А.А.Григорьев. СПб,1899.
119. Шкловский В.Б. О «Бедных людях» // Шкловский В.Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957.
120. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой, кн. 1-2. Л.; М., 1928-1931.