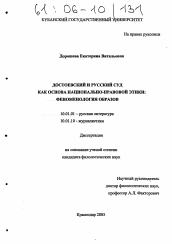автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Достоевский и русский суд как основа национально-правовой этики: феноменология образов
Полный текст автореферата диссертации по теме "Достоевский и русский суд как основа национально-правовой этики: феноменология образов"
ч
На правах рукописи
Дорошева Екатерина Витальевна
ДОСТОЕВСКИЙ И РУССКИЙ СУД КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЭТИКИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБРАЗОВ
10.01.01 - русская литература 10.01.10 - журналистика
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Г
Краснодар 2005
На правах рукописи
Дорошева Екатерина Витальевна
ДОСТОЕВСКИЙ И РУССКИЙ СУД КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЭТИКИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБРАЗОВ
10.01.01 - русская литература 10.01.10- журналистика
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Краснодар 2005
Диссертация выполнена на кафедре аналитической журналистики, отечественной литературы, теории и критики Кубанского государственного университета.
Научный руководитель: доктор филологических наук,
профессор А.Л. Факторович
Официальные оппоненты: доктор филологических наук,
профессор А.В.Кузнецова (РГПУ,Ростов-на-Дону)
кандидат филологических наук, доцент Т.М. Степанова (АГУ, Майкоп)
Ведущая организация — Ставропольский государственный педагогический институт.
Защита состоится 2005 г. в 10 часов на заседании диссертационного
совета Д 212.101.04 при Кубанском государственном университете по адресу: 3 50040, Краснодар, ул.Ставропольская, 149, ауд.231.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государственного университета.
Автореферат разослан сентября 2005 г.
•их {
ч А
'»У/ет
Ученый секретарь диссертационного совета
Н.И.ЩЕРБАКОВА
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Динамичной константой филологического знания, включая литературоведение и науку о журналистике, стала полифония мнений о сущности образных систем. «Единый художественный мир состоит из реалий и бытия, и мыслимого автором мира», соответственно, «художественная речь имеет собственную ценность потому, что она не просто форма, а и определенное содержание, ставшее формой образа» (Кузнецова 2003,3,7). Роль этого гносеологического принципа для познания единства литературы и публицистики отмечается в новейших исследованиях творчества А.П. Чехова (JI.E. Кройчик), писателей и публицистов Серебряного века (Т.М.Степанова).
Это многоголосие концептуализуется многомерно; в системе опорных поликонцептов значима соотнесенность сущего и явленного. Соответственно, образные системы раскрываются с феноменологических позиций. В новейших исследованиях корреляция журналистского и литературоведческого измерений определяется как необходимая, причем в вечно-актуальных понятийных рамках, и приводит к злободневным обобщениям: «Поиск истины Достоевским продолжается и в публицистических произведениях, однако писатель оставил за рамками как «Дневников», гак и «Записных тетрадей» весь тот шквал сомнений и неверия, который в художественных произведениях бередил умы и сердца героев. (...) Гибнут молодые силы впустую, без поиска духовного центра, без умения приложить свою энергию к благому делу» (в работе с симптоматичными позицией, заглавием, пафосом и изда!ельской серией: Айрапетян Р.Г. Достоевский о русском разъединении и обособлении // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. 4.2. С.274-275). Приведенная корреляция принципиальна. Она с единых позиций представляет роль образных систем Достоевского в соотнесении русского суда и основ национально-правовой этики.Феноменологические позиции побуждают к анализу взаимодействия между художественной и публицистической образностью, поскольку оно значимо для углубленного понимания как первой, так и второй (см.: Карпов А.О. К проблеме феноменологии творчества//Филос. науки. 2005. №5. С. 105,118).
В связи с творчеством Достоевского устойчивую тенденцию к феноменологи-зации конкретизируют противоречивые аспекты литературного и журнального процесса, контрасты между различными принципами творчества: и художественного, и публицистического. Так, в показательной по пафосу и по заглавию статье как центральная для Достоевского декларируется коллизия между мировоззренческой проблемой и художественной пластикой: «неустранимость мирового зла» (соотнесенная с принципами самоорганизации человека, с поддержкой концепции В.В. Розанова в новой гносеологической ситуации) рассматривается в контексте пластического преодоления зла (Гаджиев К.С. Апология Великого Инквизитора// Вопросы философии. 2005 .№4. С. 11).
В современных условиях гуманитарного познания закономерно обостряются проблемы смыслового, эмоционального, ценностного потенциала образов и образных систем. Обосновывается, например, «карамазовщина» как символ русской сти-
хии (одноименная статья В.К. Кантора// Вопросы философии. 2005.№4. С. 11).
Принять эту искусительную концептуализацию можно, однако, лишь с серьезной коррекцией — в таких гносеологических координатах, при которых «стихия — это ни в коем случае не агрессия., .она не может быть рассудочной, но она обязана быть разумной в соответствии с первоначальной целью возникновения — созиданием жизни. Стихия сложна для понимания тем, что внешне она — порыв духа (причем созданного ею же)... Однако национальная стихия — это сила, создающая и дух, и веру, и волю» (A.B. Канашкин 1997, 5).
Значимость творчества гения, художническая зоркость Достоевского проявлялась в глубине провидческих предостережений, в умении беспощадно анализировать «текущее» во имя прекрасного будущего. Отношение писателя к русскому суду — одно из блестящих тому свидетельств.
Соответственно, актуальность исследования заключается в обращенности к принципиальным проблемам филологического знания, а именно к интегративной сфере взаимообогащения науки о русской литературе и науки о журналистике — к феноменологии художественного образа в его взаимосвязях с публицистическим в контексте литературно-журнального процесса. Актуальность усиливается той знаковой феноменологичностью творчества Достоевского, в которой русская духовность как сущее определяет культово-мировой статус Художника.
Истолкование темы русского суда в творчестве Достоевского (исследователями-филологами, теоретиками и практиками-юристами и т.д), отличающееся контрастностью уже свыше столетия, может быть уточнено с учетом феноменологической значимости образных систем. Ее изучение наметилось сразу же после смерти писателя. 2 февраля 1881 г. в годовом собрании Юридического общества при Санкт-Петербургском университете А. Ф Кони произносит речь о Федоре Михайловиче. Он восхищается тем, как глубоко и верно поставлены писателем специальные вопросы уголовного исследования: разграничение разных видов убийств, роль собственного сознания, определение преступления и наказания, принятие мер пресечения. Увлеченный судебной реформой, А. Ф. Кони сопоставляет страницы творчества художника с соответствующими параграфами Уложения о наказаниях и Устава уголовного судопроизводства, находит их полную идентичность и называет Достоевского выразителем необходимости «перехода нашего суда от отживших старых форм к новым» (Кони 1968, 419). Едва успела отзвучать торжественная речь Кони, как ее начал ниспровергать Н. К. Михайловский. Он заявил, что «г. Кони... придавил покойника» своей похвалой, что «художник, умевший глаголом жечь сердца людей, певец униженных и оскорбленных» достоин лучшего понимания и анализа, чем «маленький-маленький» анализ мер пресечения, способов уклоняться от суда и прочих вещей, доказывающих лишь «научную ценность за поэтическими произведениями» (Михайловский 1908, 413,415). Так с самого начала обнаружились разные подходы к конкретно-историческим темам в творчестве Достоевского. Исследовательская традиция пошла за А. Ф. Кони. Тема «Достоевский и суд» утвердилась как периферийная, узкоспециальная, не имеющая выхода за пределы истории суда (Новицкий 1921;
Голяков 1959; Гольдинер 1961,19-21). Лишь в последнее время появились работы, исходящие из того, что «размышления Достоевского о суде далеко выходят за рамки юриспруденции» (Щенников 1971,3).
Достоевский был современником той поры, когда едва начавшее существовать в «новых» судах современное ему правосознание стало колебаться под влиянием системы объективных обстоятельств. Ухищрениям этого права, которое, по свидетельству одного из «веховцев», по самому духу своему всегда «основано на компромиссе» (Кистяковский 1909,136), противопоставлялись позитивные нравственные установки, включая национальные духовные традиции человечности и веры. Герои Достоевского совестливы: рано или поздно они умеют произвести «суд собственной совести», осудить себя или других за бесчеловечность.
Цель исследования — выявить единство в феноменологическом многообразии образов русского правосудия и смежных явлений как принципиальных для творчества Достоевского.
Целью определены три основных задачи исследования.
1. Соотнести три феноменологических подсистемы: суд, личность, государство как публицистические феномены р, журналах «Время» и «Эпоха»: образную тленность формулы «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»; образы в судебных страницах «Дневника писателя».
2 Систематизировать образные сущности и феномены Ппяиосутия в романе «Преступление и наказание»; феноменологические ракурсы в романе «Бесы- интерпретационное поле исследуемых образных феноменов в романах «Идиот» и «Преступление и наказание».
3. Охарактеризовать образно-феноменологические аспекты исследуемого пространства в континуальной связи: от ранних произведений — к «Запискам из подполья» — и к позднему творчеству.
Методологической основой служат взаимодополняющие принципы системной, социокультурной и исторической исследовательских парадигм в объяснении литературного и публицистического процесса. Их совместимость обеспечивает феноменологическая установка на интерсубъективность, органичную для исследуемого пространства (Э.Гуссерль, И.А.Ильин, С.Л.Франк, в последние десятилетия —В.У. Бабушкин, В.И. Молчанов, Н.В. Мотрошилова, В.В. Семенов). Причем феноменология образа нацеливает на взаимную необходимость сущности и явления в особой — интерсубъективной — целостности.
Опорными являются методологические принципы целостности, единства в раскрытии основополагающих категорий: свобода, право, личность и др. (И. Кант; А.Ф. Лосев; В.В. Кожинов); на их основе анализируется как система образных феноменов, так и соотношение общего и особенного: «общность есть не абстрактно-изолированная идея, но руководство к действию... закон и метод для возникновения индивидуального» (Лосев 1989,6) — в исследуемой сфере индивидуального творчества Достоевского. Методологически существенно кантовское представление о том,
что настоящая свобода оказывается формой отказа от следования естественным человеческим желаниям, это некий промежуточный феномен, ограниченный, с одной стороны, стремлением удовлетворить желание, с другой же — запретом на реализацию подобного стремления. С учетом методологического принципа полифонии (М.М. Бахтин) раскрывается художественно-публицистическое взаимодействие, в том числе являемое в своеобразии текстов.
Научная новизна результатов заключается в трех взаимосвязанных аспектах. Во-первых, представлены в единой системе ранее обособленные объекты. Обоснованы новые связи между социально-историческими и художественными феноменами. Единство системы и динамики дало возможность интегрировать как носитель единых закономерностей пять основных подпространств: канонические тексты, черновики, записные книжки Достоевского, подготовительные материалы к «Дневнику писателя», обособившиеся в отдельный объект, и собственно-журнальную публицистику. Такой подход позволяет мотивировать специфическую взаимообусловленность образных проявлений и их изменчивость (дуэльные нарративы с необходимостью раскрывают в ряде произведений комплексную проблему идентичности и целостности личности; в черновиках «Подростка» в пределах одного абзаца соединены идея девичьей чести, оскорбления чести и непротивления злу; и мн.др.). По-новому охарактеризовано преображение реальной истории в идеальный план романов Достоевского. «В комбинации и путанице самых обыкновенных вещей» [8,273] он провидел основы человеческого бытия, и глубинные взаимосвязи внешне обособленных пространств творчества гения установлены в формате этого историко-художественного взаимодействия.
Во-вторых, впервые с феноменологией образа соотнесен ряд художественных приемов, характерных для Достоевского: неповторимая смысловая контрастность (позитивные номинации «восторг» и мн. др. в сценах дуэлей); глубоко индивидуальная активизация разных значений доминантных слов текста. На этой же основе детерминированы редакционные поправки и объяснены избранные для анализа направления журнальной полемики.
В-третьих, новы обоснования систем образов, в т.ч. художественного и публицистического образа правопорядка. Новизна проявилась в характере историко-литературной категоризации: впервые категориями духовной свободы, полифонии и др. охватывается единство литературного процесса, публицистического пространства и критической рефлексии. Выявление тематических стержней соотнесено с развитием тем по восходящим векторам (образное пространство /не/свободы в «Записках из Мертвого дома» и др.).
На защиту вынесены шесть основных взаимосвязанных положений.
1. В образных системах Достоевского-прозаика и публициста, в его редакторской деятельности единой системой проявляется специфическая структура художественного мышления: история раскрывается в закономерной соотнесенности с мировой гармонией, каждая конкретно-историческая тема его выступлений одновременно оказывалась прологом, ведущим вглубь идеи о «беспредельном счастье».
Историю Достоевский сопоставлял с «вечной истиной» своего идеала. В этой специфике заключается одна из существенных причин неотделимости Достоевского-публициста и «хроникёра» эпохи от Достоевского-художника.
2 Тема русского суда с ее точными конкретно-историческими реалиями и феноменами неотъемлема от авторской индивидуальности Достоевского, сущностно и феноменологично отличая его от ряда современников, предшественников, литературных «преемников» и последователей. Это принципиальное своеобразие показательно уже в период 1860-х годов и в дальнейшем, когда во всех его произведениях так или иначе звучит тема русского суда. Она связана со всем многообразием его писательской идеологии.
3. Для журналов Достоевских характерно системное внимание к мировой юридической мысли. Основные аспекты этого внимания также феноменологичны и сущ-ностны. Редакция откликается на все соответствующие книжные новинки и важнейшие философско-правовые споры. Критико-публицистические отклики служат феноменологическим импульсом и проявлением более общих закономерностей; в этом интегративном пространстве вырастали сюжеты и мизансцены будущих романов Ф М. Достоевского.
4 Лггя наследия Достоевского принципиально • •
мыслении темы суда, проявившееся в редакторской деятельности, и художественном и публицистическом творчестве. В объектах творчества в литературных образах-персонажах значимо, что пуховная гиобола героев, особенно «чюбимых героев» писателя состоит в свободе от античеловеческих поступков, в приумножении нравственных по содержанию деяний. То же справедливо для образов иного характера — для образа-события, образа-правопорядка и т.д.
5. В эпоху Достоевского социокультурно значимым становится требование защиты прав личностного начала. Оно (в единстве с другими условиями) определяет отношение Достоевского к русскому суду в контексте свободы личности и ее духовной ответственности, её права на счастливую жизнь, отношение к обязанностям человека — члена социального коллектива и к обязанностям перед Землей, перед «чудом» биологической жизни. С этой принципиальной особенностью соотносится направленность журнальных публикаций и реакция на них (установка «Времени», начиная с № 11 1862 г., предоставить печати больше прав при обсуждении судебной реформы, одобренная разными слоями читателей, и др.).
6. Для образных систем в творчестве Достоевского существенно, что современный ему человек мучился противоречием между естественной склонностью к созиданию, взаимопомощи и биосоциально привычной тенденцией к ущемлению ближних, к эгоистическому торжеству собственной силы.
В связи с этой принципиальной чертой объяснимо отношение к знаковым образам (пушкинскому Сильвио, лермонтовскому Печорину и др.). Как для художественных, так и для публицистических образов Достоевского феноменологически значимы резонансы, созвучия, полемика, контрапункты с образами в творчестве предшественников и современников; причем феноменологичность определяется в
единстве с принципами, творчески близкими Достоевскому (гоголевский принцип концентрированного изображения зла во имя борьбы со злом).
На этой основе в произведениях писателя созданы такие образные системы, который раскрывают особый правопорядок, обеспечивающий победу добрых качеств человека.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии связей между элементами категориального аппарата: категориями «убежденность», «проблема», «образ», «сущность», «феномен». При этом теоретизация исходит из «особенного дара» Достоевского — пластически-проблемного умения видеть за фактом явление, в явлении — сущность, в «маленьких картинках» — целостную эпоху и сущность народного духа. Этот дар явлен в неповторимом единстве показателей душевного настроения и событий как фактов одной меры достоверности. На этой основе детерминированы литературные и публицистические связи (выбор названия «Бесы»; журнальная оценка «Моих записок» Л.Н. Андреева — «пахнет Достоевским», особенно о балансировании «награни парадокса», и мн.др.). Теоретико-литературно и теоретико-журналистски мотивирован закономерный характер социально-политических откликов на публикации (например, на статьи в «Эпохе»),
Практическая значимость исследования состоит в направленности на насущные акциональные задачи, в том числе познавательные, и на развитие духовности в пространстве литературного образования. Практическую значимость укрепляет востребованность результатов в процессе обучения студентов старших курсов, бакалавров, магистрантов специальностей «филология», «журналистика», «издательское дело» (дисциплины историко-литературного, историко-журналистского и теоретико-литературного циклов, особенно разделы, посвященные художественному и публицистическому познанию; спецкурсы и спецсеминары, разрабатывающие творчество Ф.М. Достоевского, образные системы, журнальный процесс середины и второй половины XIX столетия).
Апробация результатов заключается в представлении докладов на конференции различного ранга в 2001-2005 годах, в т.ч. международной «Язык. Текст. Дискурс» (Ростовский госпедуниверситет, 2005), Всероссийской «Достоевский и современность» (Армавирский госпединститут, 2001), XXX научной конференции студентов и молодых ученых Юга России (Кубанский госуниверситет, 2004).
Структура работы включает Введение, три исследовательских главы, Заключение и Библиографический список.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во Введении намечены общие характеристики, в частности, обосновываются актуальность, теоретическая и практическая значимость проблематики, систематизируются основные положения, вынесенные на защиту.
В ГЛАВЕ ПЕРВОЙ «ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО-КРИМИНАЛИСТА В ЗЕРКАЛЕ И «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ» соотношение сущего и явленного рассматривается в трех взаимосвязанных подсистемах. Во-первых, соотнесены суд, личность, государство в рамках образно-публицистической подсистемы в журналах «Время» и «Эпоха»; во-вторых — характеризуется формула «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»; в третьих, феноменологизируются образы в судебных страницах «Дненика писателя».
Журналы «Время» и «Эпоха» до сих пор таят не раскрытые до конца своего смысла факты, поразительно близкие идеологическому миру произведений Ф.М. Достоевского. Это — драгоценные живые свидетельства связи писателя с эпохой. В то время, когда братья Достоевские выступили на журнальном поприще, она была ознаменована так называемыми «великими» реформами. В сознании русской общественности шаг, который логически нужно было сделать после отмены крепостного права, связывался с реформой суда.
В журналах М.М. и Ф.М. Достоевских пропаганда юридических знаний была рассчитана на массу народа, которому» будут открыты залы суда, и на лиц, юридически подготовленных, хотя и не гарантированных от возможных ошибок и заблуждений. Поэтому формы пропаганды были разнообразными: хроника выдающихся судебных процессов и рецензии на юридические книги, политические обозрения, соединенные с изложением философии права, и воспоминания людей, причастных тюремному быту, информации о ходе судебной реформы.
Журнал «Время» стоял выше верноподданнической эквилибристики. Подняв знамя борьбы против насилия, он не мог игнорировать силу. «Сила не ничто перед лицом права», — писало «Время», выступая против прекраснодушных разглагольствований о торжествующем праве. Интересны отклики журнала на книгу Прудона о силе и праве. О ней «Время» известило своих читателей за три года до перевода книги на русский язык. В статье П. Бибикова «Феноменология войны» («Время» 1861,412—436) подробно излагалось содержание «Войны и мира». Редакция ценила статью за «изложение сущности новой любопытной книги знаменитого французского публициста» («Время», 1861,412—436).
«Время» надеялось, что Россия найдет свои пути к торжеству права над силой. Эта вера была трогательной и наивной: «Справедливость ни от чего не заимствует законной силы своей, кроме как от самой себя» («Время», 1861, И). И в «Эпохе»: «Нужно что-нибудь посущественней физического насилия. Голиаф на мгновение, оно перед временем нуль» («Эпоха» 1864,259). Прочные результаты дает не право, завоеванное силой, а право, установленное посредством нравственного и умственного образования. И журналы М.М. и Ф.М. Достоевских стремились способствовать такому образованию в России.
Неразвитость общественных наук в контексте неумеренного и закономерного в этот период увлечения позитивистскими установками приводила к тому, что с помощью физиологии пытались объяснить целые исторические процессы. Так, Д.Г. Льюис физиологическое ощущение голода считал стимулятором прогресса (Льюис 1866,1). Работы Льюиса оживленно обсуждались в России. П. Юркевич комментировал их с идеалистических позиций. Н.Г. Чернышевский выразил полное согласие с материа-
листическими выводами физиолога. На книгу Льюиса «Время» откликнулось в ноябрьской книжке за 1861 г.
Журнал выступил против механистического понимания сложных жизненных процессов. Не отрицая роли физических и химических законов, журнал обращал внимание на то, что существуют «законы жизни, которые не могут быть выведены ни из физики, ни из химии» («Время», 1861, 55). Этой общей позицией объясняется недоверие журнала к попыткам научного обоснования в теории улик.
Регулярные юридические публикации подготовили читателей журналов «Время» и «Эпоха» к восприятию «Основных положений преобразования судебной части в России». Когда эти положения были «высочайше» утверждены, журналы Достоевских встретили их квалифицированным разбором.
О юридических публикациях «Времени» и «Эпохи» II.Н. Страхов пытался утвердить определенное мнение. Он писал: «Братья Достоевские прилагали большие старания к тому, чтобы журнал их был занимателен и больше читался. Заботы о разнообразном составе книжек, о произведении впечатления, об избегании всего тяжелого и сухого, были существенным делом. Этим объясняется появление в журнале таких статей, как «Бегство Жака Казановы из венецианских «Пломб», «Процесс Ласенера» и т.п.» (Страхов 1883,207).
Но, по-видимому, задачи братьев Достоевских были гораздо серьезнее. В своих журналах они разработали целую систему взаимосвязанных проблем и публицистической образности, обнаружив постоянство самостоятельных позиций в общественной борьбе шестидесятых годов. Журналы Достоевских характеризует пристальное внимание к мировой юридической мысли. Редакция была в курсе всех книжных новинок и важнейших философско-правовых споров, в горниле которых вырастали сюжеты и мизансцены будущих романов Ф.М. Достоевского Роль суда и личная ответственность человека, судебные доказательства и судебные ошибки, право государства на насилие и смертные казни — эти темы, осмысленные в журналах «Время» и «Эпоха», войдут в живую плоть художественных творений писателя (Л. Гроссман 1925,13; «Mercure de France» 1934,455,458-^59).
Достоевский принимал деятельное участие в формировании юридического сознания своих современников. Судьба распорядилась таким образом, что писатель вышел на волю в канун больших преобразований, во взбудораженное этими преобразованиями общество. Мир русской каторги был увиден изнутри, — человеком, обладавшим даром художественного гения. Как писал в свое время П.Ф. Якубович, «не слишком-то часто случается в истории, чтобы такие писатели, как Достоевский, шли на каторгу».
«Записки из Мертвого дома» были книгой о наболевшем, в которой автор оказывался лицом, переболевшим больше всех. Она брала не столько новизной темы (проблемы судоустройства обсуждались всей русской печатью), сколько неожиданной глубиной. Не имея за собой большой художественной традиции в изображении тюрьмы и каторги, за исключением разве что воспоминаний Жака Казановы и отмеченных Пушкиным «Моих темниц» Сильвио Пеллико, Достоевский создает образ «мертвого дома»,
вбирающий в себя все, что можно сказать о каторжной жизни. У Достоевского каторга явилась не просто нуждавшимся в благоустройстве скопищем преступников, но страшным захоронением живых людей. Художественный эффект заключался в том, что этот особый мир жизни раскрывался в подчеркнуто строгой реалистической манере. Когда-то, в «Двойнике», писателю понадобился фантастический прием, чтобы показать обычный процесс раздвоения в сознании «маленького человека». В описании необычного «Мертвого Дома» он до щепетильности реалистичен и в жанре (записки, очерки, почти документальная проза), и в сюжетостроении (распорядок жизни заключенных, зафиксированный с точностью вахтенного журнала), и во всех других компонентах повествования. Увиденный художником каторжный мир не нуждался в преувеличении и заострении: здесь «ложь казалась истиною, а истина — ложью», и стилевую манеру книги образовали точность очевидца, документальный лиризм.
В метафоре «мертвый дом» главным является социально-политический подтекст: свобода — непременное условие жизни. Автор не довольствовался метафорическим изображением этой мысли и вынес подтекст в прямой текст книги, замечая, что выше всего для арестанта «свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе». Эта мысль бесконечно варьируется, потому что составляет идейно-художественное средоточие книги. Она проявляется в композиционной структуре, становится принципом в раскрытии характеров, выступает как стимул сюжетного движения; на ней держатся многие жанровые сцены. В разных характерах Достоевский показывает разные проявления потребности в свободе. Понятие «мертвого дома» расширяется, включая в себя не только тюрьму и каторгу, но и всякий социально-политический образ жизни, основанный на бесправии и неуважении личности.
Девятую главу И.С. Тургенев назвал дантовской. Социальный и историко-литературный полюса метафоры «мертвый дом» здесь сближаются и совпадают. Простая обыденность оборачивается многозначительным иносказанием. Границы между реальным и ирреальным исчезают; «этот» и «тот» свет сливаются в одной сплошной фантасмагории. Обычные житейские приметы вдруг приобретают потустороннее значение: в тесном помещении бани всюду копошились скрючившиеся арестанты, копоть, фязь, беспрерывно подаваемый пар: «пар застелет густым, горячим облаком всю баню, все загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги»... «Это был уже не жар; это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу».
В этих описаниях некоторые слова играют роль зрительных опор, с помощью которых картина рисуется в духе народных представлений об аде. Такие слова, как «копоть», «скрюченный», «пекло», «звук цепей», «гогочет», являясь точным именованием происходящего, в то же время традиционны в описаниях ада. Подобно тому, как живописец кладет одну краску возле другой, чтобы добиться оптически верного эффекта, Достоевский ставит рядом синонимы «жар — пекло» и создает зрительную картину ада, в которой банный пар кажется дымом сатанинских костров, а арестанты — и грешниками, и чертями одновременно, радостно гогочущими при исполнении дьявольского ритуала. Эта удивительная картина обрамлена простым и нехитрым срав-
нением. «Когда мы растворили дверь в самую баню, — отмечает Достоевский в начале описания, — я думал, что мы вошли в ад». И в конце: «Мне пришло на ум, что если мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место».
Картина нарисована и названа. Метафора «мертвый дом» развертывается в метафорическую картину бани — ада, чтобы затем стать сопоставительным названием явления: каторга — мертвый дом — ад.
Девятая глава развертывала тему свободы через изображение ее противоположности: каторга — несвобода, равнозначная аду.
В одиннадцатой главе выходом на свободу оказывается искусство. Для арестантов прелесть театра в том, что на сцене они живут полной человеческой жизнью. Дух творческого перевоплощения владеет не только актерами, но и зрителями: «все до единого раскрыли рты и уставили глаза, и полнейшее молчание воцарилось... Представление началось». Во время представления волшебно изменилось пространство казармы: за самодельными занавесями скрылись нары, занавесь «была расписана масляной краской: изображались деревья, беседки, пруды, звезды». Также переменились и арестанты, нарядившиеся в сюртуки, круглые шляпы, плащи, приделавшие себе усы и волосы.
Можно сказать, что в «Записках» живет самостоятельный художественный образ свободы. Это — непрямой и непростой образ. Он предстает скорее как смена различных призраков, чем как живая плоть.
Достоевский-журналист не боится одиночное™ суждений. Тема одиночества постоянно сопутствует его публицистическим выступлениям в «Гражданине». Она проступает в необходимости периодических разъяснений своей позиции («Нечто личное», «Ряженый», «Учителю» и др.), в прямых указаниях на отсутствие достойного оппонента («Вступление», «Две заметки редактора»); обусловливает обращение Достоевского к форме единоличного повременного издания; лежит в основе структурного принципа «Дневника писателя», который В. В. Виноградов определил как литературную иллюзию диалога («Гражданин» 1873,137).
«Дневник писателя» первоначально появился как «журнал в журнале». Современники не заметили структурного размежевания редактора с издателем. Только Н.К. Михайловский почувствовал истину. «Достоевский,— писал он,— писатель до такой степени своеобразный и однообразный, что для «его едва ли возможно распространить свой дух на всю пустыню «Гражданина». Он будет изображать собой некоторый оазис среди этой пустыни, и больше от него ничего нельзя потребовать» (Михайловский 1873,315).
Сопоставление «Дневника писателя» со всеми остальными материалами «Гражданина», как правило, обнаруживает большие редакторские усилия в подготовке целенаправленных номеров, попытку заполнить «пустыню» газеты-журнала целостной, развиваемой из номера в номер концепцией гражданского долга по отношению к России 70-х гг. Мысль, изложенная в том или ином выпуске «Дневника писателя», обычно подкреплялась фактами «текущей действительности», представленными в разделах «Областное обозрение», «Московские заметки», «Ералаш», «Из текущей жизни», «Пе-
тербургское обозрение», а также статьями на специальные темы, написанными другими сотрудниками издания. В статье «Сентиментальная фальшь в области уголовного суда» речь шла о девочке-няньке, воткнувшей булавку в голову порученного ей ребенка («Гражданин» 1873,2). Достоевский использовал этот факт в одной из заметок редактора («Гражданин» 1873,27). Он обратил внимание на то, чго нельзя героизировать злой поступок девочки. Имея в виду прикрывавшихся флагом «либеральности» продажных журналистов, Достоевский писал: «Большая часть из них пишут наудачу, на всякий случай. Девочка воткнула булавку в голову другого ребенка, и вот они находят, что это хорошо, потому что либерально: она протестовала против деспотизма».
Материалы о судебной реформе, опубликованные за период редакторства Достоевского, фиксировали все отступления от принципов, провозглашенных для суда в 1864 г. Резко критически выступил «Гражданин» по поводу предполагавшейся духовно-судебной реформы. Излагая сущность проекта, газета-журнал указывала на «недостаточное отделение административной власти от обвинительной»(«Граж-данин» 1873, 769) как на отсутствие гарантий правосудия: «Прокуроров духовно-судебного ведомства (как теперь и гражданских прокуроров) на практике не будет никакой возможности (для судов и особенно частных лиц) привлечь к законной ответственности» («Гражданин» 1873,934).
Пристально следила газета-журнал за судебными процессами. Прежде всего её интересовало, насколько практика новых судов соответствовала нормам правосудия. Позиция редактируемого Достоевским «Гражданина» четко выражена в словах: «Пусть царствует в суде правда и милость, но — ни правда без милости, ни милость без правды!» («Гражданин» 1873,1132). С этой точки зрения комментировались явления, в которых, по мнению редакции, равновесие правды и милости было нарушено.
8 января 1873 г. газета-журнал нашла слишком мягким приговор по делу об убийстве женою своего мужа: муж обращался с женою хорошо, но она его не любила, и «с этою нелюбовью жизнь была ей немила» («Гражданин» 1873,52). Суд приговорил мужеубийцу к четырехлетней каторге, возбудив ходатайство о замене каторги поселением в Сибирь на тот же срок. Газета нашла наказание слабым, а вопрос о личной ответственности за содеянное — снятым.
Мужеубийство, совершенное по другим мотивам, вызывает иную реакцию «Гражданина». В июле газета-журнал сообщала о примере «исполинской силы русской женщины», о крестьянке Евстигнеевой, которая 15 лет жила с пьяницей и буяном мужем, имела четверых детей, без устали работала, а однажды, когда муж, схватив топор, приказал ей: «Ложись на пол, я тебе отрублю голову», выхватила топор и ударила мучителя обухом по голове: «Не согласна я ему свою голову давать рубить: у меня детки есть» («Гражданин» 1873,798). Газета под держала оправдательный приговор, как имеющий «юридическое основание» («Гражданин» 1873,798).
«Гражданин» считал правильным оправдательный приговор Ивану Варварину (убил жену, грешившую с отцом). По мнению редакции, «история долготерпения, многократной мольбы, многократной готовности простить, забыть всё и снова обнять страшно падшую женщину» закончилась в суде «последовательно и толково».
Обращение к теме суда в процессе редактирования «Гражданина» многое дало Достоевскому — художнику, публицисту, человеку, — определив его отношения к социально-правовым проблемам времени. В «Дневнике писателя» 1876-1881 гг. в тугой узел сплетены проблемы современности и вечности, и даже самый заурядный факт дает пищу для глубоких, «вневременных» размышлений. Из хроники самоубийств рождается «Сон смешного человека» — повествование о прекрасной жизни и об ответственности перед ней человека. Из газетного сообщения о происшествии «между Новым и Демидовым переулками», когда извозчик, крестьянин Павел Соколов, ударил перочинным ножиком некую Марью Трунину, чтобы обобрать её и пьяного её мужа, вырастает разящий памфлет, разоблачающий «обожание даровой наживы», «наслаждения без труда», с образом «пагубного пришельца», который «беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству, и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» (XI, 172).
Анализ этих процессов идет в «Дневнике» crescendo: в деле Кроненберга разоблачается безнравственность приемов защиты и выясняются причины порочности адвокатуры; в деле Каировой Достоевский дает урок правосудию и показывает, как надо было бы говорить о поведении Каировой; в деле Корниловой прямо указывает на юридическую ошибку, повлекшую за собой неправильный приговор; в деле Джунковских существующий суд отрицается вовсе—за неспособностью судить—и рисуется картина суда несуществующего, «фантастического», но такого, который должен бы быть: подлинного чистилища общества и нравственно неустойчивых душ. В «Дневнике писателя» четко выясняются, таким образом, судебные идеалы Достоевского.
Идеей нравственного суда Достоевский дорожил настолько, что во имя её отвергал суд социальный. Признавая «историческое» право социального возмездия, он отказывал ему в праве «нравственном». Это отразилось на его оценке дела В. И. Засулич, сохраненной для нас воспоминаниями Г.К. Градовского. «Осудить было невозможно, — писал о процессе Градовский. — Возле меня сидел Достоевский, и тот признал, что наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, — сказал он, — «иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз...» (Градовский 1908, 8—9). Признание права политического насилия и—одновременно — нравственное его осуждение — такова сложная суть отношений Достоевского к своей эпохе. Художник был «нетерпеливцем» на свой лад: он хотел, чтобы нравственность торжествовала в неготовых для её торжества исторических условиях.
Художественно-публицистическое единство проявляется в закономерно-оригинальных феноменах (напоминающих мысль С.А. Андреевского о необходимой опоре правосудия на литературу). Как всегда, «фантастическое» у писателя имело чуть ли не строго документальную основу: возбудителем «фантастического» образа председателя суда был реальный, отмеченный в хронике текущей жизни «Гражданина» председатель, сказавший оправданному: «Идите и подобных преступлений всё-таки впредь не совершайте». Стойкость и неколебимость нравственного сознания народа, которую художник чутко улавливал в «смутном» времени, заставляли его верить в то, что «фантастическое», может быть, и есть «в высшей степени реальное».
В ГЛАВЕ ВТОРОЙ «ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДИЯ В КОНТЕКСТЕ «ВЕЧНОЙ ИСТИНЫ» НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО САМОПОЗНАНИЯ» систематизируются три иных взаимосвязанных подсистемы исследуемого пространства: образные сущности и феномены Правосудия в романе «Преступление и наказание»; феноменологические ракурсы в романе «Бесы»; интерпретационное поле исследуемых образных феноменов в романах «Идиот» и «Преступление и наказание».
Парадоксы «Преступления и наказания» определяются как феномены сущего образного начала — «подданного» судопроизводства
Достоевский любил разъяснять свое понимание действительности как предмета искусства. Главным здесь было указание па то, что действительность может быть дана лишь в авторском восприятии. Человек воспринимает «природу так, — писал Достоевский, — как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального... Идеал ведь тоже действительность..., как и текущая действительность» (X!, 78).
Действительность «текущая» и идеальная,мастерски сочетаются в «Преступлении и наказании». В исторически достоверную фактографию этого произведения входят не только Петербург — «сценическая площадка» повествования, — но и вся атмосфера эпохи. Эта достоверность побудила Д. И. Писарева отнестись к роману как к документальному повествованию «Я отношусь к роману так, — заявил критик, — как я отнесся бы к достоверному изложению действительно случившихся событий»(Писарев 1954,316). А.Ф. Кони же нашел, что реализм «всех мельчайших подробностей» «Преступления и наказания» носит характер «жуткого предсказания» (Кони 1968, 413).
В самом деле, датирование — современный факт легко вписывался в романное повествование Достоевского. Это могла быть бытовая деталь, как, например, «желтая» питьевая вода в Петербурге 1865 года; или точная деталь места действия — тринадцать ступенек последнего лестничного марша Раскольникова; или ставший частью характеристики героя газетный отклик: таков вопрос Порфирия о преступниках обыкновенных и необыкновенных — парафраза опубликованной в «Голосе» статьи из английской газеты о Наполеоне III и его книге «История Юлия Цезаря» А теория разумного эгоизма, модный тогда утилитаризм служат основой поведения некоторых из персонажей романа. Внимание к факту, его точное обозначение, строго обдуманная сфера жизни факта в структуре художественного повествования были своеобразным творческим откликом писателя на его «позитивное» время. Недаром исследователи отмечали «репор-тажный» характер реализма Достоевского (Данилов 1933,251).
Но «топографическая точность была скорее методом его творчества, чем его художественной целью» (Лихачев 2004, 6). Структура «Преступления и наказания» рождается из противодействия факту.
Несомненно, «фактическим» признаком времени Достоевского был черствый эгоистический расчет, возведенный в норму человеческого поведения. С социальным механизмом этого факта борется в романе живая натура Раскольникова. Читатель застает героя в тот момент, когда он находится во власти идей своей эпохи: убийство
кажется арифметически верным решением общественных проблем, силлогизм о совпадении нравственности с полезностью снимает с этой идеи этическую оценку и придает ей ореол героичности. Собираясь переступить через «обыкновенную» нравственность, Раскольников мнит себя героем необыкновенным: сверхчеловеком, «Наполеоном».
«Ну, полноте, — говорит Раскольникову Порфирий, — кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» (6, 204). В год создания романа на русский язык была переведена книга Наполеона III «История Юлия Цезаря», которую многие исследователи включают в фактическую основу темы Наполеона в «Преступлении и наказании». Самым поражающим в этой книге является полное отсутствие этических размышлений. «С этим смертоносным оружием в руках,— писал Наполеон III, — солдат может в 74 часа убить или ранить 60 человек: у него не может быть недостатка в снарядах: патрон весит только 3 лота; пуля достает на 500 сажен, она опасна на 120, убийственна на 90» (Наполеон 1865,146). Дух холодного расчета в «Преступлении и наказании» стал романным, художественно разработанным фактом.
Расчетливость так или иначе настигает почти каждого из героев «Преступления и наказания».
По установившимся общим нормам пытается жить и Раскольников. Как и все, он рассчитал, что «одна смерть» стоит ста жизней взамен (6,54). Но весь так называемый здравый житейский смысл, даже при субъективном желании следовать его опыту, не может одолеть в Раскольникове активного сострадания
Раскольников бунтует против возводимой в право бесчеловечности. «Сострадание в наше время даже наукой воспрещено», — утверждает следящий за «новыми мыслями» Лебезятников (6,14). Эти «мысли» знает и Раскольников. Он постоянно одергивает себя вопросом: «Имею ли я право помогать?» (6, 42), но не может не любить и не жалеть людей. Первая любовь его — к девушке, которая, казалось бы, самой природой лишена была «права» на любовь: «Она больная такая девочка была.... совсем хворая... Дурнушка такая... собой» (6, 177). В эпилоге романа становится известно, что «преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжение полугода. Когда тот умер, ходил за оставшимся в живых старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами чуть не с тринадцатилетнего возраста), поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его» (6,412).
Жизнь—там, где есть сострадание и любовь к людям. Раскольников живет, когда «нерасчетливо» любит больную девушку, помогает семейству Мармеладовых и девушке с К-го бульвара, выносит из загоревшейся квартиры двух маленьких детей, заботится о больном товарище и его отце. В романе представлены разные соотношения изначальной доброты с «борьбой за жизнь», неизменно эгоистической, неизменно по отношению к чему-то недоброй, так что вовлеченных в эту борьбу людей трудно судить. «Но не вините, не вините, милостивый государь, — говорит о Катери-
не Ивановне Мармеладов. — Не в здравом рассудке сие сказано было, а при плаче детей не евших» (6, 17). Чтобы оправдать себя, общество создает теорию, удобно покрывающую жестокую практику жизни. Её невольно распространяют честные разумихины, разносят глупенькие лебезятниковы, ею пользуются мошенники лужины. И, наконец, находятся раскольниковы, которые переводят теорию в действие.
Обстоятельства, приведшие Раскольникова к его «эксперименту», детально разработаны в «Преступлении и наказании». Это и социальный тупик, вынуждающий перейти за «черту», и олицетворенное в Лужине зло, и страдания близких, и культ силы, индивидуалистическая воля, и обаяние утилитаризма, и теория «среды». Здесь столько «за» в оправдание героя, что Писарев, например, не вменил ему в вину убийство старухи-процентщицы. Достоевский же судит своего героя — и судит прежде всего за то, что тот поддался «диалектике» вместо «жизни».
Что же может противопоставить человек «безобразным поступкам» века, лукавому соблазну вопроса «изверг ли я или сам жертва»? (6,215). По мнению писателя, гнету окружающей обстановки человек обязан противопоставить силу нравственных убеждений и личную ответственность. Это было требование героев, рождающихся из сопротивления среде, — требование, связанное с изначальным и выстраданным стремлением к духовной истине, осмысленным позднее как соотнесение феноменов духовного и душевного (в наши дни в единстве художественного и публицистического измерений — В.Крупиным). Образная система включает с необходимостью образ Христа; в этом ключе закономерна и роль Сони в перерождении Раскольникова, в сюжетостроении и в специфике различных типах образов (образ-событие, образ-спор). Образ кроткой Сони, верующей, что долг человека в» любви, возникает в противовес бесчеловечным «Наполеонам», легко решающим вопрос «кому жить, кому не жить» (6,313).
Так роман «уголовного» сюжета превращался в роман идей и «психологический отчет одного преступления». Для автора существенно не деяние, а мысль, приведшая к деянию. Почувствовавший эту структурную особенность романа И. Ан-ненский писал, что в «Преступлении и наказании» «физическогоубийства не было», просто вспомнились «одеревенело-привычные и пожалуй чуточку пошлые» арестантские рассказы (Анненский 1909, 117). И действительно, об Алене Ивановне в романе и пожалеть некому. Она — простая жертва сюжетной завязки в повествовании о воскрешении Родиона Раскольникова. «Разве я старушонку убил?» — говорит Раскольников, потому что сознает, что убил идею. Идея же эта носилась в воздухе, её можно было услышать из уст первых встречных. Кто же в таком случае преступник?
Раскольников не может сознаться в преступлении. С его точки зрения, действие, правомерность которого подтверждена обществом, не является преступным. И сознается он не в преступлении, а в факте убийства. Это хорошо видно из сопоставления его признания с признанием Миколки. «Николай вдруг встал на колени...— Виноват! Мой грех! Я убивец!» (6,271). Здесь выражено полное сознание вины и, как следствие этого сознания, желание её искупить. У Раскольникова — не так. Внутрен-
не он к признанию вины не готов: «В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Всё это один только призрак. Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают» (6, 323). Отсюда презрение Раскольникова к своим судьям. «Встану, да и брякну всем в рожу всю правду; и увидите, как я вас презираю», —думае г, он, да так и делает. «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру её Лизавету топором и ограбил», — говорит он гордо (6,410).
«Имеет ли расстояние влияние на человеколюбие?» — иронически спросит Достоевский своих читателей в «Дневнике писателя». «На каком расстоянии кончается человеколюбие?» Он осудит толстовского Левина за то, что тот ставил границы своему личному вмешательству, и скажет ему: «Где же ответственность человеческая?» (XII, 227, 230, 214). Мысль о нравственной ответственности каждого за все деяния в мире владела художником и в одном из лучших его романов.
Н.К. Михайловскому не нравилось, что Достоевский требовал наказания «не за преступление только, а и за преступную мысль» (Михайловский 1908,415). Но история подтверди г правоту Достоевского. Она покажет, что ложные идеи формируют ложное поведение, а теории, оправдывающие бесчеловечност ь, создают психолог и-ческую готовность к преступному деянию. Поднятая в романе проблема особой ответе ценности перед лицом преступлений против человечности получит правовое выражение на Нюрнбергском процессе.
Шиллеровский мотив радости, которая «в солнцы хаос» разовьет, выдавал в авторе романа приверженца великой социальной утопии, воплощенной в хорином финале девятой симфонии Бетховена. Достоевский вел своего героя наперекор «фактам», убивающим в людях человечность, и верил в непреоборимость его внутренних сил, в торжество гуманистической морали над любым исторически ограниченным «правом». Художник создал Миколку с его подвигом личного искупления чужой вины, мещанинишку, признающегося в том, что виноват в «злобных мыслях», и в повествование о преступлении и наказании включил страстный призыв к нравственному поведению и личной ответственности перед любым социальным выражением зла.
Такое решение проблемы вытекало из недоверия к официальной законности, воодушевлявшей в то время многих деятелей судебной реформы. Действие в романе происходит летом 1865 г.: судебная реформа уже объявлена (1864 г.), хотя новые судебные уставы еще не введены. «Вот что-то новые суды скажут, — говорит Пор-фирий Петрович. — Ох, дал бы бог!» (6,348). Сюжетному действию романа прокладывают пути горячие споры о том, «есть или нет преступление» (6,196), разговоры на модные тогда темы о праве и силе, о психологическом состоянии преступника, о преступлении как мономании и психической анормальности.
Творчески осмысляя свою современность, писатель опирался на литературные традиции Пушкина и Гоголя. В образной системе «Бесов» — преодоление сатанинских начал. Взяв эпиграфом пушкинские строки, Достоевский указал на литературную генеалогию своего романа, подчеркнув её тождественностью названия — «Бесы». У Гоголя он взял принцип концентрированного изображения зла во имя борьбы со злом и на этом основал памфлетность своего романа.
Для Достоевского Пушкин был поэтом, гениально отметившим «скитальца в родной земле» (10/443), «несчастного мечтателя», который, «чуть не по нем», злобно терзает и «казнит за свою обиду» ( 10/445). Пушкинский текст о бесах—жалобных созданиях, разрывающих сердце поэта, о бесах, сбивающих с дороги, Достоевский воспринял в свете 70-х годов и нечаевского процесса как «пророчество и указание» (10/442). Бесы выглядели в его сознании наследниками Алеко, обагрившего руки кровью, и Онегина, убившего Ленского «от хандры по мировому идеалу» (10/447); они были связаны с типом «гордого человека», взявшего на себя не- и античеловеческую задачу пересоздания мира.
Достоевский был выше многих холопствующих и заблуждающихся своих современников, видевших «бесами» одних только нечаевцев и нигилистов.
В романе — боль и гнев художника, вызванные рухнувшими надеждами, жалкими результатами реформ, русским пореформенным обществом, которое вместо дороги истины и добра вышло к тупику истории. В этом итоге писатель видел результат двухсотлетнего стремления России стать в уровень с Европой. Европейская же история не удовлетворяла его из-за бездуховного характера своего развития. С пристальным вниманием следил Достоевский за французскими событиями 70-х годов, отчетливо видя, какие силы и кому продали республику и революцию. Его симпатии не принадлежали ни Тьеру, ни Гамбетте, ни тем более Жюлю Фавру. Не сочувствовал он Наполеону III и Бисмарку, легитимистам и клерикалам, самому папе Римскому. Художник страдал за Францию, покинутую и никому не нужную, раздираемую жестокой борьбой партий; страдал из-за того, что «несомненное преступление в измене отечеству нельзя судить во Франции добросовестно — за неимением судей»: все преступны, все думают об интересе своей партии, никто не озабочен судьбой страны и народа («Гражданин» 1873,43).
В проявлениях современной ему русской истории Достоевский слышал ту же ненавистную партийную борьбу, поступь торжествующего буржуа.
В.П. Мещерский однажды заметил: «У Самарина избыток ненависти происходит от недостатка любви; у Достоевского ненависть, как у всех апостолов, была неизбежным последствием любви к идеалам и правде» (Мещерский 1912, 180). Ненависть Достоевского к либерализму Мещерский толковал по-своему: как ненависть к вольнолюбию. Достоевскому же либерализм был ненавистен и как форма обмана — и как несоответствие архетипическим установкам нравственной личности.
Актуальна авторская оценка «безгеройности» героя (Фридлендер 1972,285—290). Знаменательно, что многие персонажи принимают Ставрогина не за того, кто он есть на самом деле. Для Марьи Тимофеевны он — сказочный князь-богатырь, эпопейный герой-богоборец, который «и богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет» (10,219). Д ля Варвары Петровны — Гамлет, благородный и героический. Для Лизы Тушиной — рыцарь, воплощение преданности и благородства; «оперная ладья», ставшая явью. И даже для Верховенского—«Иван-царевич». «Почему это мне все навязывают какое-то знамя?» —спрашивает Ставрогин Шатова ( 10,201 ). И действительно, в романе постоянно проводятся аналогии между «ненастоящим» героизмом Ставрогина и подлинными
героями художественной классики. «Какая вы «ладья», - кричит взбешенный неудавшимся финалом Петр Верховенский, — старая вы, дырявая дровяная барка на слом!» (10,408), Ставрогин «ни холоден, ни горяч», он ничего и никого не умеет любить сильно. Нравственному суду подвергает Ставрогина Шатов.
Органичная для Достоевского и своеобразная обобщенность приводит к образным соотнесениям: суд — мироздание - гармония (во всей ее противоречивости...). В феноменгологическом аспекте естественно сопроягаются крайне разнообразные мотивы: от античных, утопических—до исламских. Указанное соотнесение решается в хронотопе и в пространственно-временной образности. В «Бесах» чрезвычайно знаменателен разговор о дороге между Степаном Трофимовичем, который «десять лет страдал за народ» (10,481), и мужиком. Степан Трофимович не знает, куда идти: «до Хатова» или «в Спасов». Мужик же твердо знает, что до Хатова «девять верст отселева» и что если Степан Трофимович учитель, то «ему надо дальше Хатова.
— Коли в Спасов, так на праходе, — не отставал мужик.
— Это как есть так, — ввернула бабенка с одушевлением,— потому, коли на лошадях по берегу— верст тридцать крюку будет.
— Сорок будет.
— К завтраму к двум часам как раз в Устье праход застанете, — скрепила бабенка» (10,483).
По тонкости и точности художественного выражения мысли эта сцена — одна из лучших. «С детства, — вспоминал К. Петров-Водкин, - меня удивляла способность мужиков ощущать до любых делений участки суточного времени и соразмерять их с пространством и собственным движением» (Петров-Водкин 1970, 84). Сопоставляя простого мужика и бабу, по-хозяйски распоряжающихся земным пространством и временем, с безнадежно запутавшимся «главным учителем», Достоевский ясно показал, что его авторские симпатии принадлежат человеку труда из народа.
Во время работы над «Идиотом» Достоевский читал Коран во французском переводе. Его заинтересовал эпизод, когда Магомет уверовал в свое избранничество. Магомет молился, чтобы неземное видение явилось ему еще раз. Оно пришло вместе с припадком эпилепсии, и Магомет стал проповедником ислама.
Известный арабист и знаток Корана И.Ю. Крачковский писал: «Мухаммед — поэт, а не мыслитель. Отношение к богу — ислам, а не искание. Существо Аллаха определяется ощупью и нервно, а не логически» (Коран 1963,669). Для Достоевского как художника в высшей степени характерно обращение к одному из самых поэтических моментов восточного предания. Его апелляция к мировой гармонии, призыв к совершенствованию человека отличает та же трогательная поэтичность и наивность, какая чувствуется, например, в двадцатой суре Корана: «А кто обратится от воспоминания обо мне, у того, поистине, будет тесная жизнь» (Коран 1963,253).
Мышкин обладает всей полнотой бесконечного пространства. Его «последнее мгновение» является «в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молит-
венного слития с самым высшим синтезом жизни» (8,188). Оно открывает красоту жизни: «...Эта секунда, по беспредельному счастию, им вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни» (8, 189). Герой Достоевского ощущает свое единство с гармонией мироздания.
Выстраданная гармония пронизывает самые контрастные, полярные, непримиримые ситуации.
Когда писались «Братья Карамазовы», сознание художника уже «переварило» проблему русского судопроизводства. Изображение суда не входило в положительные цели романа, поскольку русский пореформенный суд уже не составлял для автора материал серьезных размышлений. Его беспокоила идеология эпохи, отражавшаяся в суде: «модные» понятия о гуманизме (Достоевский осмеивает их в сценах с госпожой Хохлаковой), юридическая, то есть правовая, допустимость убийства «Такое убийство не есть убийство»,— говорил Фетюкович [10/303]). Подобному «прогрессу» Достоевский предпочитал «жупел московской купчихи», в которую никак не мог «воплотиться» ультра-прогрессивный черт из Иванова кошмара. И «мужички за себя постояли», оставшись при незыблемости понятия о том, что убийство есть преступление. Правда, они осудили невинного. Но кто же убил Федора Павловича, как ее мысль о том, что убивать «позволено» и не преступно?
«Искусство мысли» назвал статью о творчестве Достоевского И. Анненский. Это верно: дорогие сердцу художника мысли рождали неповторимые сюжеты и образы, а в груде реалистических «явлений» и «фактов» графически четко прорисовывался мир, сконструированный по чертежам авторского идеала. Роман завершался идиллией «У камня». Нежеланный ход истории роман изживал, как пародию, возвращаясь к утопии братства.
В ГЛАВЕ ТРЕТЬЕЙ «ОБРАЗНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КОДЕКСА ДОБЛЕСТИ И СУДА ЧЕСТИ» образно-феноменологические аспекты рассматриваются в континуальной связи: от ранних произведений — к «Запискам из подполья» — и к позднему творчеству.
Важнейшая особенность дел чести в произведениях Достоевского — это то, что они, в сущности, никогда не завершаются. Даже уже дошедшие до дуэли конфликты Ставрогина с Гагановым и Зосимы с его безымянным противником все-таки не завершены, поскольку и Ставрогин, и Зосима решают — по разным причинам и с разными последствиями — не стрелять в своих противников. Причины незавершенности дел чести меняются на протяжении творчества Достоевского. Русская литература — до Достоевского, при его жизни и после его смерти — постоянно изображала поединки. Вступая в диалог с этой традицией, Достоевский никак не мог избежать дуэльной темы. Но дуэль не была для Достоевского просто литературным топосом или удобным сюжетообразующим приемом. Он видел в ней социальный институт, необходимый для защиты личного пространства и релевантный не только для дворян. Именно поэтому он включал конфликты чести в биографии совсем не подходящих на роль дуэлянтов персонажей—таких, как Макар Девушкин и Голядкин, которые в реальной
жизни не могли бы даже помышлять об участии в поединке. Несмотря на очевидную несовместимость этих персонажей с идеей дуэли, Достоевский все-таки ждет от них адекватной защиты своего личного пространства и телесной неприкосновенности.
Дуэльные нарративы также дали Достоевскому возможность исследовать проблему идентичности и целостности индивидуума. Дуэль — всегда столкновение мнений об идентичности: каждый участник требует, чтобы противник видел его определенным образом. Чтобы добиться этого, человек должен прежде всего иметь четкий и твердый взгляд на себя самого и не позволять чужому мнению влиять на его самовосприятие. Постановка и образное разрешение этих вопросов связаны с проблемой идентичности.
При всей вере Достоевского в способность дуэли защитить личное пространство и достоинство человека его отношение к дуэли всегда было двойственным. Он никогда не хвалил безоговорочно кодекс чести, как никогда и не отрицал его полностью. Его отрицательное отношение к дуэли особенно очевидно в публицистике. В своих статьях он не скрывает обеспокоенности нравственными проблемами, порождаемыми дуэлью: ее жестокостью, неизбежно сопутствующим ей эгоизмом и ее несовместимостью с христианскими ценностями. При всей трагичности гибели Лермонтова на дуэли, он считал, что поэт погиб «бесцельно, капризно и даже смешно» (Достоевский XVIII, 59; XXI, 267; XXIV, 102). На протяжении всего своего творческого пути Достоевский неизменно осуждал Онегина и Печорина за убийство противников на дуэли и очень не любил Сильвио (Достоевский, XIX, 11; XXII, 152; XXIII: 87; XXIV, 981; XXIV, 262) Он подчеркивал дурное влияние Печорина и Сильвио на русское общество: «Вспомните: мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении «Героя нашего времени». Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести «Выстрел», взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге, мало походил на молодца в глазах дамского иола» /«Дневник писателя»/ (Валагин 1978,205-209).
Образные феномены долга и чести и характерны уже для ранних произведений Достоевского.
Слово «дуэль» ни разу не упоминается в «Бедных людях», и кажется, что характер протагониста, типичного «маленького человека», не позволяет сюжету развиваться в этом направлении. Тем не менее в ходе повествования Макар Девушкин многократно рассуждает о чести, достоинстве, добром имени и репутации, утверждая, что он, как и любой человек, имеет на них право. Более того, он попадает в ситуацию, отдаленно напоминающую дело чести: примерно в середине повести пьяный Макар требует объяснений у обидчика Вари, офицера, сделавшего ей «недостойное предложение», после чего его вышвыривают из дома обидчика. В этом эпизоде как бы вновь разыгрывается сцена из «Станционного смотрителя» Пушкина, в которой отца выгоняют из дома соблазнителя его дочери. У Достоевского, однако, этот эпизод вызывает мысль о дуэли, чего нету Пушкина. Сцена не только включает такие элементы, как нанесение оскорбления невинной девушке и ее благородному защитнику, но также провоцирует Макара
на размышления о чести и достоинстве. Слово «амбиция», часто повторяемое им при обсуждении этого эпизода и последовавших за ним событий, также отсылает читателя к идее дуэли (см.: Достоевский, 1:66—67).
В словаре В.И. Даля, отражающем современное Достоевскому употребление, слово «амбиция» означает эмоцию сложную и не вполне положительную. В.И. Даль дает три определения: внутреннее достоинство («чувство чести, благородства»), внутренние отрицательные качества («самолюбие, спесь, чванство») и преувеличенная потребность во внешнем признании («требование внешних знаков почета, уважения» (Даль 2004,14). Достоевский хорошо понимал отрицательные коннотации слова «амбиция», судя по сделанному им в 1847 году замечанию о том, что амбиция у русских указывает на недостаток у них уверенности в себе. Кроме того, на одной из встреч петрашевцев Достоевский говорил об амбиции в исключительно отрицательном смысле, противопоставляя ее истинному чувству достоинства. Он объяснял комитету, расследовавшему дело петрашевцев: «[Я] хотел доказать, что между нами более амбиции, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий» (Достоевский, XVI: 129).
Макар же, по-видимому, не замечает отрицательных значений слова «амбиция» и использует его как синоним таких понятий, как достоинство, честь, гордость и самоуважение. Так, он утверждает, что «амбиция [ему] дороже всего» и говорит о своих врагах (бестактных писателях), которые нападают «на честь и амбицию честного человека» (Достоевский, 1:65,69). Однако в ходе повествования объектом пристального рассмотрения со стороны Макара (и читателя) становятся как положительные, так и отрицательные коннотации этого понятия, его внешние и внутренние аспекты.
Нерешительность и рефлексия, характерные для подпольного человека, могут оказаться чем-то более достойным, чем твердолобое простодушие человека действия, который, как Рылеев и Арбенин, ничтоже сумняшеся плюет в лица и отвешивает пощечины. Уверенность помогает людям действия добиваться поединков, позволяя им, таким образом, защищать свое личное пространство. Подпольный человек не может добиться дуэли и потому не может защищать свое личное пространство. Во многом это объясняется тем, что он не способен дать пощечину и, вероятно, не смог бы выстрелить в человека. Он не говорит о своем отвращении к насилию открыто, но можно предположить, что он испытывает его. Пытаясь принести извинения Ферфичкину и Зверкову, он произносит странную фразу: «Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин!» (Достоевский, V: 147). Подпольный человек нигде не уточняет, чего же он боится, и возможно, что он боится как всегда оказаться смешным. Но возможно также, что он боится оказаться перед необходимостью ранить или убить противника.
На завершающей стадии конфликта со Зверковым подпольный человек ужасается мысли о том, что ему придется ударить врага по лицу: «Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж непременно сейчас, теперь случится, и уме никакими силами остановить нельзя» (Достоевский, V: 151). Он обнаруживает, что не может нарушить личное простран-
ство другого человека, чтобы защитить свое собственное. Может быть, это открытие не улучшает мнения читателя о нем как дуэлянте. Однако болезненная озабоченность героя «Записок из подполья» жестокостью пощечины предвосхищает важность этой темы для персонажей позднейших произведений Достоевского: Мышки-на, Ставрогина и старца Зосимы.
В «Двойнике» Достоевский демонстрирует, что, даже мастерски владея конвенциональными формами поведения, человек может не суметь защитить свое личное пространство, поскольку для успешного самоутверждения необходимо также твердое чувство собственного «я». Голядкину столь очевидным образом не хватает этого чувства, что таинственный двойник присваивает его имя, чин и в конце концов саму его личность. Столкновение двух Голядкиных часто принимает формы конфликта чести. Конечно, оба они мелкие чиновники, скромные в своих привычках и образе жизни, и поэтому плохо подходят на роль дуэлянтов. Однако в ходе повествования Голядкин-младший сначала робко, а потом все более настойчиво принимает на себя роль человека более высокого социального статуса, чем его оригинал. Ему удается заменить собой, а затем и уничтожить Голядкина-старшего. «Младший» делает это, сначала нарушая его личное пространство, потом отказывая ему в статусе человека чести и, наконец, аннулируя его как человека. Этим расширяется феноменологическая ценность образов.
В Заключении обобщены основные результаты исследования и обоснованы его перспективы.
Основные положения исследования отражены в публикациях: 1. Дорошева Е.В.(Канашкина). Суд присяжных как гуманитарно-культурная и структурно-семантическая проблема // Русская литература и русская цивилизация в поисках эстетической цельности. Краснодар, 2000. С. 147-157. 2 Дорошева Е.В. Свободная личность в Мертвом Доме. По страницам «Записок из Мертвого Дома» Ф.М.Достоевского // Кубань. 2001. № 1 -2. С. 129-142.
3. Дорошева Е.В. Дух созидания и либеральная Россия. «Свобода в законе» на судебных страницах «Дневника писателя» // Кубань. 2002. № 2-4. С. 188-196.
4. Дорошева Е.В. Высокий синтез. Воспоминание о смертной казни в романе «Идиот» // Векторы литературы. Новые реалии — новая творческая мысль. Краснодар, 2005. С.77-87.
(
í
i
}
РНБ Русский фонд
2007-4 8347
2 9 НОЯ 2005
ДОРОШЕВА Екатерина Витальевна Достоевский и русский суд как основа национально-правовой этики: феноменология образов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Бумага офсетная. Формат 60x84/16. Объем 1,2 печл. Тираж 100 экз. Подписано к печати 2.09.2005.350040, Краснодар. уп.Ставропольская, 149.
Центр «Универсервис».
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Дорошева, Екатерина Витальевна
ВВЕДЕНИЕ.
1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО-КРИМИНАЛИСТА В ЗЕРКАЛЕ И «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ.
1.1. Суд, личность, государство в журналах «Время» и «Эпоха».
1.2. Формула «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома».
1.3. Судебные страницы «Дневника писателя».
2. ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДИЯ В КОНТЕКСТЕ «ВЕЧНОЙ ИСТИНЫ»
НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО САМОПОЗНАНИЯ.
2.1. За парадоксами «Преступления и наказания», образ «подданного» судопроизводства.
2.2. Семантика грядущего «бестианства»: обвинительно-оправдательный ракурс в романе «Бесы».
2.3. Контуры правозащитного пафоса в интерпретационном поле романов «Идиот» и «Братья Карамазовы».
3. ОБРАЗНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КОДЕКСА ДОБЛЕСТИ И СУДА ЧЕСТИ.
3.1. Долг чести и право на бесчестие в ранних произведениях Достоевского.
3.2. Отображение «лабиринта сцеплений» в пространстве русского Правопорядка и рефлексиях подпольного человека
3.3. Суд собственной совести в поздних произведениях Достоевского.
Введение диссертации2005 год, автореферат по филологии, Дорошева, Екатерина Витальевна
Динамичной константой филологического знания, включая литературоведение и науку о журналистике, стала полифония мнений о сущности образных систем. «Единый художественный мир состоит из реалий и бьггая, и мыслимого автором мира», соответственно, «художественная речь имеет собственную ценность пспхшу, что она не просто форма, а и определенное содержание, ставшее формой образа» (Кузнецова 2003, 3, 7). Роль этого гносеологического принципа для познания единства литературы и публицистики отмечается в новейших исследованиях творчества А.П. Чехова (JI.E. Кройчик), писателей и публицистов Серебряного века (ТМСгешнова).
Это многоголосие концептуализуется многомерно; в системе опорных поликонцептов значима соотнесенность сущего и явленного. Соответственно, образные системы раскрываются с феноменологических позиций. В новейших исследованиях корреляция журналистского л литературоведческого измерений определяется как необходимая, причем в вечно-актуальных понятийных рамках, и приводит к злободневным обобщениям: «Поиск истины Достоевским продолжается и в публицистических произведениях, однако писатель оставил за рамками как «Дневников», так и «Записных тетрадей» весь тот шквал сомнений и неверия, который в художественных произведениях бередил умы и сердца героев. (.) Гибнут молодые силы впустую, без поиска духовного центра, без умения приложить свою энергию к благому делу» (в работе с симптоматичными позицией, заглавием, пафосом и издательской серией: Айрапетян Р.Г. Достоевский о русском разъединении и обособлении // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. М.: Изд-во МГУ, 2005. 4.2. С.274-275). Приведенная корреляция принципиальна. Она с единых позиций представляет роль образных систем Достоевского в соотнесении русского суда и основ национально-правовой этики.Феноменологические позиции побуждают к анализу взаимодействия между художественной и публицистической образностью, поскольку оно значимо для углубленного понимания как первой, так и второй см.: Карпов А.О. К проблеме феноменологии творчества // Филос. науки. 2005. №5.С.Ю5,118).
В связи с творчеством Достоевского устойчивую тенденцию к феномено-логизации конкретизируют противоречивые аспекты литературного и журнального процесса, контрасты между различными принципами творчества: и художественного, и публицистического. Так, в показательной по пафосу и по заглавию статье как центральная для Достоевского декларируется коллизия между мировоззренческой проблемой и художественной пластикой: «неустранимость мирового зла» (соотнесенная с принципами самоорганизации человека, с поддержкой концепции В.В. Розанова в новой гносеологической ситуации) рассматривается в контексте пластического преодоления зла (Гаджиев К.С. Апология Великого Инквизитора // Вопросы философии. 2005.№ 4. С.11).
В современных условиях гуманитарного познания закономерно обостряются проблемы смыслового, эмоционального, ценностного потенциала образов и образных систем. Обосновывается, например, «карамазовщина» как символ русской стихии (одноименная статья В.К. Кантора // Вопросы философии. 2005.№4.С.11).
Принять эту искусительную концептуализацию можно, однако, лишь с серьезной коррекцией — в таких гносеологических координатах, при которых «стихия — это ни в коем случае не агрессия.она не может быть рассудочной, но она обязана быть разумной в соответствии с первоначальной целью возникновения— созиданием жизни. Стихия сложна для понимания тем, что внешне она — порыв духа (причем созданного ею же). Однако национальная стихия — это сила, создающая и дух, и веру, и волю» (А.В. Канашкин 1997,5).
Значимость творчества гения, художническая зоркость Достоевского проявлялась в глубине провидческих предостережений, в умении беспощадно анализировать «текущее» во имя прекрасного будущего. Отношение писателя к русскому суду — одно из блестящих тому свидетельств.
Соответственно, актуальность исследования заключается в обращенности к принципиальным проблемам филологического знания, а именно к интегративной сфере взаимообогащения науки о русской литературе и науки о журналистике — к феноменологии художественного образа в его взаимосвязях с публицистическим в контексте литературно-журнального процесса. Актуальность усиливается той знаковой феноменологичностью творчества Достоевского, в которой русская духовность как сущее определяет культово-мировой статус Художника.
Истолкование темы русского суда в творчестве Достоевского (исследователями-филологами, теоретиками и практиками-юристами и т.д.), отличающееся контрастностью уже свыше столетия, может быть уточнено с учетом феноменологической значимости образных систем. Ее изучение наметилось сразу же после смерти писателя. 2 февраля 1881 г. в годовом собрании Юридического общества при Санкт-Петербургском университете А. Ф. Кони произносит речь о Федоре Михайловиче. Он восхищается тем, как глубоко и верно поставлены писателем специальные вопросы уголовного исследования: разграничение разных видов убийств, роль собственного сознания, определение преступления и наказания, принятие мер пресечения. Увлеченный судебной реформой, А. Ф. Кони сопоставляет страницы творчества художника с соответствующими параграфами Уложения о наказаниях и Устава уголовного судопроизводства, находит их полную идентичность и называет Достоевского выразителем необходимости «перехода нашего суда от отживших старых форм к новым» (Кони 1968, 419) . Едва успела отзвучать торжественная речь Кони, как ее начал ниспровергать Н. К. Михайловский. Он заявил, что «г. Кони. придавил покойника» своей похвалой, что «художник, умевший глаголом жечь сердца людей, певец униженных и оскорбленных» достоин лучшего понимания и анализа, чем «маленький-маленький» анализ мер пресечения, способов уклоняться от суда и прочих вещей, доказывающих лишь «научную ценность за поэтическими произведениями» (Михайловский 1908, 413, 415). Так с самого начала обнаружились разные подходы к конкретно-историческим темам в творчестве Достоевского. Исследовательская традиция пошла за А. Ф. Кони. Тема «Достоевский и суд» утвердилась как периферийная, узкоспециальная, не имеющая выхода за пределы истории суда (Новицкий 1921; Голяков 1959; Гольдинер 1961, 19-21). Лишь в последнее время появились работы, исходящие из того, что «размышления
Достоевского о суде далеко выходят за рамки юриспруденции» (Щенников 1971,3).
Достоевский был современником той поры, когда едва начавшее существовать в «новых» судах современное ему правосознание стало колебаться под влиянием системы объективных обстоятельств. Ухищрениям этого права, которое, по свидетельству одного из «веховцев», по самому духу своему всегда «основано на компромиссе» (Кистяковский 1909, 136), противопоставлялись позитивные нравственные установки, включая национальные духовные традиции человечности и веры. Герои Достоевского совестливы: рано или поздно они умеют произвести «суд собственной совести», осудить себя или других за бесчеловечность.
Цель исследования — выявить единство в феноменологическом многообразии образов русского правосудия и смежных явлений как принципиальных для творчества Достоевского.
Целью определены три основных задачи исследования.
1. Соотнести три феноменологических подсистемы: суд, личность, государство как публицистические феномены в журналах «Время» и «Эпоха»; образную явленность формулы «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома»; образы в судебных страницах «Дневника писателя».
2. Систематизировать образные сущности и феномены Правосудия в романе «Преступление и наказание»; феноменологические ракурсы в романе «Бесы; интерпретационное поле исследуемых образных феноменов в романах «Идиот» и «Преступление и наказание».
3. Охарактеризовать образно-феноменологические аспекты исследуемого пространства в континуальной связи: от ранних произведений — к «Запискам из подполья» — и к позднему творчеству.
Методологической основой служат взаимодополняющие принципы системной, социокультурной и исторической исследовательских парадигм в объяснении литератур-нош и публицистического процесса. Их совместимость обеспечивает феноменологическая установка на ингерсубъектвносгь, органичную для исследуемого пространства (ЭГуссерль, ИАИльин, СЛФранк, в последние десятилетия— В.У. Бабушкин, В.И. Молчанов, Н.В. Мотрошилова, В.В. Семенов). Причем феноменология образа нацеливает на взаимную необходимость сущности и явления в особой— интерсубъективной — целостности.
Опорными являются методологические принципы целостности, единства в раскрытии основополагающих категорий: свобода, право, личность и др. (И. Кант; А.Ф. Лосев; В.В. Кожинов); на их основе анализируется как система образных феноменов, так и соотношение общего и особенного: «общность есть не абстрактно-изолированная идея, но руководство к действию. закон и метод для возникновения индивидуального» (Лосев 1989, 6)— в исследуемой сфере индивидуального творчества Достоевского. Методологически существенно кантовское представление о том, что настоящая свобода оказывается формой отказа от следования естественным человеческим желаниям, это некий промежуточный феномен, ограниченный, с одной стороны, стремлением удовлетворить желание, с другой же — запретом на реализацию подобного стремления. С учетом методологического принципа полифонии (М.М. Бахтин) раскрывается художественно-публицистическое взаимодействие, в том числе являемое в своеобразии текстов.
Научная новизна результатов заключается в трех взаимосвязанных аспектах. Во-первых, представлены в единой системе ранее обособленные объекты. Обоснованы новые связи между социально-историческими и художественными феноменами. Единство системы и динамики дало возможность интегрировать как носитель единых закономерностей пять основных подпространств: канонические тексты, черновики, записные книжки Достоевского, подготовительные материалы к «Дневнику писателя», обособившиеся в отдельный объект, и собственно-журнальную публицистику. Такой подход позволяет мотивировать специфическую взаимообусловленность образных проявлений и их изменчивость (дуэльные нарративы с необходимостью раскрывают в ряде произведений комплексную проблему идентичности и целостности личности; в черновиках «Подростка» в пределах одного абзаца соединены идея девичьей чести, оскорбления чести и непротивления злу; и мн.др.). По-новому охарактеризовано преображение реальной истории в идеальный план романов Достоевского. «В комбинации и путанице самых обыкновенных вещей» [8, 273] он провидел основы человеческого бытия, и глубинные взаимосвязи внешне обособленных пространств творчества гения установлены в формате этого историко-художественного взаимодействия.
Во-вторых, впервые с феноменологией образа соотнесен ряд художественных приемов, характерных для Достоевского: неповторимая смысловая контрастность (позитивные номинации «восторг» и мн. др. в сценах дуэлей); глубоко индивидуальная активизация разных значений доминантных слов текста. На этой же основе детерминированы редакционные поправки и объяснены избранные для анализа направления журнальной полемики.
B-третъих, новы обоснования систем образов, в т.ч. художественного и публицистического образа правопорядка. Новизна проявилась в характере историко-литературной категоризации: впервые категориями духовной свободы, полифонии и др. охватывается единство литературного процесса, публицистического пространства и критической рефлексии. Выявление тематических стержней соотнесено с развитием тем по восходящим векторам (образное пространство /не/свободы в «Записках из Мертвого дома» и др.).
На защиту вынесены шесть основных взаимосвязанных положений.
1. В образных системах Достоевского-прозаика и публициста, в его редакторской деятельности единой системой проявляется специфическая структура художественного мышления: история раскрывается в закономерной соотнесенности с мировой гармонией, каждая конкретно-историческая тема его выступлений одновременно оказывалась прологом, ведущим вглубь идеи о «беспредельном счастье». Историю Достоевский сопоставлял с «вечной истиной» своего идеала. В этой специфике заключается одна из существенных причин неотделимости Достоевского-публициста и «хроникёра» эпохи от Достоевского-художника.
2. Тема русского суда с ее точными конкретно-историческими реалиями и феноменами неотъемлема от авторской индивидуальности Достоевского, сущ-ностно и феноменологично отличая его от ряда современников, предшественников, литературных «преемников» и последователей. Это принципиальное своеобразие показательно уже в период 1860-х годов и в дальнейшем, когда во всех его произведениях так или иначе звучит тема русского суда. Она связана со всем многообразием его писательской идеологии.
3. Для журналов Достоевских характерно системное внимание к мировой юридической мысли. Основные аспекты этого внимания также феноменоло-гичны и сущностны. Редакция откликается на все соответствующие книжные новинки и важнейшие философско-правовые споры. Критико-публицистические отклики служат феноменологическим импульсом и проявлением более общих закономерностей; в этом интегративном пространстве вырастали сюжеты и мизансцены будущих романов Ф. М. Достоевского.
4. Для наследия Достоевского принципиально многообразное единство в осмыслении темы суда, проявившееся в редакторской деятельности, в художественном и публицистическом творчестве. В объектах творчества, в литературных образах-персонажах значимо, что духовная свобода героев, особенно «любимых героев», писателя состоит в свободе от античеловеческих поступков, в приумножении нравственных по содержанию деяний. То же справедливо для образов иного характера — для образа-события, образа-правопорядка и т.д;
5. В эпоху Достоевского социокультурно значимым становится требование защиты прав личностного начала. Оно (в единстве с другими условиями) определяет отношение Достоевского к русскому суду в контексте свободы личности и ее духовной ответственности, её права на счастливую жизнь, отношение к обязанностям человека— члена социального коллектива и к обязанностям перед Землей, перед «чудом» биологической жизни. С этой принципиальной особенностью соотносится направленность журнальных публикаций и реакция на них (установка«Времени», начиная с № 11 1862 г., предоставить печати больше прав при обсуждении судебной реформы, одобренная разными слоями читателей, и др.).
6. Для образных систем в творчестве Достоевского существенно, что современный ему человек мучился противоречием между естественной склонностью к созиданию, взаимопомощи и биосоциально привычной тенденцией к ущемлению ближних, к эгоистическому торжеству собственной силы.
В связи с этой принципиальной чертой объяснимо отношение к знаковым образам (пушкинскому Сильвио, лермонтовскому Печорину и др.). Как для художественных, так и для публицистических образов Достоевского феноменологически значимы резонансы, созвучия, полемика, контрапункты с образами в творчестве предшественников и современников; причем феноменологичность определяется в единстве с принципами, творчески близкими Достоевскому (гоголевский принцип концентрированного изображения зла во имя борьбы со злом).
На этой основе в произведениях писателя созданы такие образные системы, который раскрывают особый правопорядок, обеспечивающий победу добрых качеств человека.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии связей между элементами категориального аппарата: категориями «убежденность», «проблема», «образ», «сущность», «феномен». При этом теоретизация исходит из «особенного дара» Достоевского — пластически-проблемного умения видеть за фактом явление, в явлении— сущность, в «маленьких картинкарс» — целостную эпоху и сущность народного духа. Этот дар явлен в неповторимом единстве показателей душевного настроения и событий как фактов одной меры достоверности. На этой основе детерминированы литературные и публицистические связи (выбор названия «Бесы»; журнальная оценка «Моих записок» JI.H. Андреева — «пахнет Достоевским», особенно о балансировании «на грани парадокса», и мн.др.). Теоретико-литературно и теоретико-журналистски мотивирован закономерный характер социально-политических откликов на публикации (например, на статьи в «Эпохе»).
Практическая значимость исследования состоит в направленности на насущные акциональные задачи, в том числе познавательные, и на развитие духовности в пространстве литературного образования. Практическую значимость укрепляет востребованность результатов в процессе обучения студентов старших курсов, бакалавров, магистрантов специальностей «филология», «журналистика», «издательское дело» (дисциплины историко-литературного, историко-журналистского и теоретико-литературного циклов, особенно разделы, посвященные художественному и публицистическому познанию; спецкурсы и спецсеминары, разрабатывающие творчество Ф.М. Достоевского, образные системы, журнальный процесс середины и второй половины XIX столетия).
Апробация результатов заключается в представлении докладов на конференции различного ранга в 2001-2005 годах, в т.ч. международной «Язык. Текст. Дискурс» (Ростовский госпедуниверситет, 2005), Всероссийской «Достоевский и современность» (Армавирский госпединститут, 2001), XXX научной конференции студентов и молодых ученых Юга России (Кубанский госуниверситет, 2004).
Структура работы включает Введение, три исследовательских главы, Заключение и Библиографический список.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Достоевский и русский суд как основа национально-правовой этики: феноменология образов"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненное исследование позволяет обосновать систему обобщений и перспектив.
1. Литературоведческий и научно-журналистский инструментарий обладают объяснительной силой для осмысления суда в аспекте основ национально-правовой этики, поскольку Слово и Суд в избранном объектном пространстве связаны разносторонне и многомерно: на уровнях сущего и явленного. Мотив Суда закономерно явился одним из корней национальной нравственности, и это его назначение соотносительно с миссией словесности.
Соответственно, феноменологический подход познавательно сообразен поставленной цели. Феноменология образов Достоевского подтверждает принципиальный характер указанных взаимосвязей (побудивший адвоката, публициста, исследователя-правоведа С.А. Андреевского назвать учителем юристов художественную литературу «с её великим раскрытием души человеческой»).
Истинное раскрытие литературой человеческой души и позволяет соотнести образные системы судопроизводства и нравственные начала. Крайне многоплановые образы, связанные с проблемами русского правосудия и смежных явлений (казнь, дуэль и т.д.), феноменологически взаимосвязаны ввиду глубочайшего поликоординатного своеобразия творчества Достоевского. Выявленная специфика взаимосвязей дает возможность обосновать решение определенных спорных проблем исследования его публицистики и романов.
2. Ключевой характер носит отображение «лабиринта сцеплений» в пространстве русского Правопорядка.
Три важнейших «сцепления в лабиринте», три вида отношений (детерминированных между собой) соединяют безмерно богатую, контрастную панораму во внутренне цельную образную полисистему. Это /а/ взаимоусиление между однонаправленной публицистической и литературно-художественной тенденцией; /б/ отношение взаимодополнения между ними; /в/ взаимное мотивирование тенденций. Отношения определяются как порознь, так и совместно.
Так, взаимодополнение явлено в образном отношении к проблемам дуэли; оно принципиально-отрицательное в публицистике разных периодов и, как представляется, именно в связи с этим столь же принципиально-многополюсное в художественной образности. (Как в раннем, так и в позднем творчестве, где дуэль одними пластическими решениями совместима, а иными — несовместима с христианскими ценностями).
Отношение мотивирования между тенденциями представлено в аспекте преображения, сгущения, концентрации публицистических мотивов в соотносительном художественном образе, что принципиально для того же мотива поединка в «Бесах», соотносительного с публицистическими образами, и мн.др.
3. Национально-правовая этика как сфера в пространстве нравственности закреплена в образных системах правопорядка. Взаимосвязи в них объяснимы закономерностями творчества Достоевского. В публицистике феноменологизи-рованы суд, личность, государство. Причем оригинальная масштабная пластика Достоевского-публициста придает соответствующим системам особую значительность, исключающую трактовку журнального процесса только как «сырья» для художественного творчества.
Образное акцентирование внешней динамики публицистической системы нарастает во внутреннюю противоречивость формулы «Закон и Свобода» в «Записках из Мертвого дома» и образов в судебных страницах «Дневника писателя»; в принципиальную парадоксальность образа «подданного» судопроизводства в «Преступления и наказания»; в единство обвинительного и оправдательного ракурсов в романе «Бесы». И столь же закономерно разрыв полюсов преодолевается сверхобразом «суд собственной совести» в поздних произведениях.
4. На основе образных взаимосвязей соотнесены феноменологические подсистемы.
Для национальной этики принципиальны представленные в публицистике образы-персонажи, образы-события и др.под. Так, в журналах Достоевских раскрыты нравственные векторы юридического развития — «переход от устрашения к перевоспитанию». Причем они обосновываются публицистическим макрообразом судопроизводства (в т.ч.- предоставляемых судебной реформой возможностей), что предельно органично и неповторимо для автора зреющих «Братьев Карамазовых». Закономерный характер журнально-публицистического процесса, связанный с отбором материалов, явлен во внутренне сбалансированном, глубинно мотивированном подходе при внешнем взаимоотталкивании определенных мотивов публикаций (острейшая статья П. Ткачева «Быть или не быть сословию адвокатов» в «Эпохе» и т.п.). Уникальность двух журналов братьев Достоевских в публицистической системе и динамике в решающей мере обусловлена естественной направленностью на внутреннее единство: право - нравственность - пластика представления проблемы.
5. Феноменологически объяснима та глубинная закономерная связь между образностью несвободы в произведениях публицистических и художественных, которая проливает свет и на некоторые будущие образные открытия автора «Записок из Мертвого дома», «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых». В этой образности также явлена основополагающая роль коллизий правопорядка для этических решений.
Взаимно детерминированы два феноменологических пространства: художественные образы бесправия, узилища — и публицистическая ориентация» например регулярные публикации в редактируемом журнале («Время») материалов о судебных ошибках, воспоминаний о пребывании в тюрьме (обращавшие внимание на жестокость заключения и грубые нарушения элементарных человеческих прав со стороны администрации)»
Образно раскрыты высоко значимые и ранее неявленные картины, когда, например, судья не может выделить правду из сферы субъективизма, и тогда не факты формируют убеждение, а предубеждение избирает факты. Так, в изложении «Таинственного убийства» достаточно ясно высмеяна «блестящая импровизация», которую судьи предпочли бесстрастному анализу. Если обвиняемый говорил, что во время болезни ему слышался шепот, то адвокат противной стороны разворачивал на этой основе трюизм о борьбе преступника с собственной совестью: «Нет., не в кухне, не на улице, не вокруг вас слышался шепот, который вас поражал. Вы слышали неясный голос вашей совести! Вы слышали крик угрызения совести, подымавшийся из глубины вашей души! Таким образом указан убийца! Вот первые приметы». «Вся эта страсть, вся эта поэзия, — иронически комментировало «Время», — обесцвеченная, может быть, в нашем переводе, глубоко затронули сердца слушателей».
В этом единстве принципиален и публицистический анализ литературного процесса. Так, по мнению журнала «Время», недооценка силы ведет к тому, что сила становится правом. Эта мысль, также основополагающая для национальной этики, явлена в образно-публицистических решениях, связанных с системой откликов: на роман Тургенева «Отцы и дети», на книгу Прудона о силе и праве. (О ней «Время» известило своих читателей за три года до перевода книги на русский язык, что демонстрирует публицистическую прогностичность и также принципиально для теории и для истории журналистики).
6. В организации исследованной образной цельности значима! цикличность, повторяемость. Она едина и многоплановая При этом своеобычная цикличность существенна для метафоризации, композиции, сюжета.
Единство системы — в том, что Достоевский (автор, мемуарист, редактор) явно и неявно, но непременно скрепляет образную панораму взаимосвязью между двумя измерениями бытия: правовым и нравственным. Эта непремен-ностъ осуществляется с приоритетом цикличности.
Многопланова указанная повторяемость потому, что индивидуальности гения не свойственно пристрастие к ограниченной, единственной манере цикличности — пусть даже сверхмастерское.
Так, повторяемость одних и тех же впечатлений, одинаковых для каждого заключенного в остроге, придает особый характер острожному времени. Оно лишается главной качественной характеристики — движения от прошлого к будущему, теряет необратимость своего течения и, подчиняясь замкнутому пространству, движется по его кругу. Такое движение времени создает множественность пространственного круга, которую можно расщепить на ряд отдельных кругов — судеб арестантов, а можно и совместить в едином круге общей острожной жизни. Достоевский делает и то, и другое. Он рассказывает о разных судьбах и разных характерах, скрепляя это многоразличие единством образа повествователя. Многократность повторений находит выражение в морфологической структуре несовершенного вида у большинства глагольных сказуемых: «Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь».
7. Соответственно, пространственное движение в «Мертвом Доме» совершается в виде перехода из одного замкнутого круга в другой Глубина, объемность пространства, изображенного в книге, носит психологический характер. Она создается за счет особенного изображения времени. Время здесь дано и как настоящее, и как будущее, уже ставшее прошедшим. Оно являет собой одновременность разновременного. Так, время действия в первых пяти главах как будто точно обозначено: это три дня с момента поступления в острог вновь прибывшего, которые даются ему на отдых с дороги, перековку кандалов и знакомство с острогом. Однако описание первых впечатлений постоянно перебивается словами "всегда", «помню, как однажды», «в продолжение нескольких лет», «иногда», благодаря которым первое впечатление часто совпадает с типическим и оказывается как бы многократно повторенным и многократно же воспроизведенным. Например. «Помню, как я вошел в острог. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом». Это первое впечатление уже было развито на другом материале: «Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в остроге двадцать лет, и наконец, выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным». Фраза «были люди, помнившие» говорила о том, что эти люди вошли в острог раньше описываемого каторжника и оставались там после того, как тот отсидел свои двадцать лет. Такая цикличность полифонична: она и соотносима с замкнутым кругом — и устремлена в бесконечность.
8. На внутреннюю связь «правопорядок — этика» нацелена метафоризация у Достоевского. Начав с сопоставления каторги и ада—«Мертвого Дома», Достоевский метафоризировал слово «каторга», которое в его книге стало не только прямым обозначением, но и символом всякой несвободной жизни. Благодаря непрерывности метафор двучлен «каторга-мертвый дом» содержал два плана одновременно: строго тематический и социально-философский. В системе поэтической речи «Записок» метафора «мертвый дом» явилась изобразительным центром, сосредоточившим в себе всю силу эмоционально-изобразительного воспроизведения действительности.
С этим центром соотнесены композиция и сюжетно-фабульные отношения. Они у Достоевского принципиально новы: расположены не по обычному принципу совпадения — несовпадения, а по принципу нарастания. Много раз открывались острожные ворота и, наконец, открылись для того, чтобы стать началом сюжета — в каторжную тюрьму вошел повествователь, Александр Петрович Горянчюсов. Сюжетом становится концентрация фабульных событий; сюжет как бы вырастает над фабулой.
9. На основе исследованного феноменологического единства систематизированы образные сущности Правосудия в романе «Преступление и наказание»; феноменологические ракурсы в романе «Бесы»; интерпретационное поле исследуемых образных феноменов в романах «Идиот» и «Преступление и наказание».
Особую роль в явленности Права как основы этики играет контроверза достоверного — идеального. Оценка реалистичности и вытекающей из нее про-гностичности образов закономерна (см. характеристики «Преступления и наказания» — Д. И. Писарев: «Я отношусь к роману так, как я отнесся бы к достоверному изложению действительно случившихся событий». А.Ф. Кони: реализм «всех мельчайших подробностей» «Преступления и наказания» носит характер «жуткого предсказания»). Внимание к факту, его точное обозначение, строго обдуманная сфера жизни факта в структуре художественного повествования были своеобразным творческим откликом писателя на его «позитивное» время. Исследователи закономерно отмечают «репортажный» характер реализма Достоевского. Но при этом для структуры «Преступления и наказания» принципиально и противодействие факту, которое неотделимо от сферы идеального.
10. Позднее творчество являет в образных системах приближение к гармонии в усугубляющихся пересечениях добра и зла.
Феноменогизируются личина добра, надетая на зло, и дорога в ад из благих намерений. «Есть исторические моменты в жизни людей,—: писал Достоевский, — в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человека, вырывающегося из его оков» (XI, 137). Понимая, как высока идея самопожертвования во имя счастья людей, Достоевский-публицист обратил внимание на выявленные делом Нечаева грозные этические симптомы: неразличимость средств и целей, мерило «революционной пользы», исключающее всякие другие оценки, фетишизация централизма, приводящая к культу индивидуалистической воли и возможному произволу.
В указанном плане образная специфика романа «Бесы» — противостояние сатанинским началам, и она также несет принципиально новое соотнесение Права — Нравственности. Феноменологический подход в данном случае дву-сторонне органичен. Во-первых, в единой системности раскрываются художественные и публицистические образы (связь между идеей «Бесов» — и преломлением нечаевской истории в судебном процессе). Во-вторых, умение видеть за фактом явление, в «маленьких картинках» целостную эпоху и сущность народного духа принципиально как особенный дар Достоевского. В «физиономии» факта он стремился отыскать «главную его идею», предпочитая доверяться «скорее своей идее, чем предстоящей действительности» (XI, 78).
11. Этику, стремящуюся и к опоре на Право, и к независимости от него, проявляет и образная сфера поединка, дуэли. Феноменологический подход позволил объяснить, почему Достоевский уделял столько внимания дуэли — институту, не входившему в его личный опыт и имевшему для негосомнительную нравственную ценность; почему его герои, большинство которых, как и он сам, очень мало подходили на роли дуэлянтов, все же так или иначе сталкиваются с проблемой дуэли.
Художественные и публицистические образные системы раскрывают в ней социальный институт, необходимый для защиты личного пространства и существенный не только для дворян.
Несмотря на очевидную несовместимость персонажей типа Макара Де-вушкина или Голядкина с образом-событием дуэли, Достоевский все-таки ждет от них адекватной защиты своего личного пространства и телесной неприкосновенности. Это явлено в компонентах образов-персонажей.
12. Перспективы исследования закономерно интегрируются в систему векторов.
Из них наиболее органична для обогащения проблематики анализ рефлексии образных систем Достоевского: как в откликах современников, так и в последующие периоды развитая литературы-публицистики-философии. Получит филологическое обоснование та теоретизация множественной личности, которую в свое время выводили из приоритетных образов Достоевского. Такой анализ именно в феноменологическом аспекте позволит наметить доминанты тенденций. Он укрепит филологические основания, выявляющие направления проблемно-пластической динамики, в том числе — внутреннее разрушение национальной образности под личинами конструктивности и неоконструктивизма.
Список научной литературыДорошева, Екатерина Витальевна, диссертация по теме "Русская литература"
1. А. П. Чебышев-Дмитриев. Теория русского права.— «Юридический журнал», I860, № 1, сентябрь, с. 35.
2. Аиачев Д.С. В поисках выражения реального.
3. Актеры и Достоевский (беседа с Вл. Ив. Немировичем-Данченко).— «Рампаи жизнь», 1913, № 40, с. 7.
4. Анненский И. Ф. Вторая книга отражений. СПб.,1909, с. 117.
5. Белинскии В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. М., Изд-во АН ССОР, 1955, с. 458.
6. Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. М., 1955, с. 466.
7. Бердяев Н. Ставрогин. — «Русская мысль», .1914, № 5, с. 81.
8. Братство. — «Гражданин», 1873, № 37, с. 1008.
9. В е й н б ер г Я. И. Процесс Бонапарте-Патерсон. —: «Век», 1861, N2 9, 10,16.
10. В и ленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов,1909, с. 235.
11. Ветловская В. Е. Развязка в «Братьях Карамазовых.— В. кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., «Наука», 1901, с. 200.12. Вехи, с. 143
12. Виноградов В. В. Из анонимного фельетонного наследия Достоевского.—
13. В. кн.:Исследования по поэтике и стилистике. Л., «Наука», 1972, с. 191
14. Володин А. Раскольников и Каракозов.—«Новый мир», 1969, №11.
15. Востриков, Алексей. Книга о русской дуэли. СПб., 1998. С. 127—141.
16. Выготский Л. С. Психология искусства, с. 425.
17. Выготский Л. С. Психология искусства. М, «Искусство», 1968, с. 492.
18. Гернет М. Н. В тюрьме. Киев, Юридическое изд-во Украины, 1930, с. 9.
19. Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. КМ., Госюриздат, 1960, с.110.
20. Глинский Б. Б. Революционный период русской истории (1861—1881). Ч. 2.1. СПб., 1913, с. 56.
21. Глинский Б. Б. Революционный период русской истории. СПб., 1913, с. 144.
22. Головачев А. А. Десять лет реформ.
23. Головачев А. А. Десять лет реформ. СПб., 1872, с. 288.
24. Головачев А. А. Десять лет реформ. СПб., 1872, с. 303
25. Горчаков, В.П. Воспоминание о Пушкине //'Пушкин.в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 282. Воспоминания Горчакова публиковались в 1858 году в «Московских ведомостях» и могли, таким образом, стать известны Достоевскому.
26. Градовский Г. К. Автобиография.—В кн.: Публицист-гражданин, с. 7.
27. Градовский Г. К. Итоги (1862—1907). Киев, 1908, с. 5.
28. Гроссман Л. Достоевский и Европа. — «Русская мысль», 1915. № 11, с. 74.
29. Д. М. Библиография. — «Журнал Министерства юстиции», I860, т. 3, с. 143.
30. Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка / 2-е изд.
31. СПб.; М., 1880. Т. 1. С. 14.
32. Данилов В. В. К вопросу о композиционных приемах в «Преступлении инаказанию) Достоевского. — «Известия АН СССР», VII серия, отделение общественных наук, 1933, № 3, с. 251.
33. Две России.— «Гражданин», 1874, № 1, с. б.
34. Достоевская А. Г. Воспоминания. М.', «Художественная литература». 197Lс. 244.
35. Достоевский Ф. М. Материалы <и исследования. Вып. 1. JI. «Наука», 1974,с. 239—241.
36. Достоевский Ф. М. Письма. Т. 1, с. 352.
37. Достоевский Ф. М. Письма. Т. 1. М.—Л., 1928, с. 380.
38. Достоевский Ф. М. Письма. Т. 2, с. 257
39. Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч: Т. 22. М., «Просвещение», 1918, с. 271.
40. Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Сб. 2-й. Под ред. А. С. Долинина.
41. Л. — М.«Мыюль», 1924, с. 573.
42. Егоренкова Г. И. Поэтика сюжетной ауры в романе Ф. М. Достоевского
43. Братья Карамазовы». — «Филологические науки», 1971, № 5, с. 36
44. Екимов А. Толки о волостных судах.— «Гражданин», 1873, № 8, с. 237.
45. Ералаш.-— «Гражданин», 1873, № 3, с. 87.
46. Заботы, взгляды, мечты.—«Гражданин», 1873, № 6, с. 162.
47. Заметки досужего читателя.—«Гражданин», 1874, №11, с. 331.
48. Из дорожных заметок на Севере. — «Гражданин», 1873, № 5, с. 138
49. Из дорожных заметок на Севере. — «Гражданин», 1873, № 5, с. 138
50. Из Москвы. — «Гражданин», 1873, №48.
51. Из текущей жизни. — «Гражданин», 1873, № 42, с. 1132
52. Из текущей жизни. — «Гражданин», 1873, № 49, с. 1315.
53. Из текущей жизни.— «Граждашш», 1874, №9, с. 264.
54. Из текущей жизни.—«Гражданин», 1874, № 15, с. 443.
55. Изложение этих процессов см.: Карлова Т, С. Информация и анализ в журнале «Время».— В кн.: Единство и информации и анализа в публицистике. Казань, Изд-во КГУ, 1974, с. 63—69.
56. Иностранные события. — «Гражданин», 1873, № 43.
57. Инсаров А. Из записок лекаря. — «Время», 1862, № 10; Озерков Н. Запискиследователя. — «Эпоха», 1864, № 5, и др.
58. Исследования по поэтике и стилистике, с. 189.
59. Кон и А. Ф. Собр. соч. Т. 5, с. 18.
60. Каролина английская и Бергами.—«Время», 1861, № 7.
61. Карякин Ю. Человек в человеке.—«Вопросы литературы», 1971, № 7.
62. Кирпотин В. Я. Разочарование я «рушение Родиона Раскольникова. М.,1970, с. 68.
63. Кистяковский Б. В защиту права. — Вехи. М., 1909, с. 136.
64. Книрим А. Бентам и его сочинения.— «Журнал Министерства юстиции»,1860, т. 4, с. 53—86.
65. Кони А Ф Собр. соч. Т. 6, с. 413.
66. Кони А. Ф. Собр. соч. В 8-ми т. Т. 6. М., «Юридическая литература», 1968, с419,
67. Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 1, тс. 8 .
68. Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 5, с. 20—21
69. Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 6, с. 421.
70. Коран. М., Изд-во Восточной лит-ры, 1963, с. 669.
71. Критика и библиография.—«Гражданин», 1873, № б, с. 184
72. Критика и библиография.—«Гражданин», 1873, №4, с. 123.
73. Критическое обозрение. — «Время», 1861, № 11, с. 55.
74. Критическое обозрение. — «Время», 1862, № 4, с. 68.
75. JI ю к с с м б у р г Р. В. Короленко (По поводу «Истории моего современника»).—: «Красная новь», 1921, № 2, с. 86.
76. Лажечников, И.И. Мое знакомство с Пушкиным // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. I. С. 174.
77. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20, с. 176.
78. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20, с. 176.
79. Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 20, с. 178.
80. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 21, с. 256.
81. Литературные и общественные курьезы. — «Голос», 1873, № 18.
82. Лихачев Д. С. В поисках выражения реального., с. 6.
83. Лукьянов. Основные начала и формы уголовного судопроизводства.—
84. Юридический журнал», 1861, № 8, апрель, с. 467.
85. Льюис Д. Г. Физиология обыденной жизни. Т. 1. М., 1866, с. 1.
86. Любопытнейшие процессы из уголовных дел Франции и Англии. Вып 2.1. СПб., 1862.
87. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Собр. соч. Т. 9, с. 222).
88. Макагонова Т. Выступления журналам. М. и Ф. М. Достоевских «Время»накануне подготовки судебной реформы,—«Вестник Московского университета», серия «Право», 1974, № 1.
89. Мещерский В. П. Мои воспоминания (1865—1881). Ч. 2. СПб., 1898, с. 123.
90. Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2, с. 179.
91. Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2, с. 180.
92. Мещерский В. П. Мои. воспоминания. Ч. 2, с. 175.
93. Мигель, Ф.Ф. Записки: В 2 т. Изд. СЛ. Штрайхом М., 1928. Т. 1. С. 138-139.
94. Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. Т. 5. СПб., 1908, с 413,415.
95. Михайловский Н. К.Поли, собр. соч. Т. 5. СПб., 1908,с. 415.
96. Михайловский Н. Литературные и журнальные заметки. — «Отечественныезаписки», 1873, кн. 1-—2, с. 322.
97. Михайловский Н. Литературные и журнальные заметки.— «Отечественныезаписки», 1873, кн. 2, с. 315
98. Михайловский Н. Поли. собр. соч. Т. 5, с. 415.
99. Михайловский Н.К. Полн. Собр. Соч. Т.4, с.952
100. Москвич. Московские заметки,— «Гражданин», 1873, № 16—16, с. 465.
101. Московские заметки.— «Гражданин», 1873, № 6, с. 137.
102. Московские заметки.— «Гражданин», 1873, № 6, с. 137.
103. Надоело! — «Гражданин», 1874, № б, с. 165.
104. Назарова, Л.И. Аркадий Столыпин //Лермонтовская энциклопедия / Изд. В.А. Мануйловым. М., 1981. С. 550.
105. Накануне защиты преступника (из записок присяжного поверенного).— «Гражданин», 1873, № 12, с. 384—387.
106. НаполеонШ. — «Гражданин», 1873,№2,с. 31.
107. Наполеон, История Юлия Цезаря. М., 1865, с. 146.
108. Наши домашние дела. —: «Время», 1862, № 10, с. 34—37.
109. Наши домашние дела. — «Эпоха», 1864, № 10, с. 1.
110. Наши домашние дела. — «Эпоха»,- 1864, № 10, с. 1.
111. Нелегале вести.—«Гражданин», 1874, № 10, с. 285.
112. Нечаев В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с. 60.
113. Нечаев В. С. Журнал М М и Ф. М. Достоевских «Время», с. 62.
114. Нечаев и нечаевцы, с. 187.
115. Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», с. 112.
116. Нечаевский процесс. — «Гражданин», 1873, №4, с. 101—109.
117. Николай Ставрогин. Сценарий.— Музей МХАТ, БРЧ, № 90.
118. Ньютон Исаак. Замечания на книгу пророка Даниила и Апокалипсис св. Иоанна. Пг., 1915, с. 212.
119. Оксман Ю. Г. Ф. М. Достоевский в редакции «Гражданина». —: В кн.: Творчество Достоевского. Под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921, с. 64.
120. Обзор важнейших узаконений. —: «Гражданин», 1873, № 39, с. 1040.
121. Областное обозрение. — «Гражданин», 1873, № 29, с. 798.
122. Областное обозрение. —: «Гражданин», 1873, М* 3, с. 58.
123. Областное обозрение.— «Гражданин», 1873, № 29, с. 798.
124. Оксман Ю. Г. Ф. М. Достоевский в редакции «Гражданина».— В кн.: Творчество Достоевского, с. 72.
125. Ом.: Проект адвокатской реформы.—«Гражданин», 1873, № 29.
126. Паскаль, Блез. Письма к Провинциалу / Пер. О.И. Хомы. Киев. 1997
127. Петров-Водкин К. Хлыновок. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., «Искусство», 1970, с. 84.
128. Писарев Д. И. Соч. Т. 2, с. 35
129. Писарев Д.И. Соч В 4-х т Т 4 М, 1954, с. 316.
130. Плеханов Г. В. Русский рабочий в революционном движении. М., Партиз-дат, 1940, с. 30.
131. Поддубная Р. Н. Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». — Вопросы русской литературы. Вып. 1 (16). Львов, Изд-воЛГУ, 1971;
132. Поддубная Р. Н. Указанная работа, с. 52.
133. Поддубная, П.Н. Герой и его литературное развитие (Отражение «Выстрела» Пушкина в творчестве Достоевского) //Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978.
134. Политическое обозрение. — «Время», 1861, № 11, с. 17.
135. Политическое обозрение. — «Время», 1862, № 11, с. 187—194.
136. Политическое обозрение. — «Время», 1862, № 5, с. 5.
137. Порошки, Алексей. Суворин. АД Дуэльным кодекс. СПб., б.г. С. 126—127; Дурасов, Виктор. Дуэльный кодекс /, 4-е 1 изд. СПб., 1912. С. 104.
138. Последняя страничка.— «Гражданин», 1873, № 52, с. 1415.
139. Последняя страничка.—«Гражданин», 1873, № 44, с. 1185.
140. Последняя страничка.—«Гражданин», 1873, № 45, с. 1212.
141. Поэтика Достоевского. Вып. 4. М., 1925, с. 13); ситуации» аналогичные процессу мадам Лафарж, .видел у Достоевского Ж. Гольтъе (см.: «Мегсиге de France», 1934, № 870, Vol. 254,15 septembre, p. 455,45S—459).
142. Поэтика и стилистика русской литературы, с. 202.
143. Преобразование суда присяжных.— «Гражданин», 1873,51, с. 1371.
144. Преобразование суда присяжных.—«Гражданин», 1873Да 51, с. 1371.
145. Проект духовно-судебной реформы. — «Гражданин», 1873, № 27, с. 769.
146. Прыжов И. Г. Исповедь. — «Минувшие годы», 1908, февр., с. 70.
147. Психологический вопрос из дела Непениных.— «Гражданин», 1874, № 10, с. 292—293.
148. Редкий П. О независимости юстиции. — «Юридические записки», 1859, т. 3,с. 179.
149. Реформа в брачных делах. — «Гражданин», 1873, № 37,с. 990.
150. Реформа духовно-судебной части. — «Гражданин», 1873, № 34, с. 934,
151. Русская литература 1870—1890 годов. Сб. 4-й, с. 18.
152. С а л т ы к о в-Щ е д р и н М. Е. Собр. соч. Т. 9, с. 187.
153. С а л ты к о в-Щ е д р и н М. Е. Собр. соч. Т. 9, с. 190.
154. С. К-и. Иезуиты и их уложение. — «Эпоха», 1864, № 6, с. 259.
155. Сентиментальная фальшь в области уголовного суда.—Гражданину 1873, №2, с. 52.
156. См. об этом: Щенников Г. К. Проблема правосудия в публицистике Достоевского 70-х годов.— Русская литература 1870— 1890 годов. Сб. 4-й, с. 3—23.
157. Сочинения Лассаля. В 2-х т. Т. 1. СПб., 1870.
158. Спасович В. Д. Учебник уголовного права. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1863, с. 156,
159. Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. —В кн.: Достоевский Ф. М. Пол», собр.соч. Т. 1. СПб., 1883, с. 207.
160. Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском.— В кн.: Достоевский Ф, М. Полн. собр. соч, Т, 1. СПб., 1883, с. 195—196
161. Судебные речи известных русских юристов, с. 124.
162. Судебные речи известных русских юристов. Сост. Е. М. Ворожейкин. М., Госюриздат, 1957, с. 123.
163. Съезд юристов в Москве.—«Гражданин», 1873, № 44, с. 1174.
164. Тальников Д. Бесовское наваждение. — «Современный мир», 1913, № 11, с. 210.
165. Теория уравнения прав прислуги с хозяевами.— «Гражданин», 1874, с. 60.
166. Ткаче в П. Мировой суд по смыслу «Главных оснований». — «Время», 1862,№> 11, с. 78.
167. Ткачев П. Больные люди. — «Дело», 1873, № 3, с. 159.
168. Ткачев П. Быть или не быть сословию адвокатов. — «Эпоха», 1864, № 1-— 2, с. 183.
169. Ткачев П. О мировых судьях — «Время», 1862, № 7, с. 89.
170. Ткачев П. О суде по преступлениям против закона печати.— «Время», 1862, №6, с. 41.
171. Уголовные процессы с психологической точки зрения.-«Юридические записки», 1859, т. 2, с. 1.
172. Уилле У. Опыт теории косвенных улик, объясненный примерами. М. Изд. А. Умковского. 1864, с. 10.
173. Фигнер В. Запечатленный труд. Т, 1. М.«Мысль», 1964, с. 220.
174. Филиппов О. Системы русских исправительных наказаний.—«Эпоха», 1865, №2, с. 36.
175. Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского. М.—JL, «Наука», 1964.
176. Хроники за две недели. — «Гражданин», 1873, № 52, с. 1390 —1391.
177. Чирков Н. М. О стиле Достоевского, с. 257
178. ЧирковН. М. О стиле Достоевского. М., «Наука», 1967, с. 147.
179. Щенников Г. К. Проблема правосудия в публицистике Достоевского 70-х годов.— В кн.: Русская литература 1870—1890 годов. Сб. 4-й. Свердловск, 1971, с. 3.
180. Эльсберг Я. Е. Достоевский — христианский социалист? —В. кн.: Искусство слова. М., «Наука», 1973, с. 221.181. Эпоха», 1864, № 9, с. 54.
181. Этот эпизод проанализирован неоднократно. См., например: Егоренкова Г. И. Поэтика сюжетной ауры в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». — «Филологические науки», № б, с. 27—38.
182. Я н е в и ч-Я невскии К. Мысли об уголовной юстиции с точки зрения психологии и физиологии. — «Юридические записки», 1862, т. 5, с. 333.
183. Мережковский Д. Горький и Достоевский. — «Русское слово», 1913,12 дек.
184. См.: Внутренние новости. Хроника.— «Голос», 1876,7 янв.190. «Время», 1861, № 1—2, с, 94.
185. Политическое обозрение. — «Время», 1861, № 1—2, с. 81.
186. Протесе Ласенера. — «Время», 1861, № 1—2; Убийцы Пешара.— «Время», 1862, №2.
187. Процесс Ласенера.— «Время», .1861. № 1—2, с. 1.194. «Журнал Министерства юстиции», 1860, № 11, 12 и отдельный оттиск (СПб., 1861).195. «Время», 1861, № 3—4, с. 411.196. «Время», 1861, № 3—4, с. 44.
188. Градовский Г. К. Итоги (1862—1907). Киев, 1908, с. 8—9.
189. Causes celebres de tous les peuples par A. Fouquier Vol 1, p. 1
190. G. Wilson Knight. The assy of Death.— «Discussions of Hamlet, ed. by L C. Levenson. Boston, I960.