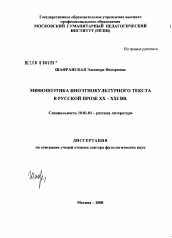автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе XX - XXI вв.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе XX - XXI вв."
На правах рукописи
ШАФРАНСКАЯ Элеонора Федоровна
МИФОПОЭТИКА ИНОЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА В РУССКОЙ ПРОЗЕ XX—XXI вв.
Специальность 10 01 01 —русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
165423
Волгоград — 2008
003165423
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский гуманитарный педагогический институт» (МГПИ)
Официальные оппоненты заслуженный деятель на\ки РФ,
доктор филолог ических наук, профессор Агепосов Владимир Вениаминович (Институт международного права и экономики им А С Грибоедова),
доктор филологических наук, профессор Брочская Людмила Игоревна (Ставропольский государственный университет),
доктор филологических наук, профессор Смирнова Альфия Исламовна (Московский городской педагогический университет)
Ведущая организация — Астраханский государственный
университет
Защита состоится 13 марта 2008 г в 10 00 час на заседании диссертационного совета Д 212 027 03 в Волгоградском государственном педагогическом университете по адресу 400131, г Вол1 оград, пр им В И Ленина, 27
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Волгоградского государственного педагогического университета
Автореферат разослан 12 февраля 2008 г
Ученый секретарь
диссертационного совета .
доктор филологических наук, у i ^
профессор У^* О Н Калениченко
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Феномен творчества русских писателей, повествующих на русском языке о нерусской реальности, или референтов иноэтнокультуры, сопряжен, не в последнюю очередь, с геополитическими особенностями нашей страны последней трети XX и начала XXI в. Разнообразны номинации подобного творчества — в зависимости от вкуса, идеологических предпочтений, осведомленности как читателя, так и исследователя «русскоязычное творчество инонациональных писателей», «русское зарубежье», «транскультурное творчество», «мультикультур-ное», «интеркультурное» Так или иначе, все определения исходят из взаимодействия разных культур, из способности человека/писателя существовать/творить в разных культурах, решая для самого себя, к какой принадлежать, для кого создавать свои произведения Все номинации, с одной стороны, — «продукт», проекция, «сублимация» перипетий советской истории, с другой — отражение мировой парадигмы современности (вхождение в «глобальную деревню»), повлиявшей не только на мировую экономику, политику, но и на индивидуальное творчество — «при нынешнем-то коловращении языков и рас» (Д Рубина) Когда художественный мир писателя принимает очертания, связанные с истоками инакости (например, иудаизма или ислама), то возникает необходимость говорить об иноэтнокультур-ном тексте в его творчестве «Русскоязычие» таких писателей, как Ч Айтматов, Т Пулатов,Д Рубина, С. Афлатуни и др , с одной стороны, «космогоническая» вынужденность (на каком языке им писать, если именно он — их личностная и творческая составляющие), с другой — этим писателям важно создат ь «месседж» о другом народе, его культуре, национальных образах мира и поведать об этом читателю, говорящему и читающему по-русски. Этот пласт литературы мы назвали иноэтнокулътурным текстом.
Согласно концепции Ю. М Лотмана, изучение культуры одного национального типа с позиции другого (со структурным кодом культуры описывающего), потенциально переводит «не-тексты» в разряд текстов, укладывающихся в синему «Чтобы восприниматься как текст, сообщение должно быть подлежащим дальнейшему переводу или истолкованию» Исследование (толкование, комментирование) поэтики иноэтнокультурного текста, созданного на русском языке, представляется необходимым, т к без него картина современного мирового литературного процесса будет неполной.
Необходимость изучения другой русской литературы очевидна ярче высвечивается специфика ее национальной (и русской в том числе) составляющей, а также понимание целостности мирового литературно-культурного процесса Номинации «национальные литературы», «своеобразие национальных литератур», выйдя из поля советской официально-идеологической парадигмы, не стали маргинальными в современном литературоведении проблема национальных образов мира исследуегся в работах Е Абдуллаева,Л Аннинского, Г Га-чева, Ч Гусейнова, Б Егорова. М Тлостановой, М Вайскопфаидр Тема «национального своеобразия» литератур сегодня актуальна не менее, чем в советскую эпоху Безусловно, эта эпоха породила феномен «русскоязычной» литературы, и это факт, который нет необходимости маркировать со знаком «плюс» или «минус», как достоинство или как недостаток, явление унификации Можно предположить, что такого феномена больше не будет
На рубеже веков уже не говорят о «русскоязычном» творчестве, хотя многие писатели продолжают писать по-русски, прямо или опосредованно воссоздавая действительность на «метаязыке» своих национальных образов мира Это другая русская литература
Эт ническая идентичность — символическая категория, не связанная, по словам этнолога В А Шнирельмана, с языковой принадлежностью, как диктует стереотип Писатели Ч Айтматов, Т Пулатов, С Афлатуни, Д Рубина принадлежат по происхождению, домашнему воспитанию к иной, нерусской, культуре Находясь в поле фольклорных и мифоло1 ических семейных преданий, воспоминаний, обычаев, кухни, аксиологии, религиозных мифологем, персоналии этого феномена — русской иноэтнической литературы — по-русски создают «инотекст», выступая комментаторами, толкователями, посредниками между двумя ментальностями «своей» и «иной»
По-разному складывается творческая судьба таких писателей одни, будучи билингвами, выбирают русский языком творчества, другие, принадлежа к пространству русского языка с рождения («монолингвы»), «сливаются» впоследствии с этническими (нерусскими) корнями, воссоздавая аксиологическую и когнитивную картины мира своего народа, третьи, будучи русскими по происхождению, сформировались как писатели в иноязычной среде (в пространстве бывших советских инонациональных окраин) и способны быть «переводчиками» между разными ментальностями, разными этническими ценностями, т к прожили большую часть жизни в иной языковой среде
Для «маркировки» подобных писателей иноэтнокультуры мы воспользовались символической метафорой Л Улицкой — Переводчики'
«Русскоязычное» литературное творчество на исходе XX в вписывается в новое концептуальное поле — транскультуру Концепция транскультуры основана на «рассеивании» символических значений одной культуры в поле других культур, «транскультура — это состояние виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам» (М Эпштейн)
Проза Т Пулатова и Д Рубиной рассматривается в диссертации в объеме всего творчества этих писателей Проза С Афлатуни, Ч Айтматова, А Волоса—выборочно произведения, в которых помимо иноэтнокультурного текста присутствует тема уходящего Города, ее специфическая тональность
В литературном дискурсе рубежа веков осуществился литературный проект «Малый шелковый путь», объединивший поначалу ташкентских писателей, затем присоединившихся к ним эмигрировавших из города авторов Участники проекта совпали в единодушном желании сохранить в литературном творчестве образ былого города — сначала это был Ташкент, а потом он метаморфизировался в «ташкент», который есть у каждого писателя бывшего советского «окоема» Один из координаторов проекта Е Абдуллаев мотивирует концепт литературного проекта «Малый шелковый путь» соединением культур Востока и Запада
Литературные тексты, созданные «путейцами», — своеобразная акция, цель которой в том, чтобы «заархивировать» уходящий культурный пласт города (у каждого писателя — свой город), билингваль-ный, бикультурный, исчезающий на глазах современного поколения Мы воспользовались заглавием повести С Афлатуни «Ташкентский роман» для символического обозначения отношений автора, повествователя, рассказчика с бывшим городом советского «окоёма» как конгломератом культурного, исторического, эмоционального,
1 Герой романа У Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (М Эксмо, 2006), будучи в военное время переводчиком, после войны достиг сакральных высот на стезе католического проповедника он стал Переводчиком Так Улицкая метафоризиро-вала миссию своего героя — посредника Выполняя профессиональной долг католического проповедника в Израиле, на Святой для многих народов и религий земле, Даниэль попытался через иудео-христианскую церковь построить мост для диалога между иудаизмом, исламом и христианством Попытка провалилась построенный мост не справился с мощным потоком традиции Но, думается, для того и написан роман, чтобы диалог когда-нибудь состоялся
экзистенциального прошлого, почившего вместе с советской империей
Ряд писателей, чье творчество исследуется в диссертации, не представляется типологическим в аспекте этнической принадлежности, сходности биографий, места проживания, родно1 о языка, отнесенности к определенной «нише» в русской литературе Тем не менее их объединяет тот непреложный факт, что они — создатели русской литературы. Впрочем, это заявление не бесспорно в современном литературоведческом и критическом дискурсе На наш взгляд, споры, дебаты, которые ведутся вокруг писателей бывшего «окоёма» и нынешней «дальней» эмиграции, круглые столы, дискуссии в журналах, а также номинации, предложенные литературными справочниками, по поводу терминов «русскоязычная литература», «российская литература», «русская литература в регионах» и др противоречивы не имеют интенции согласия, разрешения Указами, циркулярами — как их называть, к какой «нише» причислять — проблема снята не будет Мы пошли другим путем — надполитическим, надгеографическим, надэтническим Литература, созданная этими писателями, предназначена читателю как русский текст, повествует она о проблемах ино-этнических (нерусских), не становясь маргинальной Точка зрения Ч Гусейнова наиболее адекватно выражает значимость исследуемой в диссертации проблемы, которая, будучи раскрытой, послужит, в какой-то степени, трамплином для культуртрегерской функции, заложенной в данном исследовании- «Но есть непонятная глухота русского читателя к нерусским писателям, пока они не получат мировое признание, а ведь велика их роль в развитии русской культуры и языка» (Ч Гусейнов «Русскость нерусских»)
Актуальность исследования В литературоведении XX—XXI вв не иссякает интерес к национальной проблематике литературы Не ослабевает интерес и к феномену русской литературы представителей нерусских э гносов, к литературе эмигрантской каков ее статус — русская или инонациональная'' Если инонациональная — что ее делает таковой''
Активное продуктивное исследование мифологического пратек-ста русской литературы началось в 80-е гг XX в С тех пор отечественными литературоведами написано множество исследований в области мифопоэтики литературы Представленный в них разнообразный по диапазону научного охвата материал говорит о том, что словесное творчество мифологично изначально, даже без осознанно постулированного писателем обращения к мифу или фольклору Любой писатель вписывается в национальную парадигму культуры
(Ю М Лотман) Исследуемое в диссертации творчество писа гелей — референтов иноэтнокультуры — отличает то, что они обращаются к мифологическому пратексту осознанно, педалируют данный аспект своей поэтики, т к именно этот иратекст—сгусток аксиологической, культурной, исторической картины мира народа, принадлежность к которому таким образом сознательно позиционируется авторами Исследуемый нами художественный феномен отчасти вписывается в явление мультикультурализма — в том значении этого понятия, которое предполагает, что этнические традиции, развиваясь, находятся в постоянном диалоге и взаимодействии
Объект исследования — иноэтнокультурный текст в русской прозе рубежа XX—XXI вв
Предмет исследования — фольклорный и мифологический пласт иноэтнокультурного текста в творчестве писателей — референтов нерусской культуры
Материал исследования В диссертации рассматривается творчество русских писателей рубежа XX—XXI вв., референтов иноэтнокультуры Д Рубиной, Т Пулатова, С Афлатуни, Т Зульфикарова, Ф Горенштейна, Л Улицкой, Ч Айтматова, А Волоса и ряда других авторов, которые вписываются в контекст мифопоэтического и фольклористического анализа
Цель работы—выявить особенности мифопоэтики иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей XX—-XXI вв — референтов нерусской культуры
Задачи исследования, вытекающие из установок исторической поэтики и фольклористики, заключаются в следующем
— вычленить в литературных произведениях исследуемых авторов иноэтнокультурный текст,
— выявить национальные образы мира в творчестве исследуемых авторов,
— установить мифологические и фольклорные корни выявленных национальных образов мира,
— исследовать иноэтнокультурный текст в аспекте национальной аксиологии,транслируемой через фольклор и мифологию повседневности,
—выявить религиозные парадигмы, моделирующие в русской прозе иноэтнокультурный текст (в нашем случае — иудаизма и ислама),
— рассмотреть литературную антропонимику творчества исследуемых писателей в аспекте ее сопряжения с мифологическим мышлением
Новизна исс 1едования. Творчество писателей Т Пулатова, Д Ру-биной, а также ряд факультативно рассмотренных в диссертации имен/ текстов обзорно упоминается в многочисленных исследованиях по проблематике литературы последней трети XX в и начала XXI в Однако до сих пор нет работ по мифопоэтике и фольклоризму в творчестве этих авторов Данная диссертация — одна из первых попыток исследовать иноэтнокультурный текст в русском творчестве писателей — референтов нерусской культуры Диссертация вписывается в контекст междисциплинарных исследований по истории литературы, фольклористике, мифологии, культурологии
Методологической базой диссертации стали работы Р. Барта, О В Беловой, К А Богданова, М Вайскопфа.А Дандеса,Р Кайуа, Ю М Лотмана, Д Н Медриша, Е М Мелетинского, С Ю Неклюдова^. А Панченко,В Я Проппа, Б Н Путилова, А Л Топоркова, В. Н Топорова, Н Фрая,Д Д Фрэзера
В качестве ведущего метода исследования иноэтнокультурного текста русских писателей избран мифопоэтический анализ литературных произведений В работе применены также структурно-типологический, семиотический, сравнительно-исторический методы анализа и интерпретации литературных текстов Использована фольклористическая методика опроса информантов — носителей фольклора определенного географического локуса
Теоретическая значимость работы заключается в выявлении иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей рубежа XX—XXI вв , выработке алгоритма и модели анализа подобного феномена, нахождении нового уровня взаимодействия фольклора и литературы
Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть учтены при дальнейших исследованиях истории русской литературы, по мифопоэтике и фольклоризму литературы Материалы диссертации могут быть использованы в монографических работах по творчеству русских писателей XX—XXI вв , при создании вузовских учебников и учебных пособий как по литературе этого периода, так и по современному фольклору Положения диссертации могут найти применение в практике вузовско1 о и школьного преподавания литературы, МХК, фольклора Положения, выносимые на защиту
1 Иноэтнокультурный текст русской литературы XX—XXI вв — феномен, в определенной степени порожденный геополитическим контекстом XIX—XX вв При создании иноэтнокультурного текста русские писатели преднамеренно, акцентно-концепгуально обраща-
ются к фольклорно-мифологическому пласту национальной (иноэт-нической) культуры для создания национальных образов мира
2 Средствами создания инозтнокультурного текста в русской литературе являются мифологизм и фольклоризм, в нашем случае — связанные с иудейской и мусульманской картинами мира
3 Творчество Д Рубиной репрезентирует иноэтнический текст посредством аксиологии, ментальности еврейского народа, еврейства в контексте мировой культуры (антисемитского мифа и еврея как фигуры мифологии повседневности), парадигм иудаистской мифологии (ожидание Мессии), специфичности героев (праведников и безумцев), корни которых уходят в еврейскую мифологию и фольклор еврейского народа
4 Творчество Т Пулатова репрезентирует иноэтнический текст посредством восточных (среднеазиатских) парадигм культуры, реализованных в изображении ландшафта, быта, психологии, суфийского учения
5 Дом как одна из экзистенциологем быта и бытия, представленных в пространстве иудейской и мусульманской культур, наиболее ярко отражает философию инозтнокультурного текста
6 Фольклоризм инозтнокультурного текста выражен через обращение не только к традиционным фольклорным жанрам, но и к современному фольклору, пришедшему из литературы, школьного преподавания, медийного пространства, официальных идеологем В диссертации представление о фольклоре зиждется на инновационных подходах, согласно которым фольклор — это не только архаика, но и органическая часть современной культуры При исследовании ми-фологизма, участвующего в создании иноэтнокультурного текста русских писателей, учитывалась не только архаическая, но и современная мифология повседневности
7 Энергия сопряжения русской и нерусской культур лежит у истоков авторской мифологии, однако исполненной в традиционной парадигматике Одним из основных мотивов, объединяющих писателей бывшего советского «окоема» — референтов иноэтнокультуры, является эманация Города
Апробация работы Концепция, основные идеи, результаты исследования обсуждались на региональных и международных конференциях в Москве «Традиции русской классики XX века и современность» (МГУ, 2004), Шешуковские чтения «Русская литература XX века типологические аспекты изучения» (МПГУ, 2004), «Мировая словесность для детей и о детях» (МПГУ, 2004, 2005, 2006, 2007), «Феномен
заглавия» (РГГУ, 2006,2007), «Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании» (МГПИ, 2004, 2005, 2006, 2007), «Наследие Д С Лихачева в культуре и образовании России» (МГПИ, 2006), «Развлечение и искусство» (Государственный институт искусствознания, 2006), «Фольклор малых социальных групп традиция и современность», «Славянская традиционная культура и современный мир» (Государственный республиканский Центр русского фольклора, 2006,2007), «Язык, культура, общество» (ИИЯ РАН, 2005, 2007), Санкт-Петербурге «Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде сквозь призму транснациональных исследований» (СПбГУ, 2007), «Мифология и повседневность» (ИРЛИ РАН / Пушкинский Дом, 2006, 2007), Риге «Евреи в меняющемся мире» (Латвийский университет, 2006), Нижнем Новгороде «Грех-невские чтения» (НГУ, 2004), Калининграде «Актуальные проблемы литературы комментарий к XX веку» (КГУ, 2000), Саранске VII конгресс этнографов и антропологов «Многоэтничные общества и государства» (НИИГН, 2007), Волгограде «Восток-Запад Пространство русской литературы и фольклора» (ВГПУ, 2004, 2006); «Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре» (ВГПУ, 2004,2007), «Русская словесность в поисках национальной идеи» (ВАГС, 2007)
Материалы диссертации использованы при написании учебного пособия по фольклору для педагогических вузов, при чтении лекций по курсам «Национальные образы мира», «Миф и литература», «Типология характеров и мотивов в литературе», «Миф и мировая художественная культура», «Русская литература в контексте мировой», а также «Устное народное творчество» в темах «Фольклор и литература», «Мифология и фольклор» в Московском гуманитарном педагогическом институте
Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении представлен феномен русской литературы писателей — референтов иноэтнокультуры, обоснованы актуальность и научная новизна исследования, методологические подходы и методика анализа, определены цель и задачи исследования, очерчена степень изученности проблемы, сформулировано научно-практическое значение
работы и освещена апробация ее основных положений, представлена структура диссертационного исследования, освещена теоретическая сторона проблемы прокомментированы понятия «фольклор», «фоль-клоризм», «миф», «мифологизм», «мифопоэтика», ставшие главными терминами / категориями в анализе иноэтнокультурного текста в русской прозе исследуемых авторов
Первая глава «ИНОЭ1НОКУЛЬ ГУРНЫЙ ТЕКСТ ПРОЗЫ ДИНЫ РУБИНОЙ» содержит анализ всего творчества современной писательницы, впервые заявившей о себе в 70-х гг. XX в на страницах журнала «Юность» и живущей с 1990-х гг в Израиле Мир, созданный Ру-биной в написанных там произведениях, имеет точку отсчета, или поворота, — это Земля иудеев, Иерусалим как ее символ Как важны в еврейской картине мира архаические пророчества Учителей / Мудрецов, так и в аксиологии рубинской прозы значимы раритеты материального или внематериального происхождения- старые и старинные вещи, предания, байки, воспоминания Автор вменяет себе в обязанность задержать их уход, собрать «по камушку», по слову и выложить из них «цветную мозаику» эпохи — из людей, нравов, городов Рубинскую героиню-рассказчицу притягивают в антикварных лавках старинные вещи, оставшиеся без хозяев за каждой из них — человеческая судьба, история, эпоха Ее «мир старины» — это ушедшая культурная эпоха, связанная с конкретным локусом — городом Ташкентом Не географическая «точка», а «люди-традиции-улицы-дома-памятники», которые сосуществовали в опреде-ленное время в определенном месте, создав некую общность — ташкентский этнос и Ташкентский текст в русской культуре Ташкентский текст не мог не спровоцировать замысла Города-романа — «На солнечной стороне улицы»
Музыканта по образованию, рассказчика по судьбе, Дину Рубину привлекают люди креативные, неординарные, герои-художники, «клоуны», яркие личности — почти в каждом ее произведении Ряд авторских ролей — «ныряльщика» и «спасателя» — можно продолжить релью «актера», которая, по мнению Рубиной, имеет национальные истоки
В диссертации содержится разбор творчества Рубинои в аспекте отражения в русской прозе писателя онтологической картины мира евреев культурные мифологемы, традиционный фольклор, как собственно еврейский, так и советский, сделана попытка культурологи-
ческого, мифологического и фольклористического комментария к Ташкентскому тексту, созданному Рубиной
Анализ творчества Рубиной в данной главе — это первое монографическое исследование по мифопоэтике прозы писателя Глава состоит из двух частей В первой части «Пространство прозы Дины Рубиной» рассмотрен концепт Дом в аспекте еврейской ментальности на материале произведений доизральского и израильского периодов В прозе Рубиной «прочитывается» мировой мейнстрим (Ф Феллини), традиции русской классики (А П Чехов, Л Н Толстой), не без влияния которой сложился потенциал Рубиной-писателя, еврейской литературы («Зогар», «Агада»), в контексте которой «заговорила» Дина Рубина с начала 1990-х гг
Дом в поэтике Рубиной, являясь образом, мотивом, концептом, имеет как реальные так и символические черты, воплощенные в диапазоне от созидания Дома до его разрушения Дом — не столько жилище, сколько его поиск — от душевной бездомности к обретению гармонии, если и недостижимой вообще, то хотя бы интенциально увязывающей личный, исторический и мифологический опыт сознательной и бессознательной жизни героини Основные мотивы еврейского концепта Дом — изгнание и восхождение — прослежены на материале произведения Д Рубиной «Синдикат» В сюжете романа присутствует интрига, в основе которой — «электронный» текст от имени Агагш, который пророчествует, обличает, предупреждает, в соответствии с еврейской традицией почитания мудрецов, праведников
Мифологема Дай в еврейской картине мира сопряжена с главной святыней еврейского народа ■—Храмом, восстановление которого в ментальности Израиля ассоциируется с мессианской идеей Мотив Дома рассмотрен в работе не в хронологии, а в соответствии с его контекстуально-философским развитием, обозначенным географически Это три этапа в поисках Дома Ташкент, Москва, Израиль—три географических пространства биографии героини Рубиной Какой Дом она обрела' Ощутила ли себя недостающим звеном в цепи исторических событий, в этнической картине мира' Обретенный героиней Дом — не решение «квартирного вопроса», это все пространство Израиля с его нерешаемыми проблемами, ужасами террористической повседневности, словом, это вовсе не благостный, обетованный мир, но все же Дом — страна как большое семейство, где все друг с другом на ты («национальная склонность к фамильярности»), где в обыденной жизни отсутствуют парадность и «комильфотность», а человека
скорее окружает атмосфера безобидного амикошонствз и раскрепощенности1
Линейно выстроенное обретение Дома мифологично замыкается в круг, когда по законам экзистенциального хронотопа героиня вместе со своим народом должна оказаться в том пространстве, откуда вышли ее предки Один из вариантов перехода в Дом (в романе «Вот идет Мессия1.») семантизирован аркой, дверью, амфорой, виноградником и названием ресторана «Годовалая сука» С одной стороны — это враждебная «площадка» для героини она убита, с другой, отсылающей в метасюжет, — это место для искупительной жертвы во имя обретения Дома Поиск героиней Дома сродни его «строительству», а это — осознание своего еврейства, ощущение себя частью народа Мифологема Дом — еврейство значима в сознании именно тех представителей еврейской истории и культуры, которые озабочены судьбой еврейства в контексте других народов (например, В Жаботинский писал, что его ремесло — ремесло каменщика в строительстве нового храма, имея в виду реальные основы еврейского Дома)
В иноэтнокультурном тексте Рубиной, основанном на еврейской истории, культуре, ментальное™, есть «географический» ракурс, который связан с изгнанием и восхождением, — он рассматривается в разделах «Европейский текст», «Израильский текст: тема терроризма» Взгляд путешествующей по Испании, Германии, Италии, Голландии, Франции рассказчицы помимо «красот и достопримечательностей» фокусируется на следе еврейства в европейском пространстве, на «уничтоженном мире европейского еврейства», которое, возможно, и есть та часть потерянных колен израилевых, которых так рьяно разыскивают «синдики» из романа «Синдикат» В любой географической точке сознание героини работает как семантическая вселенная еврейского народа— с его историей, обидами, потерями Описание европейского пространства превращается в остатки Дома его «ошметки» фрагменты крыш, стен, обрывки фраз, могилы, «зашифрованные» памятники (например, мусульманское «одеяние» Маймо-нида в «Воскресной мессе в Толедо»), а также в то, что «застыло в воздухе» воспоминания, имена
Мифологическая коннотация судьбы еврейского народа — гонимость — сменяется на модернизированный вариант — терроризм, тем
1 Рефлективное восприятие рубинскими персонажами покинутого и обретенного пространства соответствует реалиям фольклорного иммигрантского дискурса, представленного в иссчедовании М Еленевской и Л Фиалковой «Русская улика в еврейской стране Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле» в 2ч (М , 2005)
самым народ Израиля вписывается в судьбу всего человечества — в страшную фазу, делящую человечество уже не на этносы и страны, а на тех, кто взрывает, и тех, кто от этого страдает В пространство темы «терроризм в Израиле» помещены микросюжеты, способные существовать как самостоятельные анекдоты, адресованные русскоязычному читателю, т к в их основе лежат архетипы русской культуры
Пространство прозы Рубиной доэмигрантского периода не имеет собственно географического концепта Оно обретает черты «топотек-ста» (по аналогии с «топофилией», «топоанализом» Г Башляра) в эмигрантскую пору писателя израильское пространство, ташкентское, российское. Видимо, опосредованность и остраненность — необходимые условия для рождения собственно «географического текста» Много схожего в израильском и российском пространствах, возможно, в этом и есть феноменальное открытие Рубиной не в стране дело, а в людях и там и здесь героиню сопровождают покойники, изуродованные тела, беззащитный человек. Такими сторонами поворачивается жизнь и в Израиле, и в России — повсюду
Во второй части «Фольклорно-мифологические мотивы прозы Дины Рубиной» рассмотрены грани одной из еврейских мифологем — Мессия и мессианство В утопическом метасюжете еврейской словесности Мессия — главный образ мессианского процесса — выступает не только как спаситель на эсхатологическом изломе, но и как заступник в текущей реальности (в сюжетах о «кровавом навете», о Го-лемс) Предмет нашего рассмотрения — не проблема «прихода Мессии», противоречивая даже в рамках иудаики, а концепт Мессии (Ма-шиаха) и мессианства как национальная мифологема еврейской словесности, отраженная в прозе Рубиной Появление этого мотива в прозе писателя связано с израильским периодом ее творчества Сюжет и заглавие «первого национального израильского» романа Рубиной «Вот идет Мессия!» построены на историко-мифологическом концепте Мессии в современной иудаике Узловые положения его таковы версия о двух Мессиях — гибнущем и торжествующем (С С Аверинцев), рассмотрение Мессии не как личности, а как процесса, разворачивающегося в истории (К Аттиас, Э Бенбесса), с одной стороны, Мессия — тот, от кого не следует ждать чудес, с другой — он наделен сверхъестественными способностями (С С Аверинцев) Спектр звучания мотива Мессии у Рубиной многогранен комический, трагический, мистический, мифологический и индивидуально-автор-
ский, нравственно-моралистический Последний смысл заложен в заглавии Мессия не придет (такова семантика мифологемы ожидания), а идет он уже среди нас, проблема в том, как распознать его Среди многочисленных «мессий» в рубинской прозе есть персонажи, типологически родственные юродивым в христианской культуре, дервишам — в мусульманской, их архетипичность восходит также к роду «странных» людей, именуемых в иудаистской мифологии повседневности то шлемилями, то мешугами / мешугинерами Медиевист М А Кравцов объясняет эти параллели расцветом в различных конфессиях мистических течений — исихазма, йоги, суфизма Аналог юродивого в иудаизме — скорее всего, хасид, представитель религиозно-мистического движения, сущность которого заключалась в некоем «религиозном пантеизме» (В Л Вихнович) Рубинские «юродивые» окрашены как сакральным звучанием, не лишенным религиозно-моралистического пафоса, так и комическим: например, в романе «Вот идет Мессия1» нескончаемым потоком являются самозванцы-Мессии, искренне верящие в свое предназначение Повторяемость, ритмичность и схожесть друг с другом этих сцен рождают комический эффект В многозвучном мессианском спектре есть доля авторской иронической игры, в глубине которой спрятана (чтобы не выглядеть пафосноД) морально-этическая позиция писателя не стоит ждать Судного дня, отстаивая многочасовой молебен, гадая, какой приговор будет вынесен тебе, куда важнее сделать гуманистическую позицию внутренним законом Праведность, благотворительность, согласно иудаистской морали, — закон повседневной жизни В авторской концепции романа «Вот идет Мессия'» это требование присутствует в подтексте как гуманистическое слагаемое мессианского процесса, как залог ожидаемой утопии, без которой немыслимо существование еврейского народа И если мифологическая составляющая этой утопии оборачивается в сюжете романа антиутопией, то ничего экстраординарного не происходит трагедия финала также вписывается в мифологическую парадигму — искупительную жертву, сопряженную с приходом первого Мессии
В разделе «"Антисемитский" текст» представлены и проанализированы сюжеты Рубиной, отразившие мифологию повседневности. Тема еврейства и антиеврейства в русской словесности XX в во многом была табуирована Период 1990-х гг — время массовой еврейской эмиграции—сам собой снял э гот «запрет» Антисемитский текст, став детабуированной темой в русской литературе, тем не менее присутствовал всегда в фольклоре как алломотив мотива «свой — чу-
жой» Этноцентризм (и топосоцентризм) характерен для фольклора всех времен и народов (его палитра — от безобидно-комической до деструктивно-агрессивной) В связи с этим интересна психология творчества Д Рубиной как отражение всей палитры мифологемы еврейства в русском дискурсе И в доизраильских текстах Рубина почти везде так или иначе касается темы еврейства, но эти тексты отличаются от израильских, пронизанных пафосом еврейства Тексты Руби-ной наглядно представляют движение к национальному самопознанию
В разделе «Еврей: образ мифологии повседневности» рассмотрены стереотипы, выработанные русской словесной традицией Портрет еврея вписывается в парадигму чужака, утрачивая антропологические приметы, набирая взамен свойства «сатанинских рептилий и хтони-ческих монстров» (М Вайскопф) Для доэмигрантской прозы Руби-ной характерен образ еврея, трагически осознающего свое еврейство среди неевреев Несмотря на новый контекст, образ еврея в израильской прозе Рубиной создан с позиции повествователя, «ушибленного» антисемитским прошлым Изображение еврея в Израиле у Рубиной сопровождено метатекстом истории еврейства, пронизано пафосом судьбы еврейского народа Вероятно, в этом сказывается медиа-торная специфика судьбы писателя (вспомним роль Переводчика), находящегося в долгом инициационном состоянии приобщения к своим исконным национальным корням
В текстах Рубиной советского периода тема еврея «проговаривается» «вполслова», перифразом, эвфемизмом, отразив повседневный стереотип полузапретной, «неприличной» темы Таким образом, в доизраильский период еврей в системе персонажей «свой — чужой» занимает свое «законное» место Например, Ирина Михайловна, врач из рассказа «Любка» (1987), помня о судьбе репрессированного отца, понимает, что «дело врачей» коснется и ее Персонаж рассказа «Терновник» (1983), взрослея, постигая мир, понимает, скорее, ему это дают понять — что-то не так в его жизни «Марина, я не хочу быть евреем. — признался он — А кем ты хочешь быть' — хмуро осведомилась она — Я хочу быть Ринатом Хизмагуллиным» Мать никак не комментирует тревогу и желание сына «Я тебе про все объясню, только завтра, понял7 — Почему завтра9 — Долгий разговор Много сил отбирает» Тема еврейства не продолжена в рассказе «Долгий разговор» состоялся, но уже в контексте израильского периода творчества Рубиной
В разделе «Советская мифология» проанализирован фольклорно-мифологический дискурс Рубиной, сложившийся из клишированных текстов повседневности медийного пространства (теле- и радиоэфирного), кино, пропагандистских агиток разного рода (плакатов, школьного преподавания) — некоего «лозунгового универсума» (Ю И Левин) Так складывается иронический стиль прозы Рубиной, сочетающий черты еврейской ментальности и анахронизмы мифологии советской повседневности, от которой, по словам писателя, никуда не уйти «метастазы прошлого» Прецедентные тексты советской поры, имея разное происхождение, характеризуются идеологической направленностью Пережив свой замысел, найдя нишу в виде «разомкнутого клише» (П А Клубков), они стали составной частью ментальности людей постсоветского пространства (в нашем случае — эмигрантов), география которого простирается дальше границ бывшего СССР, что и изображено в прозе Рубиной Ориентированность иммигрантского фольклора на советскую мифологию, или советские стереотипы, служит механизмом объединения русско-еврейской диаспоры (М Еленевская, Л Фиалкова). Не только прецедентные тексты, но и само массовое сознание российско-советского человека не могло не эмигрировать вместе с его носителями
В разделе «Герой прозы Рубиной» рассмотрены грани рубинских персонажей, связанные с фольклорной и мифологической традицией, — в параграфах «Герой-трикстер», «Иудейская богиня», «"Инцесгуальныи" Альфонсо», «Герой-художник: тема креативной личности» Повествование Рубиной везде организуется единым ироничным субъектом, даже в тех текстах, где рассказчик не объективирован, выключен из сюжетного действия Складывающееся повествоваьие не бесстрастно оно преломлено через сознание рассказчика (в таких текстах тендерная составляющая отсутствует) Там же, где рассказчик объективирован, это всегда героиня — с биографией, выстроенной сюжетами всего рубинского творчества Нравственно-этические приоритеты героини вписаны в картину мира еврейства, где она ощущает «всю тысячелетнюю толщу прав» ее народа, а имя Иерусалим ласкает ее россий.кий слух Романы и повести Д Рубиной отличает многоге-ройность, среди персонажей нет ни главных, ни второстепенных Тем не менее ряд произведений отличает присутствие г чавных героев «На Верхней Масловке», «Последний кабан из лесов Понтеведра» — герой этого романа вырос из недр мифологии и фольклора
Популярным персонажем еврейского фольклора является некий недотепа, именуемый Шлемиль, или ишмазл (от немецкого йсЫегтЫ —
чеудачник) В отличие, к примеру, от русского фольклора с универсальным (в географическом аспекте) сказочным Иваном-дураком, в еврейском фольклоре (восточноевропейском) чуть ли не каждое местечко имело своего персонального шпемазла Парадигма этих образов варьируется как русский образ Ивана-дурака в одних случаях метаморфизируется, в других — о стает ся неизменным в своей глупости, так и еврейский шлемазл в ряде нарративов вдруг освобождается от своей недотепистости, вознаграждается или богатством, или властью, или всеобщей любовью, внезапно открывается окружающим своими талантами как реальными — ремеслом, так и метафорическими — простотой, открытостью и бесхитростностью
Образ рубинского Люсио («Последний кабан из лесов Понтевед-ра») архетипически восходит к герою-трикстеру, дан в развитии — из шута и озорника, еврейского шлемазла превращается к финалу романа в собственно героя Герой-художник, герой-мститель, восставший против своего господина и соперника, Люсио одновременно следует роковой фамильной интенции и творит собственный «орнамент» жизни Двухполюсная парадигма (пророки и шуты), пришедшая из древней еврейской словесности, присутствует на одной «площадке» в повествовании Рубиной
Др\ гие персонажи романа «Последний кабан из лесов Понтевед-ра» также мифологически архетипичны образ Таисьи восходит к иудейской богине, Альфонсо — к инцестуальному мифу, по-рубин-ски травестированному
В параграфе «Герой-художник: тема креативной личности в прозе Рубиной» в контексте расхожего этностереотипа повседневности о поголовной талантливоеги евреев рассмотрены как фольклорные, так и литературные сюжеты Времена активной эмиграции евреев породили анекдот «Если в руках спускающегося по трапу самолета нового репатрианта нет скрипки, значит, он — пианист» (М Еленевская, Л Фиалкова) Этот «реальный» сюжет воспроизведен Рубиной в романе «Последний кабан из лесов Понтеведра» По этой ли причине (фольклорно-мифологической), по причине ли индивидуально-авторской (консерваторское образование Д Рубиной, ее «семейный континуум» отец и муж — художники, сестра — музыкант) в большинстве рубинских текстов присутствует персонаж, одолеваемый тягой к художеству собственно творец, или страдающий от творческой несостоятельности, или обывательски ориентированный на «художество» Тема креативной личности (со множеством оттенков «креатива»), таким образом, — одна из главных в прозе Рубиной В метатексте
рубинского повествованчя присутствует и Главный Творец, заведующий «небесным путевым ведомством» он «и билеты выдает, и сам же их компостирует» («На солнечной стороне улицы») И не столь важно, в какое время доведется жить и творить художнику — мифологема его взаимоотношений с временем (читай — с властью, модой, толпой) одна на все времена, истинному художнику важнее всего (счастья, семьи, уюта, покоя — извечных субстанций блага) возможность отдаться своему ремеслу без остатка В пределах рубинского творчества выстраивается концепт креатива, складывающийся из ряда ал-ломотивов творчество и «ведение» его, творчество и псевдотворчество (искусство и псевдоискусство), «меченость» искусством, искусство как образ жизни
Анализ творчества Рубиной помещен в контекст литературного дискурса, представленного именами писателей как ивритоязычных, идишистских, англоязычных, франкоязычных — словом, переводных (Шолом-Алейхем, И Б Зингер, О Дриз, Б Маламуд, Э -Э Шмитт), так и русских, в творчестве которых затронуты проблемы, близкие Рубиной (Ф. Горенштейн, Л Улицкая, А. Волос и др ), а также в пространство еврейского и еврейско-русского фольклора, как классического, так и современного
Проведенный литературоведческий и культурологический анализ творчества Д Рубиной (в частности, пространства прозы писателя, состоящего из концепта Дом и ряда географических топосов, имеющих взаимоотношения с еврейством), фольклорно-мифологических мотивов (Мессии и мессианства, «антисемитского» текста и образа еврея как проекции мифологии и фольклора повседневности, феномена советской мифологии), специфики героя рубинской прозы, истоки которого обнаружены как в мировом фольклоре—-архаическом и современном, — так и в еврейском дискурсе) представляется исследованием мифопоэтики современной русской прозы, в недрах которой складывается иноэтнокультурный текст (проецирующий иные, в сравнении с русскими, аксиологию, ментальность, парадигматику, мотивику) При анализе иноэтнокультурного текста в русской прозе сделан акцент на фольклоризм и мифологизм прозы как главные категории мифопоэтики Присутствие фольклорного и мифологического слоев в исследованной прозе представляется нам концептуальным для авторской позиции Рубиной только так русское творчество способно предстать как иноэтнокультурный текст не через язык творчества, а через метаязык культуры Устный дискурс, как ничто другое, отражает ментальность народа, поэтому ментефакты еврейской культу-
ры, или национальные образы мира, — это главное, что привлекает внимание Рубиной и становится в ее творчестве сюжетом, деталью, типажом
Вторая глава «ИНОЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ ПРОЗЫ ТИМУРА ПУЛАТОВА» содержит анализ творчества писателя, который системой национальных понятий, символов, представлений, спроецированных всем бытийным комплексом жизни восточного человека, мусульманской аксиологией, иными словами, метаязыком Востока создает иноэтнокультурный текст
Феноменальность творчества Пулатова заключается в том, что оно стало своеобразным транслятором двух культур понимая обе, живя в них, писатель способен донести до реципиентов иного образа жизни, иной ментальности наиболее значимые слагаемые своей культуры, не всегда адекватно воспринимаемой представителями других народов
Среднеазиатский Восток — это регион, традиционно относимый к мусульманской культуре Не обязательно быть приверженцем ислама, проживая на этой территории Религиозная традиция, проникая в быт, архитектуру городов, словесную образность, мифологию и фольклор, философское осмысление бытия, взаимоотношения между людьми, явно или опосредованно формирует стиль жизни, мышления, называемый восточным
В древних арабских рукописях, когда не было нумерации страниц, существовал обычай выписывать первое слово текста последующего листа отдельно в нижнем колонтитуле слева, чтобы соблюсти последовательность в изложении (А А Хисматуллин) Это принцип силсила — традиция мусульманской культуры, имевшая не только практическое, но и символическое значение наследования и передачи духовного знания. Эта традиция никогда не прерывалась возникнув задолго до ислама, она продолжает жить Если выстроить хронологически художественные тексты Пулатова, то обнаружится соблюдение принципа силсила все однажды появившиеся образы от текста к тексту повторяются, поворачиваясь иной гранью Деталь контекста (например, холм, замок), вошедшая в фокус зрения персонажа в финале одного произведения («Второе путешествие Каипа»), становится экспозицией следующего («Сторожевые башни») Ироническая метафора и словесная игра с деталью (землетрясение) в финале романа «Страсти бухарского дома» становятся сюжетообразуюшими в романе «Плавающая Евразия» интрига строится вокруг землетрясения, прогнозируемого кораническим пророком Читатель расстается
с героем в трилогии «Страсти бухарского дома», когда тот высказывает желание улететь в космос, в романе «Плавающая Евразия» герой совершает такой «полет» по аду, раю, чистилищу Упоминаемая почти в каждом тексте черепаха в результате становится главным объектом повествования в романе «Черепаха Тарази», и лишь в романе «Плавающая Евразия» черепаха не упомянута, но название романа — перифраз черепахи В каждом тексте Пулатова присутствуют пространственная деталь {ворота), нагруженная философской и этнокультурной семантикой, сакральное описание виноградника, песка как экзистенциальных слагаемых быта и бытия Принцип силсила применительно к творчеству Пулатова — это метафора, которая «работает» как продолжение мусульманских фольклорно-мифологиче-ских традиций в современной литературе
Религиозный текст в культурном дискурсе че обязательно связан с описанием культа, регламентаций, отправлений веры Религия (любая) зиждется на нравственных, этических предписаниях, и все религии в этой точке (заповедной и заветной) сходятся, потому и вызывают общечеловеческий интерес как конгломерат культуры и духовности Отношение к детям и старикам, восприятие человеком природы и ее катаклизмов, отношение к холоду, солнцу и воде, дому, гостю, еде — все это, присутствуя и заполняя человеческую жизнь, разнится у всех народов Писатель, находясь в зоне двух, а то и трех языков1 (и метаязыков) способен создать в художественной форме модель мира одного народа — и это тоже принцип силсила. Исследование корней мифологизирования сопряжено со стремлением связать настоящее с прошлым ради обнаружения их единой метафизической природы, во имя сохранения и возрождения национальных форм мысли и творчества (Е М Мелетинский) Этот принцип творчества Пулатова, на наш взгляд, не всегда носит рациональный характер, реализуясь порой подсознательно Не только автор движет и развивает свой текст, но сам текст, материализуясь, движется по своим внутренним законам, питаясь энергетикой национального и мирового видов дискурса
Мифология и фольклор — главные источники творчества Пулатова, в них ярче всего представлены национальные образы мира, поэтому фольклоризм и мифологизм так очевидны в текстах писателя Будучи по природе синкретичным, феномен исследуемого творчества зиждется не только на фольклорно-мифологической традиции свое-
' Т Пулатов по матери русский
— таджик, по отцу
— узбек, по языку творчества —
го народа и традициях литературы языка, на котором оно создано (т е русской литературы — Т Пулатов говорит о влиянии на него прозы Л Толстого), в прозе писателя ощутимо также воздействие западноевропейского модернизма Мировая мифология, западноевропейская литература XX в (Ф Кафка, Г Маркес, М Фриш,Р Му-зиль), традиции русского психологического романа—все эти составляющие мирового дискурса отразились в творчестве Пулатова
Судьбь. персонажей Пулатова выстраиваются в некий инвариант единой судьбы Его герой представлен в разных возрастных категориях, проходит путь от рождения до смерти Этапы пути героя не суммируются от текста к тексту, а варьируются имена, род занятий, хронотоп существования, нравственно-этический выбор Помещенный в мир земных, реальных предметов и вещей, герой Пулатова далек от быт*1, детали которого видятся герою (будь он ребенок или старик) не в их утилитарной функции, не в повседневности, а в одухотворенности, в их потаенном смысле Так, герои Пулатова не обременен каким-либо конкретным занятием, учеба, служба, работа, наука если и присутствуют в жизни героя, то как фон, как возможность для осмысления себя, природы, любой рукотворной вещи как части природы и мира Учеба для юного героя Пулатова—это время познания не наук, а себя, повзрослев, герой предгтает в статусе бывшего (артиста балета, караульного, колхозника, ученого) и свободного человека Нет в его жизни ни суеты, ни тщеславия, зато есгь время для поиска своего Пути Его стезя — это путь, подобный поиску мусульманского дервиша, пытающегося приблизиться к Богу. Ни к чему не привязанный ни к дому (настает момент, когда дом разрушается, т е уходит под давлением времени его дух), ни к семье, ни к возлюбленной, ни к другу, ни к делу—герой Пулатова отправляется странствовать, проходя через базары, города (оглядываясь, он видит лишь их руины), не оставляя в своей памяти случайных попутчиков, он пересекает пустыни (Тарази), море (Каип), проникает сквозь земную твердь (Давлятов) — и все это время мучается сомнениями, внутренними противоречиями Герой Пулатова — интеллектуал, и это не зависит от его образованности, количества прочитанных книг шкала эрудиции у героев Пулатова — от минимальной (Каип) до вселенской (Тарази) Интеллектуальность героя связана с его избранностью, осознаваемым или скрытым для самого персонажа мессианством Основой философии героев (по воле автора) стали суфийские истины, элементы «народного ислама» (представляющего синтез доисламских верований) и собственно ислам
Инвариантный ) ерой прозы Пулатова находится во «второй степени мудрости», к «третьей» он стремится согласно разработанной героем трилогии, Душаном, классификации трех степеней мудрости Проза Пулатова может быть маркирована как философская, и прежде всего это аргументировано интенцией его героев
В сюжетном пространстве восточной литературы нет образов женщин, отношением к которым проверялся бы герой, отсутствуют любовные сцены, не разрабатывается тема любви В соответствии с этой парадигмой герой Пулатова — «задумавшийся», аскет, одиночка, архетипический дервиш
Женщине в мусульманском быту и ментальное™ исторически отводилось обособленное место (в отличие от средневековой поэтической традиции, с любовными и эротическими откровениями), отдельное женское помещение в патриархальном доме, специфический крой одежды, скрывающий особенности фигуры, накидки налицо, платки на голову — все это свидетельство внешне затворнического положения женщины, знаки ее обособленности от мужчины Ничего из перечисленного в прозе Пулатова нет, но «оно» сказывается в отсутствии женщины как героя, первостепенного персонажа Образы женщин в творчестве Пулатова — это, как правило, бабушка, мать, жена, реже чстречаются возлюбленные, но их роль в жизни героя преходяща, мимолетна (Савия в «Завсегдатае») О любви речь почти не идет — случайные встречи, обременительные для героя (Майра во «Впечатлительном Алишо», Шахло в «Плавающей Евразии»)
Антропонимика Пулатова соответствует тенденции значимого на Востоке имянаречения имя героя предопределяет его судьбу, концепцию личности Имена женских персонажей — Мариам, две Айши, две Майры, две Норы — также выполняют функцию знака, мифологического кода, шире — восточной ментальности, где существу ет культ старших, матерей и бабушек
Социальный и природный ландшафты (город, деревня, пустыня, море, горы) в прозе Пулатова этносемантизированы Город Бухара — наиболее распространенный географический локус Писатель, родившийся и выросший в Бухаре, спроецировал дух города на свое творчество Национальный характер героев Пулатова — прежде всего бухарский Душан, Ахун, Тарази — бухарцы, в них уживаются противоположности бесстрастность и вспыльчивость, простодушие и хитроумие, аскетизм и желание блеснуть Отдельные свойства восточного характера показаны иронично «азиатская душа» — сказано о человеке с большими деньгами, который может всех презирать По мнению исследователя восточной ментальчости, человек с достаточ-
ным «престижем», т е обладающий материальными ценностями, авторитетен настолько, что может заставить людей верить во что угодно (М Берк). Говоря об аскетизме Тарази, автор иронизирует тот своей неприхотливостью мало похож на типичного восточного человека, любящего окружать себя всем мягким, ярким, душистым
Неординарность пулатовских героев складывается на фоне восточной нормы ненормально на Востоке не иметь семьи, детей, ненормально не иметь дома, ненормально быть безбожником Старики-аксакалы из «Прочих населенных пунктов» рассуждают о зачинателе их неродившегося города «Такой человек не может быть нашим отцом К тому же он, оказывается, и без семьи А мужчина, не наплодивший детей, все равно что карагач с гнилыми ветвями И еще он без веры Говорят, что он в молодости бога ругал»
В контексте исследуемой диссертационной проблемы в трех частях второй главы можно выделить следующие уровни анализа
В первой части «Герой прозы Тимура Пулатова: суфийская парадигма» проанализировано универсальное своеобразие пулатовского героя, архетипические истоки которого восходят к суфийской парадигме, распрос граненной как в фольклоре, так и литературе Востока Герои Пулатова — Магди, Душан, Ахун, Давлятов, Тарази — выстраиваются в единый типологический ряд Внутренние возможности, устремления, оппозиционность заложены во всех изначально, но распорядились своими «генетическими» предпосылками эти личности по-разному К ним примыкает Беков («Прочие населенные пункты») — романтик, странник по жизни и стране Все эти герои (за исключением Магди) одиноки как в прямом, так и в переносном смысле Ни семьи, ни детей (у Давлятова есть сын, о котором он не знает, Тарази давным-давно оставил семью) Словом, герои Пулатова на фоне своего окружения — другие, но в контексте творчества писателя образуют единое генетически-типологическое явление
Во второй части «Мифологическая и фольклорная мотивика прозы Пулатова» рассмотрены национальные образы мира, корни которых — в фольклорно-мифологической архаике и в современной повседневности дом, двор, ворота, камень, дерево, базар, деньги, еда
Дом на Востоке — закрытое от постороннего пространство, этим мотивированы инакость, странность пулатовских персонажей Дерево в сюжете пулатовских текстов, помимо побочных мифологических функций, выполняет главную — космогоническую — центрального мирового столпа (столба, оси), а также символизирует Путь исканий (забираясь на дерево, юные герои Пулатова знакомятся с миром) В отличие от дома, базар на Востоке — пространство, открытое для
общения, обмена информацией, контактов, некое вавилонское столпотворение В фольклоре и средневековой литературе герой, оставшись без средств к существованию, идет на базар — так начинается развитие сказочного сюжета Пожалуй, впервые в словесности базар нарисован не с позиции этнографа, социолога, фольклорного краснобая, автора путеводителя по экзотическим лабиринтам Востока Базар у Пулатова представлен как живой организм, со своими философией психологией, фольклором, в красках и запахах, которые разнятся по временам года, у базара свой нрав, механизм поведения — он раскрывается в зависимости от того, кто с ним вступает во взаимоотношения Писатель рассмотрел эстетику базара в глазах Ахуна («Завсегдатай») торговля сопоставима с балетом Базар как форма восточного мироздания обрел в пулатовском повествовании свою мифологическую структуру — пирамиду Уровни пирамиды — от основания до вершины --это суеверия, вера в предопределенность, базарная мифология, кодекс поведения, признание одушевленности базара, его противоречивого духа Базар — некая модель общежития у базара свое, ревностное, отношение к женитьбе, семье, он не прощает предательства, ему надо отдаваться сполна Базар — миниатюрная модель мира и с точки зрения чистоты веры и крови если уклад восточного быта имеет строгий регламент, то базар, напротив, представляет полиэтническое и полирелигиозное сообщество. Вопреки обыденному стереотипу базар — это не только пространство получения выгоды Базар сакрален, несмотря на земную, плотскую функцию, выполняемую в его пределах он даже по своему внешнему архитектурному решению не случайно напоминает мечеть Коннотация базара как храма торговли становится в ряд с такими словосочетаниями, как храм науки, храм искусства Базарный завсегдатай — чуждое русской ментальности словосочетание — новый тип героя в литературе Русскоязычному читателю подобный статус станет понятен лишь в пулатовском контексте, где базар представлен как концепт
Мотив денег в прозе Пулатова окрашен этномифологическим отношением к ним все аспекты связей между людьми, строящиеся на деньгах, в мусульманском мире выработаны одно шачным исходным требованием, содержащимся в Коране В картине мира, нарисованной Пулатовым, очевидны ценности, формирование которых уходит в глубь веков, зафиксированные в Коране, они стали духовно-нравственными идеологемами фольклорно-мифологического пространства Наличие / отсутствие денег, способность быть щедрым / скаредным — необходимые элементы маркировки персонажа в восточной
сказке, от ношение к богатству, деньгам, спрессованное в пословицах и поговорках, совпадает с морально-этическими установками Корана Деньги у Пулатова семантизированы как разрушительное начало Финал романа «Плавающая Евразия» соответствует узбекским пословицам «Деньги игрока — зола очага», «Где деньги в ходу, там правды не найду» герой романа Давлятов играет в кости с шахград-цами и выигрывает, но в метапространстве сюжета — это проигрыш Давлятов потерял все уничтожен дом («зола очага»), изгнаны и похоронены коранические пророки Салих, Субхан
Мотив еды в мировом дискурсе также имеет мифологические корни У Пулатова еда не выступает в роли сквозного мотива творчества Однако упоминаемая в реплике, присутствующая в виде детали, образа, она семантизирована метасмыслом, порожденным национальной картиной мира В произведениях Пулатова не встретишь гастрономического ряда яств, представляющих антрополого-этнографиче-ский «экзотизм» среднеазиатского Востока Тем не менее еда в определенной степени суть сублимированное национальное сознание Пу-латовский концепт еды помещен по преимуществу в зону запрета — ограничения и воздержания Истоки таких воззрений на еду лежат в морали и этике мусульманской культуры Например, едо в мире Ду-шана, помимо деления на дозволенную и запретную (о чем он узнал ст бабушки), делится на свою и чужую Своя еда — метафора дома, размеренного и несуетного, закрытого от чужих глаз мира, чужая еда— враждебный мир, полный любопытствующих, дразнящих, суетливых Концепт еды в прозе Пулатова — это одна из составляющих национальной картины мира среднеазиатского Востока Герои пулатовской прозы занимают определенное место в этом концепте, в его философском пространстве есть место и экзистенциальным началам «только трапеза и любовь еще как-то привязывают нас к жизни» («Завсегдатай») Писатель затронул лишь тот аспект темы еды, который, с одной стороны, имеет функцию ритуального жеста с другой — является составляющей интенции праведничества, проявлением аскетизма личности
Дом, дерево базар, деньги, еда — мотивы, воссозданные в пространстве прозы Пулатова, — почти все общечеловеческие и общелитературные Однако, «пропущенные» через видение, ощущение человека восточной ментальности, они выстраиваются в особую картину мира, которая индивидуальна у каждого народа Воссозданная на русском языке, картина мира Востока предназначена для читателя иной ментальности, проза Пулатова в подтексте и метатексте содер-
жит параллели, антиномии, сопоставления с другими культурами с другими национальными образами мира
В третьей части второй главы «Кораническая и суфийская эстетика в поэтике прозы Т. Пулатова» рассмотрены наиболее репрезентативные элементы поэтики иноэтнокультурного текста
В разделе «Элементы поэтики хадисов» предложена типологическая параллель между христианскими житиями и мусульманскими ха-дисами В отличие от христианской литературы, где жизнь святых, связанная с прижизненными испытаниями и аскезой, получает посмертное отражение в жанре жития, исламская словесность агиографии не имеет Вероятно, потому, что отношение к святым в исламе неоднозначно понятия «святой», «святость» отвергаются как проявление идолопоклонничества, единственным святым признается пророк Мухаммад Тем не менее в классическом исламе святые и повествования о них играют огромную роль Помимо официально признанных святых в мусульманском мире существуют четыре тысячи пассивных «святых», которые не знают о том, что они «святые», они скрыты друг от друга и от людей (А А Хисматуллин) Исходя из метапространст-ва мусульманской культуры, к святым в контексте пулатовской прозы мы относим Вали-бабу («Сторожевые башни») и Каипа («Второе путешествие Каипа») Путь этих персонажей, после ряда жизненных коллизий, вывел их на духовную стезю Так писатель расставляет акценты истинного, сакрального в своей национальной картине мира Раздел «Коранический хронотоп» связан с отражением в прозе Пулатова коранической мифологии Большинство персонажей романа «Плавающая Евразия» имеют двойников из коранического пространства Давлятов — Салих и Мухаммед, Анна Ермиловна — Хайша! Aima, Музейма — Субхан и др Землетрясение (или его ожидание), вокруг которого группируются все реальные и мифологические персонажи, — центр хронотопа как в кораническом, так в пулатовском сюжете Все философские и социальные обобщения, анализ причин и следствий катастрофы тяготеют к этому хронотопу и через него «наполняются кровью и плотью» (M M Бахтин)
В разделе «Метаморфизм» рассмотрены многочисленные модификации мотива превращения Все творчество Пулатова пронизывают эстетика и философия суфизма, в концепции которого содержится мотив перевоплощения для достижения единения с Богом Собственно перевоплощение на метафорическом уровне есть род превращения, метаморфозы А генезис любых метаморфоз ведет к мифу Диахронический анализ прозы Пулатова выявляет разрастание превращения от детали до мотива, представленного в последних романах («Че-
репаха Тар^зи» и «Плавающая Евразия») главным приемом сюже-тосложения Мы выделили ряд композиционных разновидностей превращения у Пулатова. как ракурс мировидения (на подсознательно-психологическом уровне героев), как метафора ухода индивида от социума, как результат действия тотемного «закона», как функция героя-демиурга (культурного героя/трикстера), как акт социального наказания (травестия) — род карнавализации, не лишенный сатирического пафоса, направленного против падения нравов в городе (читай — в мироздании), который плавает в океане на панцире черепахи Литературоведческий и культурологический анализ прозы Т Пулатова — «универсального» героя (образы которого восходят к суфийской парадигме), мифологической и фольклорной мотивики (дом, двор, ворота, камень, дерево, базар, деньги, еда), коранической и суфийской эстетики (воплощенной в кораническом хронотопе, корани-ческих архетипах, суфийской метаморфической интенции, в транспонировании поэтики мусульманских хадисов) — доказывает наличие в прозе писателя иноэтнокультурного текста и предлагает аргументированный «инструментарий» исследования подобного феномена, состоящий в вычленении иной (в сравнении с русской) аксиологии, ментефактов жизни народа (нерусского), религиозно-обрядовых практик, особенностей бытовой повседневности и даже архитектуры, кухни, имянаречения и проч Все эти аспекты наиболее очевидно выражаются в мифологическом и фольклорном дискурсах, акцент на которых сделан в данном исследовании не случайно вслед за Пулато-вым, «растворившим» в своем тексте фольклорно-мифологическую ткань жизни среднеазиатского Востока, мы последовательно анализировали наиболее выразительные и концептуальные для творчества писателя темы, мотивы, парадигмы, позволившие выстроить систему, представшую в виде иноэтнокультурного текста
В третьей главе «МОТИВ ГОРОДА В ИНОЭТНОТЕКСТЕ (Д. РУБИНА, Т. ПУЛАТОВ, С. АФЛАТУНИ, Ч. АЙТМАТОВ, А. ВОЛОС)» творчество писателей — референтов иноэтнокультуры объединено мотивом эманации города «Ташкентским романом» мы маркировали привязанность к городу бывшего советского «окоема» как к культурно-исторически-эмоционально-экзистенциальному прошлому, ставшему таковым на «руинах» былой империи.
В первой части «Ташкентский текст в прозе Дины Рубиной» проанализирован тот пласт творчества, который представляет из себя фольклорно-литературно-культурологический синтез, «реанимировавший» один из городов ушедшей империи В разделах «Био- и се-миосфера Ташкентского текста», «Лексико-семиотическая составля-
ющая Ташкентского текста», «Категория времени в Ташкентском тексте» предпринята попытка, отталкиваясь от рубинского повествования о Ташкенте, создать культурологический комментарий к собственно Ташкентскому тексту Рубинои В данной части собран фольклор Города нарративы, анекдоты, песни, прецедентные тексты, фольклорные топонимы
Во второй части третьей главы «Мотив i орода в прозе Т. Пулато-ва», «пройдясь» по городу Пулатова от произведения к произведению, мы выявили, что нигде город не нарисован беспристрастно — он в большей или меньшей степени враждебен герою Город у Пулатова — не просто обозначение места действия, он входит составной частью в концепцию произведения В пулаговском хронотопе—синтезе прошлого и настоящего—уходящий город как хранитель патриархальных ценностей умозрительно дорог герою, это город онири-ческий, связанный с грезой, мечтанием-воспоминанием, а новый, настоящий или предполагаемый, который только должен быть построен, — чужой Семантика города зависит, по концепции Ю. М Лот-мана, от местоположения в семиотическом пространстве город может занимать концентрическое или эксцентрическое положение Концентрический город метафоризирован как «храм», «святыня», вечный город, «посредник между землей и небом» Такой город в поэтике Пулатова перестает быть «вечным» Там, где владычествует «Господин Песок», «вечный город» не возможен А может, и не в песке дело, по мысли автора, сами люди — причина смерти городов Таково экзистенциальное звучание мотива восточного города, созданного в столкновении стихии и культуры, песка и человека, мотива, в недрах которого вырастает национальный образ мира — гороО, будь то средневековый, Город начала XX в или егс конца, — финал один Мотив города, повторяясь и варьируясь, переплетен с мотивом песка Песок — главная «материя» пустыни — не только мета среднеазиатского ландшафта Песок — символ-хронотоп, переходящий из текста в текст Мотив города, сливаясь с мотивом песка, концептуально эсхатоло-гичен он антонимичен не только цивилизации, но и человеку-индивиду Город как единый мотив в прозе Пулатова, тем не менее, в каждом произведении представлен специфично ~о он реальный, географический — Бухара, Гузар, то «реальный», но не географический — Гаждиван (деривация от реального названия Гиждуван), то фантастический город Денгиз-хана, то вымышленный средневековый город Оруз Маленькие города в «топографии» Пулатова (при диахроническом рассмотрении) вырастают в большой — столичный Шахград Название романа «Плавающая Евразия» — это перифраз, дающий
городу Пулатова статус модели мира, апокалиптичной—за грехи, за небрежение к духовным традициям
Третья часть третьей главы «Мотив города в прозе Сухбата Афла-туни, Ч. Айтматова, А. Волоса» состоит из двух разделов Первый раздел «Притчевость мотива города» содержит анализ повести С Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки» Город, представленный как культурно-географическое обобщение,—главный мотив прозы писателя это село/деревня/кишлак, безымянный город с чертами узнаваемой узбекской столицы, фантасмагорический топос Везде присутствуют черты уходящей цивилизации, далеко не идеальной, порой абсурдной Зафиксировать этот факт жизни Города, былого — такова интенция авторского пафоса В центре повести Афлатуни — жизнь некоего топоса без названия, однако с древней историей — от Александра Македонского, обозначено время действия — рубеж XX—XXI вв выход из «русской империи», «когда Москва нашей столицей быть расхотела». В нем живут люди, носящие мусульманские имена (Так продекларирован иноэтнокультурный текст) О том, что этот топос среднеазиатский, говорят традиционные знаки ландшафта и ментефакты сакральное отношение к дереву, воде, гастрономические «артефакты» чай, лепешка, плов, курт, детали быта — чапан, «метафизики» — исирык, «медиатор» между тем и другим — насвай Повествование ведется от лица селянина, говорящего по-русски (и не только потому, что повесть написана по-русски) Автор, находясь в пространстве как минимум двуязычия, создает сказовый стиль повествования от лица рассказчика, сложившегося как homo dictus в двуязычном советском «полукровстве» Рассказчик не говорит «скатертью дорога», но удивленный нелепостью этого «пожелания», пользуется перифразом «Пусть на твоей дороге скатерть валяется» Одна из частотных деталей в описании жизни села — водка — пришла в этот заносимый песком топос вместе с сопроводительным дискурсом «Агроном был уже под огромной мухой» (курсив наш — Э Ш) Русский так не скажет, но так говорит рассказчик Афлатуни, житель среднеазиатской нерусской деревни Русский язык персонажей Афлатуни отражает и реальные языковые формы, например, не только узбеки, говорящие по-русски, но и таи ¡кентские русские называют в нейтральной речи младшего брата «братишкой» (не «брат», или «младший брат», как сказал бы русский россиянин) Интерференция как черта «узбекского русского» воспроизведена в речи персонажей Афлатуни «Неть, я ни Байрон, я дыргой »
Традиционный для русской мифологии повседневности образ Пушкина уступил место «собрату» по «школьному ряду» — Лермон-
тову И эта -<уступка» мотивирована в сюжете кумиром, «тотемом», «Лениным» Лермонтов стал с подачи местного авторитета — Старого Учителя русской литературы Создавая оригинальный для мифологии XX в комический «лермонтовский» дискурс, автор, тем не менее, воссоздает типологическую парадигму (черта поэтики прозы Афлатуни — создание авторской, индивидуальной мифологии, но в традиционной парадигматике) У власть предержащей части селян кумир «Владимир Ильич Маяковский» — неслучайная аберрация, корни которой тоже в мифологии XX в. И новая мифология повседневности «глобальной деревни» пронизывает село Афлатуни популярные на рубеже веков «голубые» мотивы, ксенофобия, конкретно — антиамериканская Несмотря на смену контуров «географии», шрифтов, вектора «дружбы», рисунков на банкнотах, мифологические парадигмы остаются традиционными Локус неопределенного статуса не раз появлялся в литературной географии, один из хрестоматийных — щедринский Глупов город' деревня' государство' — модель человеческого общежития Структура его вечна толпа — тиран, эта мифологема провоцирует на типологическое сопоставление повести-притчи Афлатуни с кинопритчей Т Абуладзе «Древо желания»
Для органики жанра притчи характерно поучение / предупреждение Если у Абучадзе сюжет имеет трагический финал, то в притче Афлатуни люди торжествуют победу над тираном вода ниспослана им как награда за то, что есть среди них праведники, и жизнь в селе продолжается «Учитель песка» — первоначальное заглавие повести Афлатуни В аллюзивно-культурологическом контексте всплывает перифраз из кино дискурса—«Человек дождя», или другой «Он пришел к нам вместе с дождем» (наследник дервиша, которого убила толпа) Архетип героя — дервиша/учителя — мифологический культурный герой, существует в циклическом времени мифа- он уходит, чтобы вновь возвратиться Инакость учителя соответствует органике дервиша Учитель наделен даром предвидеть и постигать прошлое Инакость его в духовной чистоте Толпа не прощает инакости неординарных в своем поведении (Учителя — у Афлатуни, Мариту — у Абуладае) усаживают задом наперед на осла, совершая казнь
Создавая картину города / села — модели человеческого общежития — в мифолого-типологической парадигме культуры, Афлатуни наполняет ее образами национальной (восточной, мусульманской) мифологии Те немногие имена, которыми названы персонажи повести (или которыми они себе представляются), несут архетипическую семантику Иброхим (коранический персонаж, живший в городе нечестивых и выбранный для того, чтобы принести своего сына в жерт-
ву Аллаху), Муса (мусульманский проткж), Марьям (кораничес* ая Мириам, забеременевшая по знаменью Господнему)
Во втором разделе третьей части «"Ташкентский роман" как культурологический образ в прозе Сухбата Афлатуни, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса» на материале прозы писателей российского «окоема» рассмотрен образ города, с которым авторы прощаются Мы назвали этот образ «Ташкентом», а взаимоотношения писателей с ним — «Ташкентским романом». «Уходящей натурой» стал Хуррамабад / Душанбе у А Волоса, Бишкек в романе «Когда падают горы» Ч Айтматова В образ города органично вплетен образ времени, персонифицированный в фантастическом существе (у Афлатуни — дракон, у Айтматова — Вечная невеста), овеществленный в деталях, приметах времени — неких «приветах» из повседневности прошлого (у Афлатуни сигареты «Стюардесса» — примета 1970—1980-х гг , сигареты «Хон»—деталь «нового», «самостоятельного» Ташкента конца 1990-х, диктор Ирлин — «бренд» узбекского телевидения советской поры, духи «Красная Москва» — символ «старого» времени, Кафка — имя, произносимое как сакральное во времена оттепели, «сиреневые сотенки» — знак «независимого» бытия Ташкента, исчезнувшие из топонимики города места и их названия) «Люди непереводимы Нельзя их вынимать, как слова, из одного языка и, лишая памяти, родины, детства, перетаскивать в другой» (С. Афлатуни. «Ташкентский роман») — это о том городе/стране, который оказачся на сломе эпох, идеологем, алфавитов, границ (новых) Ташкент— не столько город в «Ташкентском романе» Афлатуни, сколько культурно-вещественно-духовно-символический пласт места Пространство genius loci рождает феномен mentalis loci, который мы называем «Ташкентским романом >, или палимпсестом (Ж Женетт) — текстом, написанным поверх смытого или соскобленного прежнего, который восстанавливается (в отличие от научной практики) литературным творчеством В повести Афлатуни «Барокко» Город представлен в виде образа экзистенциальной направленности, помещенного в фантастический сюжет В некоем городе пропал человек, он и есть пропавший город, его разыскивает автор В этом иносказании, на наш взгляд, по-восточному притчево представлена авторская концепция города— феномена разрушающегося, исчезающего (или исчезнувшего) и притягивающего к себе, некоего города-фантома, который есть и которого нет В композиции повести обозначен ритм «убывания» города одни люди уезжают, другие не могут — велика сила притяжения, выраженная в уютной кушетке (аллюзии на гетевский «западно-восточный диван»1) Авторская «экзистенциологема» — это «возлежание»
на этой самой кушетке, обладающей магией со-существоваиия, соития двух культур
Архитектурная тема прозы Афлатуни — это алломотив, или со-мотив, темы Города Топос, о котором повествует писатель, в переводе означает каменный город, поэтому то, как выстроен, из чего сотворен город, каков его стиль, семантизировано архитектурным термином «барокко» Само понятие не имеет отношения к архитектуре среднеазиатского города Не в прямом, искусствоведческом, а в контекстуально-авторском наполнении термин и понятие «барокко», его метафорическая сущность выражают дух уходящего города Афлатуни
О городе как «уходящей натуре» пишет и Ч Айтматов, но иначе Если в прозе Афлатуни, Волоса, Рубиной наблюдается интенция художественного воссоздания города, что сродни желанию коллекционера-энтомолога поймать сачком бабочку или муху (Афлатуни), «сфотографировать», оставить в «семейном альбоме» культуры слепок былой цивилизации, то мотив города в романе Айтматова «Когда падают горы» окрашен публицистическим пафосом от лица негодующего, обвиняющего и оплакивающего город повествователя
И Афлатуни, и Волос, и Рубина, создав Город советского «окоема» как срез ушедшей империи, не только ностальгируют, но и изображают неприглядные, комические аспекты в его жизни Айтматоь-ский повествователь идеализирует жизнь уходящего/ушедшего Города, который представлен в двух ракурсах прошлом и настоящем Прошлое идеализировано, настоящее изображено в виде разрушения всей национальной аксиологии, национальной космогонии Это этап, возводимый автором к эсхатологии «когда падают горы», когда попраны сакральные ценности, даже <Вечная невеста» — симиол чистой любви —- оставляет любимого, садясь в лимузин нувориша Идеализация прошлого окрашена фольклорно-мифологическим контекстом эпосом, причитанием, ритуальной практикой, присказкой, заклинанием «На месте ли мир?», что случилось с людьми, позабыли ли они Бога Бог ли позабыл о людях — эти экзистенциальные вопросы мотивируют отказ главного героя Арсека Саманчина от такого Города, проклятие Городу Саманчик принимает решение — род жертвоприношения — убить себя, становясь в метатексте культурным героем Две сюжетные линии романа, ритмично выстроенные как параллельные, одна — о Городе с героем-журналистом Саманчиным, другая — о вольном мире гор со стареющим снежным барсом, смыкаются в финале два убитых тела, Саманчина и барса, лежат в пещере, почти обнявшись Трагический финал — выражение авторской
позиции Резюме «город умер — город жив» не свойственно айтма-товскому тексту, оно скорее прочитывается у Д. Рубиной, С Афла-туни У Ч Айтматова, как и у Т Пулатова, «уходящий»/«ушедший» Город — это приговор культуре прошлого, это плач по былым традициям
Тема города в романе А Волоса «Хуррамабад» (условный среднеазиатский город) заявлена в заглавии, в котором прочитываются события времен распада империи (90-е гг XX в.) и им предшествующие Город представлен в виде многонационального конгломерата — плод советских миграционных процессов Дружеское сосуществование русских и таджиков превращается в тлеющую, а затем и в открытую неприязнь Сначала зло персонифицируется в нетаджиках, затем конфликт сужается до кланового (разрастается тема ксенофобии) Выстраивая действие романа по нарастающей (или географически сужая его) — от имперских конфликтов до внутриэтнических, автор тем самым приходит к трагическому выводу, что ксенофобия — одна из «экзистенциологем» человечества, сводимая к простой оппозиции «свой — чужой» Есть ли «рецепт» мирного взаимососуществования «своих—чужих»? А Волос предлагает древнюю восточную мудрость «Насири Хусрав говорит — убей дракона1» Писатель позиционирует грех ксенофобии как испытание, ниспосланное свыше всем- русским, таджикам и прочим — и оформляет его в виде восточной притчи Мораль притчи такова, что можно рассуждать о ксенофобии как о пороке, грехе, но пройти через это испытание непросто Герои Волоса остаются в промежуточном состоянии на рубеже между своими и чужими Вряд ли на их век выпадет обретение гармонии в непростом уравнении «Свой среди чужих — чужой среди своих» Ясно одно, что все волосовсхие герои живут с любовью к своей земле, с памятью о ней, они даже, уже находясь в России, «чертыхаются» по-тамошнему, по-хуррамабадски «Ну что за сволочи, а' Вот же мать твою падарланаш'» (курсив наш —Э Ш)
«Ташкентский роман» (в значении союза, соития) случился и в прозе А Волоса. Алгоритм изображения Города у Волоса тот же, что у Рубиной и Афлатуни. пусть тот Город не безгрешен, парадоксален и порой жесток, но это твой город Текст его, к?к палимпсест, стремится прочитать и сохранить писатель В этом ракурсе видится образ запонок в романе Волоса, исполненных в виде листьев дерева ценность их заключалась не в дорогом материале и работе, а в том, что они впитали в себя запахи и звуки времен Предназначенные для переплавки, запонки, по счастливому стечению обстоятельств, избежали своей участи Дальше их след в сюжете теряется Но то символи
ческое значение, которое им придается конгломерат истории и тепло людей, к ним прикасавшихся, — сродни «ташкентскому роману», любви к Городу — с людьми, предками, со всей его культурно-ландшафтной особенностью, которые на глазах уходят из русского культурного пространства
Таким образом, творчество русских писателей рубежа XX— XXI вв — референтов иноэтнокультуры объединяет специфическое изображение города как образа былой культуры Этот факт не в последнюю очередь мотивирован крахом империи и «исходом» народов из былых советских республик Литературные тексты Города этого уникального временного промежутка—синтез мифологии, фольклора, представленный в главе как genius loci и mentalis loci
В заключении диссертации подводятся итоги исследования, определяются его историко-литературные и теоретические перспективы
Русскую литературу последней трети XX в и рубежа XX — XXI вв характеризует появление этнически окрашенного феномена— литературы, в которой присутствует иноэтнокультурный текст, связанный с предпостсоветскими и постсоветскими процессами Наиболее ярко эта литература представлена творчеством Д Рубиной, Т Пулатова, С Афлатуни, Ч Айтматова, А Волоса и ряда других писателей, чья проза проанализирована в диссертации в аспекте ми-фопоэтики Иноэтнокультурный текст выражен национальными образами мира — еврейского, среднеазиатского (узбекского и таджикского), которые репрезентированы обращением писателей к национальным фольклорно-мифологическим корням Проанализирован также симбиоз советской мифологии (официальные идеологемы, дискурс повседневности) и национальных картин мира, присутствующий в поэтике названных писателей
Исследование иноэтнокультурного текста позволило воспроизвести национальную аксиологию иных, нерусских, народов (в нашем случае — еврейского, узбекского и др ), транслируемую через фольклор и мифологию повседневности
В диссертации отражен результат фольклористического опроса информантов (настоящих и бывших жителей Ташкента), послуживший репрезентации картины современного фольклора, который органически входит в Ташкентский текст русской культуры (как фольк-лорно-мифологически-культурологически-литературный феномен) Это позволило прокомментировать Ташкентский текст прозы Руби-ной
В диссертации яри исследовании иноэтнокультурного текста выявлены религиозные парадигмы (иудаизма, ислама), их фольклорно-
мифологические составляющие, сделан акцент на литературной антропонимике в творчестве исследуемых авторов, сопряженной с мифологическим мышлением
Интенция исследования направлена против распространенного стереотипа, что русская литература — только о русских и создается только русскими писателями В пространстве русской литературы есть место творчеству писателей, воссоздающих иноэтнокультурный текст и не являющихся по происхождению русскими
Алгоритм исследования «инакости» иноэтнокультурного текста (по отношению к русскому) состоит в том, что сам исследователь стоит на позиции другой культуры, других традиций (в отношении к исследуемому материалу), что имманентно присутствует в органике данной работы
Примененные структурно-типологический, семиотический, сравнительно-исторический, фольклористический методы анализа и интерпретации литературных текстов позволяют заключить, что иноэтнокультурный текст в русской прозе отличают повышенная семи-отичность(К) М Лотман), мифолог изм, фольклоризм
Данное исследование показало, что русские писатели — референты иноэтнокультуры обращаются к мифологическому пратексту осознанно, педалируют этот аспект своей поэтики, т к пратекст и мета-текст — сгусток аксиологической, культурной, исторической составляющих картины мира народа, принадлежность к которому таким образом позиционируют писатели
Исследованное творчество писателей вписывается в популярное на рубеже веков направление в литературоведении и культурологии— мультикультурали?м Но не в том аспекте, который предполагает «плавильный котел» народов, культур, литератур, а в смысле постоянного диалога этнических традиций
Исследование иноэтнотекста представляется диссертанту необходимым в свете проблем, актуализировавшихся в современном обществе Тема нелюбви к иностранному, чужеземному не нова как в литературе, фольклоре, архаическом и современном, так и в повседневности В общечеловеческой «глобальной деревне» XXI в моноэтническое пространство просто невозможно, тем более в России, где проживает много разных народов Изучение, популяризация литературы с иными ценностями, с иными жизненными парадигмами, тем более, литературы на русском языке — дело благое и необходимое Этот посыл и стал главным в исследовании творчества Д Рубинсй,Т Пу-латова, С Афлатуни, Ч Айтматова, А Волоса В проанализирован-
ных троизведениях этих писателей и контексте, как литературном, так и фольклорио-мифологическом, выявлен богатый пласт культуры, знакомство с которым если и «не перевернет» наш русский мир, то обогатит наверняка
Приложение служит дополнением к третьей главе, состоит из разделов «Лексика Ташкентского текста», «Персоналии Ташкентского текста», «Локусы Ташкента и его предместий» Также в приложение вынесена ичформация о теориях мифа и современных его концепциях, использованная нами при анализе мифологической составляющей иноэтнокультурного текста
Основное содержание диссертации и ее результаты отражены в следующих публикациях (общий объем 68 п л )
Публикации в научных изданиях, рекомендованных ВАК
1 Шафранская, Э Ф Изучение поэмы Вен Ерофеева «Москва-Петушки» в 11-м классе / Э Ф Шафранская II Рус словесность — 2000 — №6 — С 19—23(0,4п л)
2 Шафранская, Э Ф Изучение романа В Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» в 11-м классе / Э Ф Шафранская II Рус словесность — 2001. — № 3 — С .5—19 (0,45 п л).
3 Шафранская, Э Ф «Маленький человек» в контексте русской литературы XIX — начала XX в (Гоголь — Достоевский — Сологуб)/ЭФ Шафранская//Рус словесность —2001 —№7 —С 23— 27 (0,4 п л )
4 Шафранская, Э Ф Роман Т Толстой «Кысь» главами учителя и ученика Мифологическая концепция романа /ЭФ Шафранская // Рус словесность — 2002 — № I — С 36—39 (0,33 п л )
5 Шафранская, Э Ф Дина Рубина продолжение чехоЕских традиций/Э Ф Шафранская//Рус словесность —2003 —№7 — С 70—72 (0,25 и л)
6 Шафранская, Э Ф Мифологизм современной литературы (В Сорокин и литературная традиция к прочтению одного мотива) / Э Ф Шафранская // Рус словесность — 2004 — № 6 — С 35—39 (0,4 п л )
7 Шафранская, Э Ф К изучению фольклора на уроках словесности /ЭФ Шафранская // Рус словесность — 2006 — № 5 — С 16—20 (0,4п л)
8 Шафранская, Э Ф Роман о «Переводчике» /ЭФ Шафранская // Рус словесность —2007 — №5 — С 43—46(0,31 п л)
9 Шафранская, Э Ф Русская литература о нерусской жизни и нерусских героях / Э. Ф Шафранская // Рус. словесность — 2007 — № 7. — С 41—45 (0,42 п л)
Монографии и учебные пособия
10 Шафранская, Э Ф Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова Национальные образы мира /ЭФ Шафранская — M Едиториал УРСС, 2005 — 160 с (10 п л)
11. Шафранская, Э. Ф. Мифопоэтика «иноэтнокультурного текста» в русской прозе Дины Рубиной / Э Ф Шафранская —M Изд-во ЛКИ, 2007 —240 с (15 п л)
12 Шафранская, Э Ф Устное народное творчество учеб пособие для студ пед вузов /ЭФ Шафранская — M Изд дом «Академия», 2008 — 352 с (22 п л )
Статьи и тезисы
13 Шафранская, Э Ф Тема «мертвого дома» в творчестве Сергея Довлатова традиции и новаторство /ЭФ Шафранская // Актуальные проблемы литературы комментарий к XX веку материалы Меж-дунар конф Светлогорск, 25—28 сент 2000 г — Калининград Калинин гос ун-т, 2001. — С 126—135 (0,65 п л).
14 Шафранская, Э Ф Город как художественная константа авторского мировидения очерковых произведений Виктора Некрасова / Э Ф Шафранская // Учен зап Моек гуманит пед ин-та — M МГПИ, 2003 — Т 1 — С 240—246 (0,45 п л)
15 Шафранская, Э Ф Семиотико-культурологический концепт еды в восточном дискурсе (кораническая этика в прозе Тимура Пулатова) /ЭФ Шафранская // Русская литература XX — XXI вв проблемы теории и методологии изучения материалы Междунар науч конф Москва, 10—11 нояб 2004 г — M Изд-во МГУ, 2004 — С 148—152 (0,3 п л)
16 Шафранская, Э Ф Национальные образы мира концепт дома в восточной литературе (на материале творчества Тимура Пулатова) / Э Ф Шафранская // Учен зап Моек гуманит пед ин-та — M МГПИ, 2004 — Т 2 — С 245—260 (0,95 п л)
17 Шафранская, Э Ф Национальные образы мира в русском литературном творчестве Востока на материале повести Т Пулатова
«О/ликни меня в лесу» (мифологизм в литературе советского периода) /ЭФ Шафранская II Русская литература XX века Типологические аспекты изучения сб науч ст, г.освящ 90-летию проф С И Ше-шукова / отв ред Л А Трубина — M , 2004 — Вып 9 — С 565— 569 (0,25 п л )
18 Шафранская, Э Ф Мифологические истоки образа героя в прозе Т Пулатова (на материале повести «Завсегдатай») / Э Ф Шафранская // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании сб науч докл —M МГПИ,2004 — Вып 3 —С 216—219 (0,2 п л)
19 Шафранская, Э Ф Душан в романе Тимура Пулатова «Страсти бухарского дома»(кпроблемедервишества)/Э Ф Шафранская//Учен зап Северодвин фил Помор гос ун-та им M В Ломоносова Сер Res philologica «Филология в начале XXI века» — Архангельск Помор гос ун-т, 2004 —Вып 4 —С 286—291 (0,5 п л)
20 Шафранская, Э Ф «Тайный» Мессия (по рассказу Т Пулатова «Окликни меня в лесу») /ЭФ Шафранская // Мировая словесность для детей и о детях — M МПГУ, УНФЦ, 2004 — Ч II — С 372—377 (0,3 п л )
21 Шафранская, Э Ф Тема смерти и ее осмеяние в фольклорной драме (генезис темы рациональное и г моциональное начало)/Э Ф Шафранская // Рациональное и эмоциональное в литературе и фольклоре сб науч ст — Волгоград Перемена, 2004 — Вып 2 — С. 23—27 (0,25 п л )
22 Шафранская, Э Ф Архетипическая семантика детали в рассказе Л H Толстого «После бала» /ЭФ Шафранская // Л H Толстой и Ф И Тютчев в русском литературном процессе- кол монография — M Прометей, 2004 — С 46—52 (0,35 п л )
23 Шафранская, Э Ф Мифопоэтика образа праведника (по рассказу H С Лескова «Несмертельный Голован») /ЭФ Шафранская // II Пасхальные чтения «Гуманитарные науки и русская православная культура»- сб материалов Второй науч -метод конф Москва, 15— 16 апр 2004 г — M МПГУ, УНФЦ, 2004 — С 226—233 (0,4 п л)
24 Шафранская, Э Ф Сказки о дураках в еврейской литературе для детей (на материале сказок Овсея Дриза, Исаака Башевиса Зингера)/Э Ф Шафранская//Мировая словесность для детей и о детях — M МПГУ, УНФЦ, 2005 — Ч. I. — С 251—255 (0,2 п л)
25 Шафранская, Э Ф Семиотика топонима в романе Дины Ру-биной как проекция национальной картины мира /ЭФ Шафранская // Филологические традиции в современном литературном и линг-
вистическом образовании сб науч докл — М. МГПИ, 2005 — Вып 4 — С 216—219 (0,2 п л)
26. Шафранская, Э Ф Пространство базара (на материале повести Т Пулатова «Завсегдатай») / Э Ф Шафранская // Восток—Запад пространство русской литературы- материалы Междунар науч конф. (заоч ) Волгоград, 25 нояб 2004 г — Волгоград Волгогр науч изд-во, 2005 —С 269—277 (0,5 п л )
27 Шафранская, Э Ф Национальные образы мира Мессия и мессианство (на материале прозы Дины Рубиной) / ЭФ. Шафранская // Учен зап Моек гуманит пед ин-та — M МГПИ, 2005 —Т. 3 — С 475—490 (1 п л )
28. Шафранская, Э Ф Мотивы Мессии и «кровавого навета» в еврейской словесности тез докл /ЭФ Шафранская // Язык и культура III Междунар науч конф Москва, 17—21 сент. 2005 г —M РАН,Ин-тиностр яз,2005 —С 265—266(0,13п л)
29 Шафранская, Э Ф Коранический хронотоп в романе Тимура Пулатова «Плавающая Евразия» / Э Ф Шафранская // Грехневские чтения сб науч тр — H Новгород Нижегор гос ун-т, 2005 — С 184—188 (0,25 п л)
30 Шафранская, Э. Ф Остранение в творчестве Д. Хармса / Э Ф Шафранская // Рус яз и лит для школьников — 2005 — № 5 — С 41—45 (0,43 п л)
31 Шафранская, Э Ф Концепт Дома в прозе Дины Рубиной / Э Ф. Шафранская//Российская эмиграция прошлое и современность.— 2006 — № 1 —С 43—55(0,8 п л).
32 Шафранская, Э Ф «Лозунговый универсум» в прозе Дины Рубиной /ЭФ Шафранская И Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании сб науч докл — M МГПИ, 2006 — Т 1, вып 5 — С 165—169 (0,2 п. л)
33 Шафранская, Э Ф Читаем прозу Э.-Э Шмитта / ЭФ. Шафранская//Рус яз и лит для школьников —2006 —№6 —С 36—40 (0,33 п л )
34 Шафранская, Э Ф Тема детства в прозе Э -Э Шмитта / Э. Ф Шафранская // Мировая словесность для детей и о детях — M МИГУ, УНФЦ, 2006 —С 248—251 (0,25 п л)
35 Шафранская, Э Ф Пространство современного фольклора / Э Ф Шафранская /7 Восток — Запад пространство русской литературы и фольклора материалы Второй Междунар науч конф (заоч ), посвящ 80-летию Д Н. Медриша Волгоград, 16апр 2006 г --Волгоград Волгогр науч изд-во, 2006 —С 190—199 (0,53 п л)
36 Шафранская, Э Ф Проблемы современной фольклористики / Э Ф Шафранская II Учен зап Моек гуманит пед ин-та — М МГПИ, 2006 — Т 4 — С 443—456 (0,8 п л)
37 Шафранская, Э Ф Поликультурная семантика заглавия романа Д Рубиной «Вот идет Мессия'»/Э Ф Шафранская//Феномен заглавия —М Рос гос гуманит ун-т, 2006 (0,4 п л)
38 Шафранская, Э Ф «Россия для русских»' — уроки литературы / Э Ф Шафранская II Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании сб науч докл —М МГПИ, 2007 — Вып 6 — Т 1 —С 44—49 (0,35 п л)
39 Шафранская, Э Ф Читаем рассказы о мюклах, Петсоне и Финдусе /ЭФ Шафранская // Рус яз и лит для школьников — 2007,—№2 — С 49—51 (0,33 п л)
40 Шафранская, Э Ф Памятники в современной литературе и фольклоре /ЭФ Шафранская II Наследие Д С Лихачева в культуре и образовании России сб материалов науч.-практ конф Москва, 22нояб 2006г вЗт —М МГПИ,2007 —Т 1 —С 81—89(0,46п л)
41 Шафранская, Э Ф Ксенофобский дискурс повседневности тез докл /ЭФ Шафранская // VII Конгресс этнографов и антропологов России докл и выступ Саранск, 9—14 июля 2007 г —Саранск, 2007 — С 369 (0,05 п л )
42 Шафранская, Э Ф Евреи как персонаж мифологии повседневности (в прозе Дины Рубиной) тез докл /ЭФ Шафранская // Язык, культура, общество IV Междунар науч конф Москва, 27— 30 сент 2007 г — М РАН, Ин-т иностр яз , 2007 — С 371—372 (0,1 п л)
43 Шафранская, Э Ф Герой-художник тема креативной лично-стп в прозе Рубинои/Э Ф Шафранская//Учен зап Моек гуманит пед ин-та — М МГПИ, 2007 —Т. 5 — С 553—564 (0,6 п л.)
44 Шафранская, Э Ф «Ташкентский роман» в современной русской словесности («Хуррамабад» Андрея Волоса) /ЭФ Шафранская // Русская словесность в поисках национальной идеи материалы Междунар симпозиума Волгоград, 6—9 июля 2007 г / сост и общ ред А Н Доленко —Волгоград Изд-воФГОУВПО«ВАГС»,2007 — С 86—90 (0,46 п л )
45 Шафранская, Э Ф Ташкент Мелетинского /ЭФ Шафранская II Антропологический форум — 2007 — № 7 — С 441—454 (0,94 п л)
ШАФРАНСКАЯ Элеонора Федоровна
МИФОПОЭТИКА ИНОЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТЕКСТА В РУССКОЙ ПРОЗЕ XX — XXI вв
Автореферат
Подписано к печати 08 0 2 2008 г Формат 60x84/16 Печать офс Бум Гарнитура Times Уел печ л 2,3 Уч-изд л 2,5 Тираж 120экз Заказ
ВГПУ Издательство «Перемена» Типография издательства «Перемена» 400131, Волгоград пр им Б И Ленина, 27
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Шафранская, Элеонора Федоровна
ВВЕДЕНИЕ 4
1.Феномен русской литературы писателей - референтов 4-17 инокультуры
2. Фольклоризм и мифологизм как категории мифопоэтики 17-38 иноэтнокультурного текста русской прозы
3. Характеристические данные исследования 38
4. Структура исследования 42
ГЛАВА 1. ИНОЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ ПРОЗЫ ДИНЫ
РУБИНОЙ 46
1.1. ПРОСТРАНСТВО ПРОЗЫ ДИНЫ РУБИНОЙ 49
1.1.1. Концепт Дома 49
1.1.2. Дом: мотив изгнания и восхождения 65
1.1.2.1. Мотив восхождения: роман «Синдикат» 66
1.1.2.2. Европейский текст 85
1.1.2.3. Израильский текст: тема терроризма 94
1.2. ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПРОЗЫ ДИНЫ РУБИНОЙ 102
1.2.1. Мотив Мессии и мессианства 102
1.2.2. «Антисемитский» текст 120
1.2.3. Еврей: образ мифологии и фольклора повседневности 135
1.2.4. Советская мифология 143
1.2.5. Герой прозы Рубиной 154
1.2.5.1. Герой-трикстер 155
1.2.5.2. Иудейская богиня 167
1.2.5.3. «Инцестуальный» Альфонсо 170
1.2.5.4. Герой-художник: тема креативной личности 174
ГЛАВА 2. ИНОЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ ПРОЗЫ
ТИМУРА ПУЛАТОВА 185
2.1. ГЕРОЙ ПРОЗЫ ТИМУРА ПУЛАТОВА: СУФИЙСКАЯ ПАРАДИГМА 195
2.2. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И ФОЛЬКЛОРНАЯ МОТИВИКА ПРОЗЫ ПУЛАТОВА 229
2.2.1. Мотив дома (символика дома, двора, ворот, камня) 229
2.2.2. Мотив дерева 248
2.2.3. Мотив базара 257
2.2.4. Мотив денег 271
2.2.5. Мотив еды 277
2.3. КОРАНИЧЕСКАЯ И СУФИЙСКАЯ ЭСТЕТИКА В ПОЭТИКЕ
ПРОЗЫ Т. ПУЛАТОВА 288
2.3.1. Элементы поэтики хадисов 288
2.3.2. Коранический хронотоп 302
2.3.3. Метаморфизм 310
ГЛАВА 3. МОТИВ ГОРОДА В ИНОЭТНОТЕКСТЕ (Д. РУБИНА, Т. ПУЛАТОВ, СУХБАТ АФЛАТУНИ, Ч. АЙТМАТОВ, А. ВОЛОС)
3. 1. ТАШКЕНТСКИЙ ТЕКСТ В ПРОЗЕ ДИНЫ РУБИНОЙ
3.1.1. Био- и семиосфера Ташкентского текста
3.1.2. Лексико-семиотическая составляющая Ташкентского текста
3.1.3. Категория времени в Ташкентском тексте
3.2. МОТИВ ГОРОДА В ПРОЗЕ Т. ПУЛАТОВА
3.3. МОТИВ ГОРОДА В ПРОЗЕ С. АФЛАТУНИ,
4. АЙТМАТОВА, А. ВОЛОСА
3.3.1. Притчевость мотива города
3.3.2. «Ташкентский роман» как культурологическая парадигма в прозе Сухбата Афлатуни, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса
326-360 333-342 342
349-360 360
371-396 371
Введение диссертации2008 год, автореферат по филологии, Шафранская, Элеонора Федоровна
1. Феномен русской прозы писателен — референтов нноэтнокультуры
Дискутируемая тема в современном отечественном литературоведении -идентификация писателя по совокупным признакам: география-творчество-язык-пятая графа: где пишет? кто по национальности? о чем пишет? где проживает? Проблемной представляется «маркировка» того или иного писателя: например, «русскоязычный» азербайджанский (абхазский, узбекский, израильский и др.) писатель, или писатель русского зарубежья, или представитель русской эмигрантской литературы и пр. Каждый отдельный случай, частная писательская судьба вызывает трудности с такой «маркировкой»: например, бывший советский писатель В. Войнович, выдворенный Брежневым из СССР, обосновавшийся в Германии, писавший в эмиграции, сегодня живет «на два дома», будучи активным участником современного российского литературного процесса, такова судьба и
В. Аксенова, и ряда других писателей - кто они, по какому «ведомству» проходят? Писатель, проживавший до перестройки в Узбекистане, писавший по-русски, по происхождению узбек/таджик, ныне россиянин — в какую нишу зачислить его? Русский писатель, проживающий в Швейцарии, пишущий и по-русски и по-немецки (М. Шишкин)? Родившийся в одной из республик СССР и ставший русским писателем после развала империи, проживая там же (но теперь это другая страна) - куда отнести такого писателя (Сухбат Афлатуни)? И т. д. и т. д. Четвертая волна эмиграции, отличная от предыдущих, как правило, добровольным выбором, на наш взгляд, - трамплин к тому этапу в литературе, когда не география, не страна проживания становятся определяющими в государственном статусе писателя, а только язык: «Как для английской, французской, испанской, немецкой литературы — нет границ ни государственных, ни топографических, так и современная русская литература -не менее имперская по генезису, характеру и масштабу распространенности -может выйти из искусственной формы, в которой она оказалась по внеположным политическим причинам <.> и попытаться двинуться - по планете всей» [273: 160].
Русский язык не только по статусу причисляем теперь к одному из шести мировых языков, а по очевидному факту, во всяком случае, в пространстве литературном. Писатель, где бы он ни проживал, но пишущий по-русски, — русский писатель. И дело не в том, описывает ли он русскую действительность или заморскую, рассматривает описываемое явление изнутри или со стороны, I названы его персонажи русскими именами или узбекскими/еврейскими и пр. — это уже индивидуальные особенности поэтики, стиля, художественного мира писателя. Каждый конкретный писатель видит жизнь по-своему, неважно, где прошло его детство: в кишлаке или деревне, в Москве или Ташкенте, знает он один, русский, или два-три языка - это индивидуальные частности его судьбы — тем и интереснее разность литературного пространства.
И этот процесс не должен вызывать ни ностальгии, ни разочарования — меняется мир, сжимаясь до размеров «глобальной деревни». Напротив, русский язык, таким образом, увеличивает читательскую аудиторию1, а литература, вышедшая из-под пера столь разных писателей, многообразна уже по факту своего рождения в разных топосах мира.
Представленные в диссертации писатели - выбор, с одной стороны, произвольный, с другой, видимо, неслучайный: данное исследование посвящено творчеству писателей разных поколений. Тимур Пулатов писательскую популярность приобрел в 70-80 гг., Дина Рубина - в 80-90 гг., Андрей Волос, Сухбат Афлатуни - на рубеже веков. Разные человеческие «параметры»: «пятая графа», знание языков, место проживания. Непреднамеренно, а эвристически для автора диссертации - все названнные писатели сформировались в российском «окоёме» — «плавильном котле» советской империи. Не последним фактором, повлиявшим на особенность творчества, возможно, стал именно этот пункт для названных писателей.
1 «Всероссийская перепись населения 2002 г. выявила, что 98 % граждан России свободно владеют русским языком, а в ряде случаев даже лучше, чем языком своей национальности.» [131: 31].
Варясь» в многоэтническом мире южных городов, эти писатели, несмотря на разность этносемейного пространства, где складывалась ментальная «парадигма», не могли не сформироваться такими, какими они стали - другими, в отличие от писателей, сформировавшихся в моносреде: поликультурная и полирелигиозная среда, ее многоязычие не могли не воздействовать на мировоззрение этих авторов1.
С детства варясь в нашем Вавилоне этносов, наций и народностей, мы знали, что человек может быть другим, более того: что он всегда другой, но надо, надо сосуществовать, раз некуда друг от друга деться, что важнее всего - сосуществовать, что жизнь на этом стоит! И вот это самое умение поиимать другого, как выяснилось в экстремальных условиях самых разных эмиграции, и есть - одно из лучших качеств. человеческой натуры. То, что на Западе называют безликим словом "толерантность". Да не толерантность это, а — вынужденное милосердие, просто-напросто смирение своего "я", — когда понимаешь, что ты не лучше другого, а он - не выше тебя.» [52: 366], — так формулирует особость, в том числе и писательской, личности, сложившейся в билингвальной, бикультурной среде, Дина Рубина. Все зависит от того, какой договор каждый из нас заключает — и с самим собою, и с обществом» [273: 249], — говорит С. Чупришш, имея в виду отнесение писателя, пишущего по-русски, к той или иной литературе по этнической характеристике. С одной стороны, русскоязычие этих писателей -«космогоническая» вынужденность (а на каком языке им писать, если именно он их личностная составляющая), с другой — этим писателям важно создать «месседж» о другом народе, культуре, мире и поведать об этом читателю, говорящему и читающему по-русски. И этот пласт творчества выбранных писателей мы назвали гшоэтиокулыпуриым текстом2. Исследовать поэтику
1 Выбор писателей, вышедших (в отдельных слу чаях, возможно, «вытолкнутых») из среднеазиатского региона неслучаен, т. к. именно для этого региона (а также для бывших кавказских республик) характерен «исход» русскоязычных (в прямом или фигуральном смысле); русскоязычное население из бывших славянских, прибалтийских республик не покидает в массовом порядке места своего коренного проживания, как это случилось со среднеазиатскими и кавказскими республиками.
2 Согласно концепции Ю.М. Лотмана, «культура есть совокупность текстов или сложно построенный текст. Приложение к изучаемому материалу структурного кода культуры, свойственного описывающему (изучение. такого текста, созданного на русском языке, его типологию1 у столь разных авторов — одна из задач диссертации.
На рубеже XX - XXI вв. опубликованы «Русский роман» на иврите Меира Шалева [64], на русском языке «Ташкентский роман» Сухбат Афлатуни [5], национальный израильский роман «Вот идет Мессия!» Дины Рубином [48]. Подобные «гибриды», на первый взгляд, порождение процесса глобализации. По это не унификация, не стирание национальных различий в литературе, а напротив, феномен, привлекающий к себе внимание, некая творческая игра [249: 31].
Национальная тема никогда не теряла своей актуальности ни в социуме, ни в искусстве и литературе. Советский период окрашивал эту тему официозным пафосом: номинация «Национальное своеобразие литератур» была своего рода декларацией национальной политики СССР. В литературах советских республик «героем» должен был быть представитель титульного этноса. Этот типично советский «жест» воспроизводит Дина Рубина в повести «Камера наезжает!.»: когда персонажи пишут сценарий на сюжет героини, звучит наставление: «Надо только верно расставить национальные акценты» [53: 240], и героиня не удивлена, т. к. привыкла к тому, что из ее текстов цензура вычеркивает еврейские имена, заменяя их на русские, а фамилию герою - на узбекскую.
Реальный факт литературной «кухни» недавнего прошлого таков, что если, к примеру, писатель был по происхождению узбеком, то и писать ему «рекомендовалось» по-узбекски, создавая национальную - узбекскую — литературу: во всем должен был быть «порядок». Чиновники от литературных культуры одного социального или национального типа с позиции другого), может приводить к перемещению не-текстов в разряд текстов и обратно в соответствии с их распределением в системе, используемой для описания» [182: 28]. «Чтобы восприниматься как текст, сообщение должно быть. подлежащим дальнейшему переводу или истолкованию» [Там же: 30]; «.текст есть одновременно манифестация нескольких языков» [Там же: 82].
1 «Необходимость типологического подхода к материалу становится особенно очевидной при постановке таких исследовательских задач, как сравнительное изучение литератур. Однако. потребность в типологических моделях возникает. когда исследователь встает перед необходимостью объяснить современному читателю сущность хронологически или этнически отдаленной литературы, представив ее не в виде экзотических нелепостей, а как органическую, внутренне стройную, художественную и идейную структуру» [182: 93] (курсив наш. - 3 111.). ведомств к таким писателям относились жестко или старались их не замечать. Такова писательская судьба Тимура Пулатова: узбекская власть не благоволила писателю: пишет и говорит по-русски, никак не «втискивается» в прокрустово ложе соцреалистических установок; официально «признать» писателя пришлось только после опубликования его произведений в Москве, после чего Тимур Пулатов получил официальное звание-награду — «Народный писатель Узбекистана». (Ныне же, когда нет более диктата «москвы», имя Пулатова в Узбекистане - под негласным запретом.)
Эти «национальные» перипетии носили закулисный характер, публично страна проповедовала интернационализм, дружбу народов.
Эпоха рубежа веков, если не поменяла вектор на противоположный, то внесла ряд дополнительных оттенков: при внешней индифферентности официоза активизировалось обыденное сознание. Оно формирует негативное отношение ко всему, сопряженному с иной культурой. А если эта культура принимает конкретные очертания, связанные с истоками инакости, например иудаизма или ислама, то воспринимается враждебно. А это лишь другая культура, знакомство с которой непременно обогатит духовный мир любого человека.
То, что прежде было изнанкой морали (или феноменом «карнавального» советского сознания1), на рубеже XX - XXI вв. «легализовалось»: прежде тлеющие национальные пристрастия или нетерпимость вышли на поверхность. Например, В. Распутин в повести «Дочь Ивана, мать Ивана» [46] совершенно четко формулирует свое видение истоков современного зла, расставляя акценты по национальному признаку, - это инородцы, чужие (что было невозможно в литературе советского периода).
По тому же «алгоритму» в советский период не публиковалась переводная зарубежная литература, в которой правдиво изображены расистские явления российской действительности, проще было их замалчивать: например, роман
1 См. рассуждения по этому поводу в статье В.Ф. Кормера «О карнавализации как генезисе "двойного сознания"» [166].
1, I
Б. Маламуда «Мастер», проза И.Б. Зингера и др., а также произведения «своих» авторов, например, проза Ф. Горенштейна, в частности роман «Псалом».
Рассуждения о том, что в эпоху отечественной гласности, когда нет запретов в области «национальных тем», и в век глобализации, когда коммуникативные процессы происходят поверх этно-государственных границ, литература превратилась в наднациональное явление, преждевременны. «В наши дни вопрос о национальной специфике литературы. может вызвать лишь улыбку. .мировой литературный поток ныне абсолютно однороден, и его маяки и ориентиры. имеют лишь качественные, а не национальные отличия» [82: 202]. На что Л.Аннинский возражает: «.улыбки будут взаимными, потому что всякое усиление интегральных тенденций в культуре сопровождается усилением локального им сопротивления под любыми флагами. Взаимоупор противоположных факторов неизбежен.» [Там же].
И по-прежнему «национальность» литературы - «козырная карта» в руках/устах идеологов самых противоположных убеждений: так, радетель за тождество литературы и географии негодует по поводу русской эмигрантской литературы, «этой литературы сегодняшней разговорчивой эмиграции», «которую мы равноправно, а то и не без подобострастия вводим в обиход здешнего литературного процесса» (В. Курбатов) [Там же: 209].
Тема разговора о «национальном своеобразии» литератур, как видно из приведенных сомнений/утверждений/филиппик, «животрепещет» не меньше, чем в эпоху «дружбы народов». Как бы к этой эпохе ни относиться, безусловно одно, что она породила феномен «русскоязычной» литературы, и это факт, который нет необходимости маркировать как достоинство или унификацию (со знаком «минус»). Можно предположить, что такого феномена больше пс будет. Рассмотреть поэтику, аксиологию такой уникальной литературы представляется необходимым, т. к. она - выразительное явление литературного процесса последней трети XX и рубежа веков, без творчества этих писателей картина современного мирового и отечественного литературного процесса будет неполной. «Все великие культуры созданы если не на почве империй, то в рамках империй» [Там же: 203]. Входит ли в означенный «великий» пласт иноэтнокультурный текст русской литературы - покажет время, но сам феномен подобной литературы - продукт империи, безусловно.
На рубеже веков уже не говорят о «русскоязычном» творчестве, хотя многие писатели продолжают писать на русском языке, прямо или опосредованно воссоздавая действительность на «метаязыке» своих национальных образов мира. Это «другая» русская литература.
Этническая идентичность, по мнению этнолога/культуролога В.А. Шнирельмана, - символическая категория: не связана с языковой принадлежностью, как диктует стереотип: она может опираться на религию, хозяйственную систему, расу, историческую традицию, люди могут менять свою этническую принадлежность, как это происходило в XIX в. на Балканах — болгарин «превращался» в грека, при этом язык не служил препятствием [276]. По словам М. Бубера, человеку позволительно ощущать народ не только вокруг себя, но и в себе самом [100: 33].
Писатели Д. Рубина, Т. Пулатов, Сухбат Афлатуни, Ч. Айтматов принадлежат по происхождению, домашнему воспитанию не только к русской культуре, но и к иной, нерусской. Находясь в поле фольклорных и мифологических семейных преданий, воспоминаний, обычаев, кухни, аксиологии, религиозных мифологем, персоналии этого феномена — русской иноэтнической литературы — по-русски создают «иноэтнотекст», выступая комментаторами, толкователями, посредниками между двумя ментальностями: «своей» и «иной», выступая референтами нерусской этнической культуры.
По-разному складывается творческая судьба таких писателей: одни, будучи билингвами, выбирают русский языком творчества; другие, принадлежа к пространству русского языка с рождения («монолингвы»), «сливаются» впоследствии с этническими (нерусскими) корнями, воссоздавая аксиологическую и когнитивную картину мира своего народа; третьи, будучи русскими по происхождению, сформировались как писатели в иноязычной среде (в пространстве инонациональных окраин бывшего советского пространства) и способны быть «переводчиками» между разными ментальностями, разными этническими ценностями, т. к. прожили большую часть жизни в иной языковой среде.
Можно воспользоваться символической метафорой, автором которой является JI. Улицкая, для «маркировки» подобных писателей иноэтнокультуры - Переводники. Герой романа JI. Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик», будучи в военное время переводчиком, достиг в своей послевоенной деятельности — католического проповедника — сакральных высот - он стал Переводчиком. Так Улицкая метафоризировала миссию своего героя — посредника. Выполняя профессиональной долг Переводчика в земле Израиля -миниатюре столпотворения народов и религий, Штайн попытался через иудео-христианскую церковь построить мост «для будущего диалога в трех направлениях — иудаизма, ислама и христианства» [62: 159]. Попытка провалилась: построенный мост не справился с мощным потоком традиции. Ыо, возможно, для того и написан роман, чтобы диалог когда-нибудь состоялся.
По мнению культуролога/филолога М. Эпштейна, мультикультурность1 человека на исходе XX в. — характерологическая черта культурного пространства вообще [284: 242], тем не менее, именно «русскоязычное» литературное творчество более других проявлений соответствует этому новому концептуальному полю, названному Эпштейном транскультурой.
В процессе транскультуры происходит «рассеивание» символических значений одной культуры в поле других культур, диффузия культурных идентнчностей. Транскультура предполагает состояние виртуальной принадлежности одного индивида многим культурам, из которых любой
1 На Конгрессе этнографов и антропологов России «Многоэтничные общества и государства» (2007) К.Э. Разлогов рассуждает о терминологии современного научного дискурса: «Появился термин "мультикультурализм", обозначающий множественность культур в пределах одного государства, который, на мой взгляд, является уже устаревшим представлением о том, каким образом функционирует современная культура, тем более если культурное многообразие в этом аспекте понимается в основном как этническое многообразие. <.> Чтобы как-то преодолеть эту однозначную трактовку мулы и культу рализма, появился термин "иитеркультурализм", который обозначает взаимодействие между различными нациями. Этот термин. тоже отходит в прошлое, а на его место приходит придуманный Михаилом Эпштейном. термин "транскультурализм", где именно взаимодействие разных культ>р, способность человека существовать в разных культурах, самому внутри себя устанавливать мосты между различными культурами становится тем авангардом, вокруг которого должна. строиться современная культура» [227: 13-14]. индивид может свободно выбирать и смешивать краски, превращая их в автопортрет [Там же: 242-243].
Необходимость изучения иноэтнокультурного текста русской литературы очевидна: ярче высвечивается специфика, и национальная в том числе, русской литературы, а также понимание целостности мирового литературного и культурного процессов. «.Без знания чужого очень трудно выделить в своем значимое, важное, отличающее. ибо оно. уже перестает замечаться. Исследователь должен. строить модели отдельных национальных культур при постоянном учете параллельного существования других» [143: 35].
В современном литературоведении проблема национальных образов мира не является маргинальной, с разных сторон она исследуется, обсуждается, издаются и переиздаются научные и публицистические работы, связанные с этой проблемой: например, исследования Е. Абдуллаева [74], JI. Аннинского [83], Г. Гачева [117; 118], Ч. Гусейнова [133], У. Далгат [134], Б. Егорова [143], М. Тлостановой [249] и других [230].
Об этнокультурном своеобразии многих ареалов бывшего советского пространства (и не только) написан ряд исследований Г. Гачевым. В работе «Национальные образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. Космос Ислама (интеллектуальные путешествия)» отсутствует Узбекистан (и не он один), хотя в космос ислама, безусловно, входит. Возможно, это перспективное исследование Гачева, или все уже сказано, т. к. государственные границы, проведенные не так давно (в 20-е гг. XX в.), не тождественны границам этническим и культурным в Средней (ныне Центральной) Азии.
Проза Тимура Пулатова и Дины Рубиной рассматривается в диссертации в объеме всего творчества писателей; проза Сухбата Афлатуни, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса - выборочно: рассмотрены произведения, где не только обнаруживается иноэтнокультурный текст, но и присутствует тема уходящего Города, ее специфическая тональность.
В литературном дискурсе рубежа веков осуществился литературный проект «Малый шелковый путь», поначалу объединивший ташкентских писателей, затем присоединившихся к ним эмигрировавших из города авторов. Участники проекта совпали в единодушном желании сохранить в литературном творчестве образ былого города — сначала это был Ташкент, а потом он метаморфизировался в «ташкешп», который есть у каждого писателя бывшего советского «окоёма» (по терминологии «путейцев»). Литературные тексты, созданные «путейцами» — своеобразная акция, цель которой -«заархивировать» уходящий на глазах культурный пласт города (у каждого писателя — свой город), билингвальиый, бикультурный, образование советской геополитики, исчезающий на глазах современного поколения.
Мы воспользовались заглавием повести Сухбата Афлатуни «Ташкентский роман» для символического обозначения отношений автора/повествователя/рассказчика с бывшим городом советского «окоёма» как конгломератом культурного, исторического, эмоционального, экзистенциального прошлого, почившего вместе с советской империей.
Один из координаторов проекта «Малый шелковый путь» Е. Абдуллаев (он же писатель Сухбат Афлатуни) мотивирует концепт, вокруг которого объединена соответствующая литература: Узбекистан стал не географической границей, но отправной точкой альманаха; название Путь, хотя бы и Малый, указывает на виегршшчпость проекта, на соединение культур Востока и Запада [74: 322-323].
В диссертации рассматривается последний (по времени создания) роман Ч.Айтматова «Когда падают горы» [1]: город в нем представлен «уходящей натурой». Но, в отличие от подобной темы у Рубиной и Афлатуни, которые, как коллекционеры или хроникеры, создают собрание раритетных ментефактов города, Айтматов рисует образ города в контексте антитезы былого и современного, где четко расставлены акценты в пользу традиции, попранной рыночной ментальностыо. (Позиция автора и интенция образа города, скорее, близка пулатовской.) Если Афлатуни, Рубина, Волос в образе города советского «окоёма» используют многообразную палитру, то айтматовский повествователь идеализирует ушедший город.
Не являясь участником «Малого шелкового пути», Андрей Волос интенцией созданного им концепта города вполне мог бы пойти в сообщество «путейцев». Парадигма его «ташкентского романа» с таджикским городом (Душанбе) соответствует концепции писателей — референтов иноэтнокультурного текста русской прозы.
Ряд писателей, чье творчество исследуется в диссертации, не представляется типологическим в аспекте этнической принадлежности, схожести биографий, места проживания, родного языка, отнесенности к определенной «нише» в русской литературе. Тем не менее, их объединяет тот непреложный факт, что они — создатели русской литературы. Это заявление не бесспорно в современном литературоведческом и критическом дискурсе. Дебаты по поводу того, какая эта литература, тезисно приведены ниже, они необходимы для того, чтобы концепировать предложенный в диссертации ряд авторов. На наш взгляд, те споры, которые ведутся вокруг писателей бывшего «окоёма» и нынешней «дальней» эмиграции, не имеют интенции разрешения. Указами, циркулярами - как их называть, к какой «нише» причислять - проблема снята не будет. Мы пошли другим путем - надполитическим, надгеографическим, надэтническим. Литература, созданная этими писателями, предназначена читателю как русский текст, повествует она о проблемах иноэтнических (нерусских), не становясь маргинальной.
Споры, организованные в виде Круглых столов, дискуссий в журналах, а также номинации, предложенные литературными справочниками, по поводу терминов «русскоязычная литература», «российская литература», «русская литература в регионах» и др. сводятся к следующим противоречивым, не имеющим интенции согласия тезисам: «терминологическая неточность» в употреблении этих понятий. «Если мы говорим "российская литература" - это политический термин; если мы говорим "русская литература" - это термин искусства. Мне приходилось спорить в отношении понятия "русскоязычная литература" - к сожалению, сейчас оно широко распространено. Нет, на мой взгляд, англоязычной, франкоязычной или индоязычной литературы - есть французская, немецкая, английская и прочие. И в этом же смысле - есть только русская литература. <.> Нет русскоязычной литературы - следовательно, нет и казахстанской русской литературы, а есть русская литература в Казахстане» (Б. Голендер) [230: 125];
- географическая «прописка» писателя: «.сказать "пишущий на русском языке принадлежит русской литературе" — было бы несколько жестко. Если мы говорим "русская литература", то под этим подразумевается целый культурный пласт. связанный с литературой в целом; и далеко не всех, кто пишет на русском, можно автоматически причислить к русской литературе. <.> .термин "русскоязычная литература" в отношении творчества авторов, живущих вне России, - вполне оправдан» (Л. Калаус) [Там же]; русская литература — это категория Бт§и1апа 1ап1шп: «Невозможно говорить о "русских литературах" - это звучит, как о "многих любвях"» (К.Султанов) [Там же: 126]; «.Шамшад Абдуллаев, Ахунов, Афлатуни -представляют собой новую формацию литераторов: они пишут на русском, но то, как и о чем они пишут, трудно отнести к русской литературе — и по стилистике, и по духу, и по менталыюсти» (В. Муратханов) [Там же: 130];
- «полукровство», или бикультурность, подобных писателей: «.сама первоначально "чужая" культура модифицирует языковую картину мира, при этом не являясь искусственным привнесением. Это тотальное — вне зависимости от национальности самого пишущего — пронизывапие на каком-то "капиллярном" уровне иной культурой» (Л. Кац) [Там же]; эмиграция или резервация? - задает вопрос в контексте отличия писателей русской эмиграции от русскоязычных писателей бывшего советского «окоёма» Е. Абдуллаев: «.в случае с писателями эмигрантами литературная' идентичность выстраивалась в оппозиции, с одной стороны, официальной советской литературе, а с другой - литературе той страны, в которую они эмигрировали. Называя себя "русскими литераторами", писатели. эмиграции тем самым подчеркивали свою прямую связь с классической, досоветской русской литературой, фиксировали свое отличие от окружавшей их "нерусской" словесности и, напротив, общность с другими писателями-эмигрантами из СССР. <.> Это лишний раз указывает на несопоставимость русской литературы эмиграции — и литературы резервации, которая и оказывается уделом пишущих на русском литераторов из государств "ближнего зарубежья"» [74: 321-322];
- глобализационный сдвиг в литературном процессе: «То, что когда-то в кругу советских литераторов выделяло единственно, кажется, Илыо Эренбурга, то, что болезненно тревожило Евгения Евтушенко {"Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. "), стало едва ли не нормой, и никого не удивляет, что русскую поэзию и прозу пополняют произведения, написанные в Испании и Финляндии, что Родину нас учат любить из Базеля. а сочинителей, - как Дину Рубину, например, — все больше волнует "вибрация жизни человека, интеллектуала на грани между двух стран". ".Я считаю, что Россия больше не обладает монополией на русский язык и русскую литературу— говорит Андрей Курков. "Россия — только малый кусочек большого Божьего мира", — подтверждает Михаил Шишкин. ""» [273: 247]; так кто же они: маргиналы или полнокровные представители русской литературы? - вопрос, волнующий теоретиков, но не решаемый ими, об этом повествует в своем эссе-воспоминании о «русских нерусских» писателях Ч. Гусейнов: «Надо бы, — сказал он мне [Гусейнову. - Э.Ш.], - причислить к русской литературе и таких писателей, как Айги, Айтматов, Быков, но не нанесем ли тем обиду национальным республикам, что у них забирают их писателей, продолжается, так сказать "имперский грабеж"» [133: 249]. (Речь идет об ученом-филологе П.А. Николаеве, готовившем Словарь-энциклопедию русских писателей.) «Читатели могут указать на отсутствие в Словаре статей, — впоследствии писал в предисловии П.А.Николаев, - о таких замечательных писателях, как Г. Айги, В. Быков, Ч. Айтматов и другие. Многие их тексты создавались на русском языке, их вклад в русскую литературу и вообще в русскую культуру весьма значителен. Но главный источник их творчества — в <.> национальной духовной стихии: чувашской, белорусской, киргизской и т. д. Они, как правило, и начинали писать на родном языке и предметом их повествований была жизнь <.> национальной родины. Поэтому в современном художественном мире они прежде всего представляют свою национальную литературу» [Там же].
По этому поводу Ч.Гусейнов замечает: «.суждение спорно: на наших глазах рождается особого рода большая русская литература, созидаемая в новейшее время во всех регионах мира представителями разных народов, воспитанных на традициях русской литературы, так сказать, русскими нерусскими писателями, вынесенными волнами эмиграции во все части света. Оттого, что это не литература "чистого" русского этноса, она не перестает быть всемирной, требует нового подхода и осмысления с точки зрения отражения через русское слово иноэтнического, да и собственно русского, бытия» [Там же: 249-250].
Точка зрения Ч. Гусейнова наиболее адекватно, на наш взгляд, выражает значимость исследуемой в диссертации проблемы, которая в свою очередь, будучи раскрытой, послужит, в какой-то степени, трамплином культуртрегерской функции, заложенной в данном исследовании. «Но есть непонятная глухота русского читателя к нерусским писателям, пока они не получат мировое признание, а ведь велика их роль в развитии русской культуры и языка», - заключает Ч. Гусейнов [Там же: 260].
2. Фольклоризм п мпфологпзм как категории ммфопоэтнки иноэтиокультуриого текста русской прозы
Исследование фольклорной составляющей творчества авторов, анализируемых в диссертации, зиждется на понимании фольклора как вида культуры, носителем которой является каждый человек, культуры, которая связана как с архаикой, так и с современностью: «Пока люди взаимодействуют друг с другом и используют при этом традиционные формы коммуникации, у фольклористов останутся блестящие возможности для изучения фольклора» [135: 71]. Все прецедентные тексты, которые пели и поют, рассказывали и рассказывают в устойчивых формах, все короткие фразы, шутки в виде формульных (клишировашшых) текхтов входят в поле фольклора. Фольклор отражает темы, которые важны людям определенных эпох, коллективов, групп (даже самых немногочисленных). Фольклор - «."это вся та чепуха". которая никем не воспринимается всерьез, кроме самих фольклористов»1, - пошутил и, тем не менее, емко обозначил фольклорное пространство социальный антрополог Эллиот Оринг. Именно такое восприятие фольклора, присутствующего в поэтике исследуемых авторов, отражено в нашей работе при анализе литературного творчества.
В отечественном дискурсе XX в. отношение к собственно предмету «фольклор» и его функциональному и социальному статусу стало общим местом со знаком «плюс». Достаточно вспомнить хрестоматийные биографии русских писателей в школьных пособиях, разбор их творчества, где отношения с фольклором, обращение к фольклору, фольклорные стилизации маркируются исключительно позитивно. «"Народное" стало означать принадлежность к высшим художественным достижениям, к сокровищам, "памятникам". <.> Но нельзя было даже допустить мысли о существовании "антинародного" фольклора или фольклора, принадлежащего "ненародным" социальным группам и слоям» [224: 57]. Такое представление о фольклоре несколько тенденциозно, т. к. народная культура - это не только песни крестьян, и это не только то, что исполнялось прежде. Фольклор — это «творчество, принадлежащее всем и вместе с тем - никому в отдельности» [98: 6], Позитивная интенция не всегда свойство фольклора. Американский фольклорист Алан Дандес, говоря о традиционном отношении к фольклору как позитивному фактору в культуре человечества, замечает: «.важно иметь в виду, что существует также крайне деструктивный и даже опасный для жизни фольклор. Я имею в виду различные формы расистского и сексистского фольклора» [135: 204]. Фольклор, по мнению Дандеса, может действовать и как опасная и слишком действенная сила зла. Эти слова, возможно, звучат
1 «The bulk of the stuff» (Panel Discussion Transcript It Western Folklore. Vol. 50. 1991/ No 1. P. 106) - unr. в переводе K.A. Богданова [98: 77]. неожиданно (если иметь в виду, что фольклор в отечественной культуре до недавнего времени маркировался исключительно позитивно). Ряд фольклористов - Б.Н. Путилов [224], К.А Богданов [98], С.Б. Адоньева [78] и др. - последние полтора десятилетия говорят о необходимости существенного пересмотра сложившихся представлений о фольклоре.
Фольклор, транслированной литературными текстами (в нашем случае -означенных авторов), характеризуется расширительными (в сравнении с традиционной фольклористикой) чертами. Так, фольклор находится на грани искусства и неискусства: утварь, одежда, постройки, еда - при всей прагматической целесообразности фольклорны, при этом могут рассматриваться, с одной стороны, как произведения искусства, с другой - быть выделены только своими прагматическими функциями (притом неэстетического плана) [224: 37-38] (см. главу третью: 3.1. «Ташкентский текст в прозе Дины Рубиной», главу вторую: 2.2.1 «Мотив дома» и 2.2.5. «Мотив еды», а также приложение: «Лексика Ташкентского текста»). «Фольклор сообщается главным образом через слова и действия, но даже в артефактах -таких как пища, одежда, произведения искусства и постройки — можно найти идеи и символы, которые являются фольклором.» [Там же: 33] (курсив наш. -Э.Ш.). Материальную культуру необходимо включать в фольклор содержащимися в ней идеями. Другими словами, фольклор — это ментальная сфера культуры, она выражается в идеях и ментефактах (термин Путилова).
Фольклор - это явление как социальной жизни, так и факт нашего сознания, воображения - в целом, своеобразная система - фольклорная действительность (термин Богданова), изменчивая, репродуктивная. К сфере фольклора относятся явления и факты вербальной духовной культуры.
Перспективно включить в сферу фольклора всю традиционную словесность, которая выражена в виде текста, словесных формул, повторяющихся выражений, слов, понятных, знакомых и привычных для данного коллектива (например, фольклорные нарративы о городских памятниках, прецедентные тексты, «вброшенные» в фольклорное бытование рекламой, кино и телевидением, литературой, официозными лозунгами советской поры).
Традиционные специфические черты: устность, народность, традиционность, коллективность, анонимность, вариативность — будучи органичными и объективными, вслед за исследованиями современных фольклористов (98; 224; 271) понимаются в нашей работе расширительно: новые формы распространения и получения информации в современном обществе повлияли на рождение новых форм ее фольклорной трансмиссии [98: 64]; современная тенденция в бытовании фольклора заключается «в постепенном размывании устной культуры и интенсивном расширении культуры письменной» [224: 50]. При исследовании одной из родовых черт фольклора - синкретизма - очевидно наличие неустных составляющих, куда входят артефакты, ритуальные яства, детали костюма, убранства (в диссертации рассмотрены эти позиции в главе второй: 2.2, в главе третьей: 3.1.1 и 3.1.2, а также в приложении).
Народность — второе определение в устойчивом словосочетании — устное народное творчество — требует также остраненного подхода, выведения его из автоматизма восприятия. За словом «народный» на генетически-ментальном уровне тянется определенный культурно-исторический «шлейф». Народность -это «мера глубины и адекватности отражения в художественном произведении облика и миросозерцания народа», «мера эстетической и социальной доступности искусства массам», - читаем в Литературном энциклопедическом словаре [235: 235]. Возникшая в трудах западноевропейских предромантиков, затем романтиков, концепция народности получила социально-заостренное звучание в российской революционно-демократической критике. «Ее подхватили, расширили и укрепили» литературоведы советской поры, сделав знаком высшей идейности, что было равнозначно художественности. Классическая отечественная фольклористика считает создателем и носителем фольклора народ, т. е. «широкие трудовые массы», к которым никак не относились представители грамотных, высших слоев общества. В XIX в. и, по инерции, в XX в. «виртуальному "народу " приписывались "мудрость", "поэзия", "идеалы", и т. п. Двойственность отношения русских писателей и публицистов, государственных деятелей и церковных иерархов к крестьянам состоит в том, что в жизни последних видели одновременно и требующие искоренения "невежество", "язычество", "суеверия", "дикость", и "сокровищницу национальной культуры", проявление "таинственной психеи народа". При этом массовой культуре русских городов XIX в. было отказано в социальной и научной значимости.» [206: 77]. Перепись населения 2002 г. показала, что жители сельской местности, или крестьяне, составляют четверть россиян, т. е. сейчас основа российской нации - это городское население с многообразной культурой, а «традиционная крестьянская культура» представляется на этом фоне некой субкультурой [Там же: 87]. Фольклор — это целостная картина мира современного общества, состоящая «из множества элементов - от народных песен до манеры давать клички животным и подзывать их к себе, от народного жилища до народной кухни» [169: 12], от расистских надписей на стенах («Россия - для русских!», «Бей хачей - спасай Россию!») до печатного творчества водителей маршрутного такси («Автолайн не билайн: все входящие платят»). Высказывания В.Я. Проппа о том, что фольклор — «творчество угнетенных классов» и «говорить о фольклоре дворянском невозможно» [222: 18], объяснимо идеологическими установками советской эпохи, а также традицией фольклористики, сложившейся в XIX в. Однородность, или народность, фольклорной аудитории (носителей и исполнителей) сомнительна. Фольклорная аудитория всегда и везде имеет свои параметры: по тендерному признаку, социальному, возрастному, этническому, географическому и т. д. Фольклорен тот текст, который известен в пределах некой социальной (или объединенной по другому признаку) группы1 и который не предполагает каких-то специальных объяснений внутри данной группы: это может быть анекдот, фраза из песни или кинофильма, расхожая цитата
1 Прошедшая в Республиканском Центре русского фольклора конференция «Фольклор малых социальных групп» (декабрь, 2006) выявила такие социальные, профессиональные, географические и пр. фольклорные объединения, как землячество, гробовщики, пранкеры, работники железнодорожного депо и проч. классика или пропагандистский лозунг [98: 47]. «Фольклорность» того или иного текста зависит от степени его распространенности: повторяемости, способов и источников трансмиссии, которые отличны от прошлых.
Традиционность — это понятие также трактуется фольклористами неоднозначно. И говорящий (исполнитель), и слушающий должны по определенным вводным сигналам настраиваться и предугадывать тот текст, который зазвучит следом. Такова функция сказочной присказки, былинного запева. Но так происходит не со всеми фольклорными текстами. Например, тексты преданий, легенд не имеют «традиционных зачинов, отлившихся в формулы, подобные сказочным» [271: 163]. Целостные нарративы частично уходят из традиционного повествования, уступая место текстам-фрагментам, те кетам-сигналам, которые не столько передают информацию, сколько указывают на нее и ее источник. Причины минимализации фольклорных текстов, по мысли К.А. Богданова, в обилии потоков конкурентной информации в современном обществе [см. 98: 65].
Традиция наиболее ярко представлена системой фольклорных жанров как опыта коллектива, эта система складывается и функционирует бессознательно. 1 Традиция может быть общенародной и принадлежащей отдельной группе -социальной, профессиональной, региональной, возрастной и т. д. Традиция не может ограничиваться длительностью бытования, есть немало форм и текстов, обреченных на короткую жизнь [224: 48]. Потому представляется столь важной культурологическая миссия филологов, фольклористов записать, прокомментировать, опубликовать уходящие сюжеты, зафиксировать новые и уходящие формы фольклора (что нами, отчасти, было сделано в материале, помещенном в приложении). В современном социуме и в порожденном им фольклоре наблюдаются процессы с демонстративным отходом от традиций: фольклор предстает в виде коллажа и монтажа образов, стереотипов, формул, пришедших из различных письменных, устных, визуальных источников информации [98: 64]. Французский культуролог Ролан Барт писал, что «текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников» [87: 388].
Традиционность как понятие, маркируемое исключительно позитивно, как синоним корней, исконных основ, сопряженных с «чистотой» этнической культуры, таким образом, не всегда им является. Этнолог/культуролог В.А. Шнирельман говорит о парадоксальности современной традиционной культуры, посредством которой стереотип общественного сознания, по инерции, определяет этническую принадлежность человека. Традиционная культура в современной фольклорной действительности граничит с массовой. «Мы. живем сегодня не в одной, а сразу в нескольких разных культурах. Да, мы говорим по-русски, но смотрим американские боевики, носим китайскую одежду, покупаем японские автомобили. А из чего складывается образ традиционной русской культуры? Самовар, пришедший из Ирана, матрешка, завезенная из Восточной Азии, и картофель, попавший в Россию из Южной Америки! Все это доказывает, что этничность опирается не столько на реалии, сколько на образы. В действительности так называемые этнические культуры гибридны и гетерогенньг. Ничего биологического в них нет. Только такой подход способен преодолеть наследие советской теории этноса. и противостоять культурному расизму» [276].
Говоря о достоинствах, несомненных и очевидных, первого лингвистического объяснительного перевода «Слова о полку Игореве» A.C. Шишковым, современный исследователь педалирует следующее: «Используя материалы прошлого, они [славянофилы. - Э.Ш.] старались обосновать, подтвердить свои взгляды на современное состояние государства, установить какие-либо исконные черты русского народа, подчеркнуть резкое отличие Руси от Запада и несомненное превосходство ее» [231: 47] (курсив наш. - Э.Ш.). Курсивом выделенные слова - довольно распространенный стереотип, активно пропагандируемый и в школьном преподавании, и в медийном пространстве, и в повседневном дискурсе.
Изучая и исследуя как русскую культуру/литературу, так и нерусскую (в нашем случае - иноэтнокультурный текст русской литературы), необходимо, на наш взгляд, акцентировать не «несомненное превосходство» русского над нерусским, а разность, «пакость - вне шкалы лучший/худший, а в шкале выраз»тельности, образности, связанной с разной ментальностыо, ценной в контексте мировой культуры и потому обязательной для знакомства с ней человека, ориентированного на гуманизированную интенцию.
Говоря о коллективности, также надо подразумевать некоторую условность этой черты фольклора. Фольклорный дискурс обнаруживается в границах микрокоммуникативного или персонального дискурса: между мужем и женой, друзьями [98: 60]. К коллективности как хрестоматийной черте фольклора примыкает антитетичное понятие — индивидуальное начало, но тиражированное, клишированное, а потому узнаваемое. Коллективность легко проиллюстрировать такой формой бытования фольклора, как слухи.
Инклюзивность (термин Путилова) — признак фольклора, означающий включенность всей фольклорной культуры и каждого отдельного произведения в общую жизнедеятельность народа [224: 73]. Инклюзивность фольклора получила обоснование в концепции английского антрополога Б. Малиновского о функциональной теории культуры. Под функцией Малиновский разумеет множество прагматических действ: «от простейшего акта еды до священного ритуала причастия.» [186: 133]. Таким образом, фольклорная культура, прямо или опосредованно, связана с жизненными благами: их наличием или отсутствием, выраженными в артефактах, социальных отношениях и стереотипных формах поведения.
С накоплением наблюдений над фольклором и естественным расширением границ фольклористики возникает необходимость сопрягать фольклористику с другими областями знаний: этнографией, социологией, психологией, религиоведением, антропологией.
Один из приоритетных аспектов современной фольклористики — контекстуальный. Фольклорный текст воспринять объективно, без учета обстоятельств его исполнения нельзя. У истоков контекстуального подхода к фольклору стоит Бронислав Малиновский, основатель функциональной школы. По Малиновскому, культура — это искусственная, или вторичная, реальность,
• ■ ■ '. . . 25 необходимая человеку для выживания, жизнедеятельности. Каждая отдельная человеческая культура представляет своеобразный «орнамент» видения мира, свойственный именно этому народу — этномировидение. Функциональный анализ фольклора выявляет сопряженность его с внефольклорной структурой. Контекст и функции фольклора «разводит» А. Дандес. Контекст - это «специфическая социальная ситуация», в которой исполнен фольклорный текст. Функция основывается на множестве контекстов, ее суть сводится к цели данного текста [224: 122].
Номинации русский современный фольклор, или русский постфольклор, не отражают, на наш взгляд, полноты их этнического наполнения, т. к. «русские», или россияне, в современном дискурсе — это «многонациональный народ» (в России проживают «русские» татары, «русские» евреи, «русские» армяне и пр.)1,2. , ' , ;
В исследовании фольклорного дискурса повседневности надо учитывать слухи и сплетни, материалы теле- и радиоэфира, «желтой» прессы, популярных песен (см.: 1.2.3, 1.2.4, 3.1.2, а также приложение), рекламу (см.: 1.1.2.3); предпочтительные темы и тексты в пространстве компьютерного общения (см. в приложении «Локусы Ташкентского текста»); выкрики уличных торговцев (см.: 3.1.1); традиционные сигналы-заманки, обращенные к животным; тексты открытых писем, которые можно видеть на стойках в любом магазине или в метро; клишированные • послания-«эсэмэски» в мобильных телефонах; растиражированные общие , места школьных сочинений; традиционные реплики: после чиханья, при встрече, прощании и т. д., например, фатическое приветствие (см.: 3.1.2); крупные формы — фестивали, современные праздничные обряды; надписи на стенах и в общественных местах, в транспорте; фольклорные тексты, в которых фигурируют литературные
1 Такое парадоксальное, с точки зрения логики, но убедительное, с точки зрения реальной действительности, определение дал писатель А. Проханов в полемике на радио «Эхо Москвы» (эфир от 26 октября 2005 г.).
2 «.российский народ невозможно представить без представителей других национальностей - носителей других культурно-исторических традиций, как невозможно представить религиозную жизнь страны без последователей других мировых религий - ислама, иудаизма, буддизма, - сказано В.А. Тишковым, ведущим этнографом страны, на VII Конгрессе этнографов и антропологов России, — .этническое и религиозное многообразие и так называемая многонациональность российского народа составляют его богатство, его силу и более того - они есть условие развития страны» [247: 5]. персонажи, а также реальные лица в виде фольклорных образов, например, Ленин, Сталин (см.: 1.2.4, 3.3.1); слова, сопровождающие детские игры, например, тендерные, мальчишеские (игры в ляигу, в ашички: см. в приложении «Лексика Ташкентского текста»), а также множество других форм и жанров, бытующих в современном фольклорном дискурсе, но не отмеченных пока фольклористикой, ждущих своего исследователя. Тенденция современной фольклористики связана со снятием табу с нетрадиционных, неканонических форм.
Говоря об инновациях и маргиналиях современной фольклористики, К.А. Богданов отмечает: «Литературное произведение, киноцитата, газетное сообщение не исключают фольклористического анализа, если они удовлетворяют большему или меньшему числу "фольклорных" критериев (скажем, характеру бытования, степени устного варьирования, связи с мифологическими "архетипами" и т.д.)» [98: 70]. «.Фольклор в целом не вырождается и не умирает» [135: 70]: уходят, теряя популярность, одни жанры и формы, приходят новые. Фольклорист не должен проходить мимо всех этих явлений, как «магистральных», так и маргинальных, а должен их фиксировать, исследовать, расширяя, таким образом, традиционное поле фольклористики.
В 80-е гг. XX в. за термином «фольклоризм» было закреплено такое толкование: «Термин, предложенный французским фольклористом XIX в. П. Себийо. Обозначает использование фольклора в художественном творчестве, публицистике и т. д. (М.К. Азадовский), а с середины 60-х гг. -также "вторичные" фольклорные явления (воспроизведение фольклора на сцене, в художественной самодеятельности и т. п.)» [132: 469].
Термин «фольклоризм» на новом (постсоветском) витке развития филологии не претерпел каких-либо изменений, расширилось же само понятие фольклор. Под «фольклоризмом» по-прежнему понимаются следующие уровни литературного текста: жанрово-фольклорная стилизация; фольклорная образность; фольклорно-ритуальная семиотика ряда литературных концептов (например, дом, дерево и другие растения, предметы быта и пр.); фольклорные вкрапления в литературный текст, выполняющие различные функции: иллюстративную, метафорическую и др.; фольклорная символика; фольклорный язык и др.1 Расширительное толкование фольклора позволяет относить к фольклоризму как вербальные, так и невербальные формы фольклора, присутствующие в структуре литературного текста: ритуальные (запрещенные/разрешенные) и повседневные яства и культуру их потребления (например, культура еврейской кухни и мусульманской, связанная с запретом на свинину), виды ритуальной и будничной одежды и пр. Фольклоризм в литературе проявляется также в упоминании слухов, молвы, общеизвестных апетен — как форм фольклора, современных анекдотов, а также лозунгов, плакатов, никак не обозначенных пока в современной фольклористике.
Новейшая литературная энциклопедия (2003) мало что поменяла в толковании термина «фольклоризм»: говорится о трех аспектах фольклоризма — о воздействии фольклора на литературу, о судьбе литературного произведения в фольклорном бытовании, о творчестве литераторов как собирателей и исследователей фольклора [138: 1143].
Наше исследование (тот пласт, который связан с исследованием фольклоризма прозы русских писателей иноэтнокультуры) в какой-то мере является инновационным, т. к. зиждется на расширительном понимании фольклора и затрагивает четвертый аспект фольклоризма: литературный текст, пришедший в фольклор, а затем «заимствованный» литературным текстом.
Фольклорно-прецедентная область отечественного дискурса, рожденная тиражированным школьным преподаванием: цитаты из классической литературы, персонажи российской истории - мета речи эмигрантов из СССР/России (и не только). «Не случайно русскоязычная пресса Израиля широко использует аллюзии на русскую литературу и фольклор. Воспринятые в
1 Мы просмотрели тематику и статьи Международных научных конференций «Восток — Запад: пространство русской литературы и фольклора» [111; 112], «Соотношение рационального и эмоционального в литературе и фольклоре» [236], «Фольклор и художественная культура: Современные методологические и технологические проблемы изучения и сохранения традиционной культуры» [258] и др. и пришли к выводу, что сами уровни фольклоризма, по сравнению с XIX - XX вв. (например, [191]), остались прежними.
СССР представления о различиях цивилизаций мобилизуются для интерпретации нового израильского опыта.» [144:1, 313].
Прецедентные (ритуальные и ритуализированные) тексты как вербального, так и невербального фольклора выстраивают картину мира определенного времени, локуса, этноса, которая, по словам В.И. Тюпы, «фатально непреложный и неоспоримый круговорот бытия, всякий участник которого наделен судьбой — предопределенной ему ролевой моделью причастности к общему миропорядку» [244: 84].
Д.Н. Медриш в давнем (1980) исследовании о взаимоотношениях фольклора и литературы, обобщив мировой опыт изучения этой проблемы, заключает, что фольклорная традиция более продуктивна в литературе, в ней ищет своего завершения ряд фольклорных процессов [191: 11]. «И в этом плане "вторжение" в литературный материал для фольклористики совершенно естественно и необходимо», т. к. порой именно писатель освещает те фольклорные реалии, которые без его содействия остались бы необнаруженными [Там же: 11—12]. Медриш разграничивает цитацию фольклорную и цитацию литературную в литературном тексте. Мы предлагаем рассмотреть новый виток фольклоризма: текст, по происхождению литературный, ставший фольклорным, а уже после этого цитируемый в литературе как фольклорный, — это текст, прошедший «челночное обращение», или совершивший траекторию бумеранга (см.: 1.1.2.3, 1.1.3 и 1.2.4, 3.3.1.). Растиражированные строки классиков, повторяемые из года в год, из поколения в поколение, вошли в дискурс повседневности, став фольклорными - их в виде прямой цитаты, аллюзии, реминисценции воспроизводят писатели Рубина (в языке иммигрантов), Сухбат Афлатуни в постсоветском «окоёме».
Реальные персонажи русской истории «фольклоризированы» в повседневности, будучи «внедряемы» в виде обязательных фигур в образовательный процесс. Таковыми стали имена Пушкина, его жены Натальи Гончаровой, няни Арины Родионовны. Особенно интересна судьба няни, тиражированная так часто, повсюду и много, что заняла место главной музы поэта. Скорее всего, это было обусловлено советской идеологической парадигмой: няня как представитель простого народа создавала баланс дворянскому происхождению «нашего все» (например, фрагмент в романе Рубиной «Синдикат» с деталью «кукла Пушкина»; мифологизированный до статуса тотема образ Лермонтова в повести Афлатуни «Глиняные буквы, плывущие яблоки»).
Фольклоризм прозы Рубиной, Афлатуни и других авторов, таким образом, складывается из русского литературно-фольклорного мейнстрима: это прецедентные тексты, реминисценции, мифологические персонажи.
Базовыми теоретическими исследованиями в области фольклора и фольклоризма в литературе для данной диссертации стали работы В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского, Б.Н.Путилова, С.Ю.Неклюдова, К.А.Богданова,
Д.Н. Медриша, A.A. Панченко, А. Дандеса и др.
Исследование мифопоэтики творчества русских писателей инокультуры зиждется на следующем понимании мифа: миф — первооснова мыслительного процесса, анализирующего окружающую реальность на протяжении обозримого существования человечества. В современном научном обиходе «миф» трактуется двояко: как архаическое образование - древние сказания о происхождении мира, природных и социальных явлений, живых существ, человека в том числе, о правилах общежития, о взаимоотношениях человека и природы; и как вневременная модель человеческого мышления (куда входит и современность) - совокупность парадигм, в которых отражены все те проблемы, которые рассматривает и архаическая мифология. Все мифические представления прямо или опосредованно находят свое воплощение в фольклорных текстах, которые или «пропагандируют» миф, или опровергают его.
По-разному трактуется миф начиная с XIX в., времени его изучения. В массовом сознании сложилось представление о мифе как о явлении архаичном, дофольклорном и долитературном. Исследования мифологов второй половины
XX в. (М. Элиаде, К. Леви-Строс, Е.М. Мелетинский, СЛО. Неклюдов и др.) в корне изменили взгляд на миф: помимо архаичных, существуют и современные мифы, в чем-то похожие на древние, но близкие и понятные их носителям. Собственно, каждому времени свойственна своя мифология. Массовое сознание, ментальность зиждутся на мифологии, особенности которой определяются параметрами времени, этноса, социума, тендера и др.
Е.М. Мелетинский называет миф одним из центральных феноменов в истории культуры и древнейшим способом концепирования окружающей действительности и человеческой сущности. Миф, по словам исследователя, — «первичная модель всякой идеологии и синкретическая колыбель различных видов культуры - литературы, искусства, религии и, в известной мере, философии и даже науки» [194: 419].
Результаты исследования архаического мифа и современной мифологии позволяют говорить об основных функциях архаического мифа, об отношении к нему его создателей и носителей, о структуре, героях мифа.
Мифология выделяет ряд ритуально-тематических разновидностей мифа, точнее — их парадигмы:
- космогонические мифы - мифы о миротворении, о создании всего сущего, миропорядка: Космоса из Хаоса; в «памяти» космогонических мифов сохранено представление о первом миропорядке - «Золотом веке» (или библейском Рае, или «добрых старых временах», или «благополучной советской эпохе» [205: 15]), восстановить который стремится каждый космогонический миф. Важнейшие первообразы космогонических мифов -вода, метафора хаоса, и яйцо, метафора космоса. По гипотезе голландского фольклориста XX в. Ф.Б.Я. Кёйпера, информацию о своем зачатии человек хранит в пренатальной (эмбриональной) памяти — отсюда паиэтничсский, встречающийся у многих народов, характер мифологических образов «воды» и «яйца» [160]; эсхатологические мифы — мифы о конце миропорядка, о победе хаоса над космосом; любой эсхатологический миф органически включает в себя космогонический: из очередного хаоса рождается новый космос (например, миф о Судном дне, или Йом Кипур, в иудаизме, см.: 1.2.1.);
- тотемические мифы - мифы о первопредках (тотемах), которыми чаще являются животные, но также и растения и люди (см.: 2.3.3);
- мифы о культурном герое, принесшем благо человеческому сообществу; культурный герой научил людей ремеслам, добыл огонь, пожертвовав собой (см.: 2.1);
- мифы о трикстере, двойнике культурного героя, но его «низкой» ипостаси; трикстер - плут, озорник, он бестолков, неуклюж, недотепа, обжора и развратник (см.: 1.1.2.1; 1.2.1; 1.2.5.1);
- этиологические мифы — мифы, объясняющие причинность явлений и процессов окружающей реальности (см.: 2.3.2). По мнению Мелетинского, главная задача первобытного мифа - объяснить устройство вещи, рассказать, как она делалась, описать окружающий мир [198: 172];
- посвятительные мифы, или инициационные, - мифы, содержащие информацию об обрядах перехода мальчиков (часто и девочек) в иную возрастную и социальную категорию. Именно после прохождения обряда посвящения человек становится таким, каким «должен быть», будучи включенным в культуру данного сообщества [279: 27]. Посвятительные мифы содержат сакральную информацию о фундаментальном опыте человеческого существования (см.: 2.1).
Все эти мифы являли и являют собой некий «закон», «науку» жизни/общежития. Главной чертой в бытовании мифа была/есть вера в него, отсутствие представления об авторстве мифа: миф был (и есть) такой же реальностью и данностью, как и все сущее вокруг.
Время и пространство мифа - мифологический хронотоп - характеризуется такими чертами: время бесконечно и циклично, движется по спирали, повествование в мифе могло начаться со смерти культурного героя и оборваться на его новом рождении; пространство мифа локально: здесь и сейчас. Носитель мифа находится в центре, это видно по фольклорным текстам, пространство которых разделено на «центр» и «периферию», за которой i чужое» пространство1 [205: 13]. Несмотря на цикличность времени мифа, подчеркнем его спиральную траекторию: время мифа не топчется по кругу. В мифологическом времени можно выделить три временных пласта: давно прошедшее время, или собственно мифологическое время (его имеют в виду, говоря об архаических мифах); историческое время, сообщения о котором исходят из более или менее реальных источников (устных и письменных); недавнее, «вчерашнее» время, засвидетельствовать которое не составляет труда [Там же].
Более чем двухвековые попытки толкования мифов все более углубляют представление о мифе, но не решают окончательно вопроса о его функции. Миф отзывается на самые различные явления социальной и духовной деятельности. Природные явления в мифе образуют лишь рамку [156: 42]. По мнению мифолога XX в., существуют и дополняют друг друга два вида мифов: мифы ситуаций и мифы героев. Мифы ситуаций разрешают социальные, психологические проблемы или предостерегают от них; мифы о героях передоверяют разрешение тех же проблем герою, который может стать, в отличие от человека, нарушителем запретов, взять вину на себя [Там же: 4547].
Рождение и бытование мифов связано со спецификой архаического мышления (анимизм, антропоморфизм, метаморфизм, тотемизм, магизм) . Все перечисленные черты архаического мировоззрения — разновидности мифологических парадигм; они не ушли из бытования вместе с древними временами. И это соответствует природе мифологии. Вера людей в мифы со
1 Такое мифическое восприятие пространства воссоздано в романе Т. Толстой «Кысь»: есть только город Федор-Кузьмичск, все, что за его пределами —земля незнаемая, враждебная, иными словами «Чечня». гАнимизм - одухотворение явлений природы, объектов действительности (см.: 2.2.2; 2.2.3); антропоморфизм — представление явлений природы, объектов действительности в образе человека (см.: 2.2.1.; 2.2.2.; 2.3.3); метаморфизм - представление о способности живых и неживых с>ществ к превращению, перевоплощению; разновидности метаморфизма — орнитоморфизм, зооморфизм, энтоморфизм, фитоморфизм и др. «Мифы иногда начинаются с формулы "это было то время, когда звери были еще людьми" и кончаются превращением героя в соответствующее животное» [198: 179] (см.: 2.3.2; 2.3.3; 3.3.1); тотемизм - представление о происхождении человека от первопредка-тотема. Каждое древнее племя мыслило свой род берущим начало от животного, иногда предписывается поедать тотемное животное во время сакральной трапезы - именно поэтому у многих народов тотемами были промысловые животные (см.: 2.3.3; 3.3.1); магизм — вера в способность ритуальных слов и жестов к направленному воздействию на желанную цель. временем утрачивается - происходит процесс демифологизации. Но ненадолго: по законам циклического времени мифы в обновленном, трансформированном виде возвращаются — происходит процесс ремифологизации. И так вплоть до наших дней.
Мифологическое мышление, которое невозможно обнаружить в «химически чистом виде» [198: 167], отражено в фольклорных и литературных текстах1.
По словам Мелетинского, логически и диалектически мифологию могла бы вытеснить наука, но ей не дано разрешить такие метафизические проблемы, как смысл жизни, цель истории, тайна смерти, мифология же претендует на их разрешение, миф исключает неразрешимые проблемы, т. к. главная цель мифа -поддержание гармонии личного, общественного, природного, в чем мифам помогают ритуалы [194: 419-420].
Таким образом, миф - форма сознания не только первобытного мышления, миф остается элементом коллективного сознания, т. к. обеспечивает «уютное» чувство гармонии с обществом и Космосом [Там же: 426]. Пространство мифов сконцентрировано на таких «таинственных» метафизических проблемах бытия, как рождение, смерть, судьба; миф занят гармонизацией взаимоотношений социума с природой, и этим объясняется извечная живучесть мифологии [198:
1 Место тотема заняли демиурги - персонажи истории, образы которых выстраиваются в мифологическом и фольклорном пространстве по законам мифа. Демиурги, небожители — из иных плоти и крови, в отличие от обычных людей, они «другие», например, такими «тотемами»-дсмиургами в мифологии XX в. стали фигуры Ленина, Сталина. «Сталин - не просто исторический продолжатель Ленина, а его как бы перевоплощение ("Сталин - это Ленин сегодня"), и следующие после смерти Сталина вожди - не сменяющие друг др>га исторические лица, а тоже своего рода перевоплощения все того же "культурного героя" Ленина» [194: 422] — без)словно, речь идет не об исторических персонажах, а об нх мифологическом перевоплощении, об образах (см. в приложении фольклорные нарративы о памятниках).
Выбрасывая из прежнего «капища» былых тотемов, культурных героев, человечество не выходит из «ритма», заданного мифологическим сознанием (этот циклический процесс удивительно постоянен: мифологизация - демифологизация — ремифологизация). Уходит один к>мир, на его место приходит др)гой. Видимо, такова мифологическая парадигма человеческого сознания, в параметрах его массовости.
Эту мифологическую модель воссоздала писатель Т. Толстая в романе «Кысь». Действие происходит в вымышленном городе Федор-Кузьмичск, названного по имени «набольшего мурзы» города/государства — Федора Кузьмича, который )казы издает, стихи пишет, благодетельств)ет простой народ. А как прежде, до пего жили? «Л так и жили: ползали во тьме, как слепые червыри. Л принес огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. Лх, слава ему. Пропали бы мы без Федора Кузьмича, ей-ей, пропали бы! <.> Кто сани измыслил? Федор Кузьмич. Кто колесо из дерева резать догадался? Федор Кузьмич» [60: 19]. Все славят Федора Кузьмича, все боятся Федора Кузьмича, все блага исходят от него единственного. И вдруг — крамола: Федор Кузьмич изгнан и уничтожен. Нет веры — нет мифа. Наступает эра «нового» сознания, «нового» мира. Но нового ли? На смену старому мифу приходит новый-старый. Не меняется человек. «Кончена, жизнь, Никита Иванович. - Кончена - начнем др)гую, - ворчливо отозвался старик» [Там же: 323]. О том же и в соответствии с циклической парадигмой мифа рассуждают )частника диалога (в интернетовском чате) из «Шлема ужаса» В.Пелевина, оказавшись в чреве лабиринта Минотавра и восклицая: «Что же мы теперь будем делать? - Как что. Продолжим дискурс» [43: 218].
169-170]. Мифологией «пронизана вся культурная, художественная и идеологическая практика.» [205: 25]. Современность, как и архаика, является продуктивным полем для возникновения мифов, считает французский философ/филолог Ролан Барт, «мифология, несомненно, есть способ быть в согласии с миром - не с тем, каков он есть, а с тем, каким он хочет себя сделать» [88: 284].
Миф не может умереть в обозримом будущем; это форма человеческого осмысления себя в действительности. Миф возник и продолжает свое существование как титаническая попытка культуры придать будущему видимость и подобие безопасности, сделать будущее предсказуемым, согласовав его с прошлым, защитить человека перед лицом нужды, смерти, разрушения, т.к. человек страшится спонтанности и перемен [161: 171]. Миф дает возможность человеку существовать привычным способом. Когда разрушается миф (а он разрушается, чтобы дать возможность родиться новому или возродиться старому), наступает растерянность, тоска, страх. Так, многие современники тоскуют по советским временам: разрушен миф, в пространстве которого было покойно и ясно строить будущий «рай» — коммунизм (см.: 1.2.1; 1.2.4).
Как ежедневная молитва и исповедь дают многим чувство защищенности, так и мифы создают для человека чувство опоры, возмещают недостаток надежности в мире, полном неожиданностей и разочарований [Там же: 174] (см.: 1.2.1).
Базовыми теоретическими исследованиями в области мифа для данной диссертации стали работы Е.М. Мелетинского, С.Ю.Неклюдова, К.А. Богданова, А.Л. Топоркова, Д.Д. Фрэзера, Н. Фрая, Р. Барта и др.1
Литературе во все времена было свойственно обращение к мифу, происходило это неосознанно или сознательно, декларативно. Так, активная ориентация на миф становится во главу неомифологического направления в
1 Освещение теорий в истории изучения мифа и современных концепций мифологов вынесено в приложение (раздел IV). литературе в последней трети XX в.: «В советской литературе неомифологические тенденции проявляются с конца 60-х - начала 70-х гг., в основном у писателей Востока, в том числе русскоязычных; при этом преобладает мифологизм национального фольклорного или лирико-медитативного характера (Ч. Айтматов, О. Сулейменов, А. Ким, Т. Зульфикаров, Т. Пулатов, Г. Матевосян).» [282: 225].
Мы не ставим целью фиксировать степень активности или пассивности обращения к мифу в разные периоды литературного процесса. Наша гипотеза, которая будет реализована ниже, состоит в том, что писатели, выбрав нишу референтов иноэтнокультуры, акцентируют обращение к мифу при создании иноэтнического текста (будь то миф узконационального бытования или широкого, общекультурного); тем самым писатель, на наш взгляд, педалирует свою национальную принадлежность к культуре определенного этнического сообщества. Зачем он это делает? Сказать сложно. Вот одна из мотиваций, предложенная современным этнологом: для получения равноправного положения в современном обществе дискриминируемой группе людей приходится обращаться к ресурсу, не свойственному данному сообществу [276]. Так или иначе, стремление к национальной самоидентификации, несмотря на мультиэтнический состав практически любого «закутка» современной «глобальной деревни», остается продуктивным, что отражает исследуемое творчество.
Поэтика как раздел литературоведения исследует систему средств выражения, образности, генезис мотивов и образов. «Целью поэтики является выделение и систематизация элементов текста, участвующих в формировании эстетического впечатления от произведения. <.> Конечными понятиями, к которым могут быть возведены при анализе все средства выражения, являются "образ мира" (с его основными характеристиками, художественным временем и художественным пространством) и "образ автора", взаимодействие которых дает "точку зрения", определяющую все главное в структуре произведения. <.> Историческая поэтика изучает эволюцию отдельных приемов и систем с помощью сравнительно-исторического литературоведения. <.> Корни литературной словесности уходят в устную словесность, которая и представляет собой основной материал исторической поэтики.» [115: 786-787]. Таким образом, мифопоэтика является составной частью поэтики, она исследует именно те приемы и средства, которые связаны с устным дискурсом - этот пласт связан как с архаическим пластом словесности, так и с современным (при условии принятия точки зрения, что и фольклор, и мифология имеют равные с архаикой временные «права»). Такая точка зрения выражена современным исследователем: «Мифопоэтическими принято считать художественные феномены нового времени, сориентированные на мифологический тип сознания, на мифологические структурные особенности или вполне определенные мифологические образцы, однако не теряющие собственно эстетической специфики, свободного индивидуально-авторского отношения к изображаемому» [270: 6].
Выявляя истоки культурной традиции, литературовед/фольклорист так или иначе приходит «к мифологической обусловленности нашего существования» [261: 185]; становясь комментатором литературного и фольклорного дискурса, вышедшего из мифа, исследователь выстраивает схемы, модели культурно-ментального порядка, т. к. «миф - это образная модель миропорядка» [244: 55].
Одним из рабочих терминов нашего исследования является мифологема (мифема), используемая в качестве сюжетообразующего элемента литературного/фольклорного текста, который восходит к мифу (архаическому и современному), или в том значении, которое формулирует A.C. Козлов1. Активное и продуктивное исследование мифологического пратекста русской литературы началось в 80-е гг. XX в. после того, как был осуществлен проект в виде двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира», тогда же были опубликованы работы К. Юнга, 3. Фрейда, К. Леви-Строса, JI. Леви-Брюля,
1 «Термин. обозначающий заимствование у мифа мотива, темы или ее части и воспроизведение в более поздних фольклорных и литературных произведениях. <.> Мифологема (мифема) обозначает сознательное заимствование автором мифологических мотивов, тогда как постулируемая ЬС. Юнгом бессознательная их репродукция, как правило, обозначается понятием архетип. Мифологема (мифема) понимается и как мифологический "пережиток" в современной литературно-художественной практике, и как ее важнейший структурообразующий принцип» [164: 258].
Ф.Б.Я. Кёйпера и других ученых1, ставших первооткрывателями для советских исследователей в области изучения мифа. С тех пор отечественными литературоведами написано множество диссертационных исследований в области мифологизма русской и мировой литературы . О чем говорит разнообразный по диапазону охват писателей и направлений в аспекте мифологизма? Не о том, что только для творчества определенных авторов, направлений характерен мифологизм. Скорее о том, что словесное творчество мифологично изначально: даже без осознанного тем или иным писателем факта присутствия в его творчестве мифологической составляющей. По наблюдению Ю.М. Лотмана, «Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью. <.> При этом непосредственный контакт с "неготовой, становящейся современностью" [фраза М.М. Бахтина. - Э.Ш.] парадоксально сопровождается. регенерацией весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов. Так рождается глубинное родство романа с архаическими формами фольклорно-мифологических сюжетов» [183: 330] (курсив наш. — Э.Ш.). Вольно или невольно, осознанно или нет, но любой писатель, по концепции Лотмана, вписывается в национальную парадигму культуры3. Так, европейский роман XIX в. восходит к архетипу сказки, русский — мифа, то есть, помимо историко-эпохальных, существуют национальные типы сюжетного пространства4 [Там же: 330].
Если вводить исследуемое в диссертации творчество русских писателей -референтов инокультуры - в процесс «мультикультурализма», то с некоторыми оговорками, касающимися, в частности того, что само это понятие достаточно
1 Работы этих ученых, называемых в советское время «буржуазными», хотя и были известны, но до 80-х гг. не п>бликовались на русском языке по идеологическим соображениям/запрещениям.
2 См. в приложении: раздел IV.
3 Архетипическим константам/парадигмам в литературе посвящена и диссертация М.Ч. Ларионовой [174].
4 Под «сюжетным пространством» Ю.М. Лотман понимает «совоку пность всех текстов данного жанра, всех черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов.» [183: 330]. расплывчато и его апологеты вкладывают в него разный смысл. Мультикультурализм — это не только «плавильный котел», с которым чаще всего ассоциируется эта культурологическая тенденция. По схеме, выведенной культурологом, мультикультурализм в XXI в. может развиваться в трех направлениях: в умеренном, когда, наряду с ассимилятивными процессами, остается национальное «ядро»; экстремистском, когда национальная традиция рассыпается на множество враждебных друг другу субтрадиций; и, наконец, «постнациональном», когда этнические традиции, развиваясь, находятся в постоянном диалоге [248: 268].
При анализе иноэтнокультурного текста в творчестве Тимура Пулатова, Дины Рубиной, Сухбата Афлатуни, Андрея Волоса и других писателей мы выделяли именно те элементы, которые соответствуют третьей тенденции мул ьтикул ьтурал изма.
Таким образом, фольклоризм и мифологизм в данном диссертационном исследовании предстанут главными уровнями мифопоэтики иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей - референтов иноэтнокультуры. Обращение к фольклору и мифологии у данных авторов намеренное, концептуальное: только так русское творчество означенных авторов способно предстать как текст иноэтнокультурный: не через язык творчества, а через метаязык культуры. И писателям это важно: не слившись в плавильном котле современного глобализма, а также в той интенции, которая декларировалась в недавнюю эпоху («отмирание наций и народностей и рождение единого советского народа»), они пишут по-русски, но при этом «не расстаются» с той культурой, которая ментально им ближе и которая, собственно, сформировала их экзистенциально-мировоззренческие позиции.
3. Характеристические данные исследования Цель работы - исследовать мифопоэтику иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей - референтов нерусской культуры.
Задачи исследования, вытекающие из установок исторической поэтики и фольклористики, заключаются в следующем:
- выявить в литературных произведениях исследуемых авторов гтоэтнокулыпурный текст;
- выявить национальные образы мира в творчестве исследуемых авторов;
- обнаружить мифологизм (вытекающий из архаики и повседневности) выявленных национальных образов мира;
- обнаружить фольклоризм выявленных национальных образов мира, сопряженный как с традиционным, так и современным фольклором;
- выявить в иноэтнокультурном тексте мифологизм и фольклоризм, спроецированный советской ментальностью;
- исследовать иноэтнокультурный текст в аспекте национальной аксиологии, транслированной через фольклор и мифологию повседневности;
- опросить информантов и собрать современный фольклор настоящих и бывших жителей Ташкента для комментирования Ташкентского текста прозы Рубиной (как фольклорно-мифологически-культурологически-литературного феномена);
- выявить в иноэтнокультурном тексте религиозные парадигмы (иудаизма, ислама);
- проследить литературную антропонимику исследуемого творчества: как она сопряжена с мифологическим мышлением.
Материал исследования. В диссертации будет рассмотрено в аспекте мифопоэтики творчество русских писателей рубежа XX — XXI вв., референтов иноэтнокультуры: Дины Рубиной, Тимура Пулатова, Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Фридриха Горенштейна, Людмилы Улицкой, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса и ряда других авторов, а именно те их произведения, которые вписываются в контекст мифопоэтического и фольклористического анализа.
Объект исследования - иноэтнокультурный текст в русской прозе рубежа XX - XXI вв.
Предмет исследования - фольклорный и мифологический пласт иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей - референтов нерусской культуры.
Рабочая гипотеза. Для создания инонациональной картины мира литература использует фольклорные и мифологические образы, мотивы, прецедентные тексты как наиболее презентативные элементы иноэтнокультурного пространства. Творчество писателей, исследуемое в диссертации, отличает обращение не только к традиционному фольклору и архаической мифологии, но фольклору и мифологии современной повседневности, а также формирование в традиционной парадигматике индивидуально-авторской мифологии (например, у писателя Сухбата Афлатуни).
Актуальность исследования. В литературоведении XX - XXI вв. не иссякает интерес к национальной проблематике литературы (то угасая, то разгораясь с новой силой). Не ослабевает интерес к феномену русской литературы представителей нерусских этносов, к литературе эмигрантской: каков ее статус - русская или инонациональная? Если инонациональная - то что ее делает таковой?
Активное и продуктивное исследование мифологического пратекста русской литературы началось в 80-е гг. XX в. Накопленный исследовательский материал аргументированно свидетельствует, что словесное творчество мифологично изначально: даже без осознанного постулирования писателем обращения к мифу или фольклору, оно вписывается в национальную парадигму культуры. Исследуемое в данной диссертации творчество писателей — референтов иноэтнокультуры - отличает то, что они обращаются к мифологическому пратексту осознанно, педалируют этот аспект своей поэтики, т. к. именно этот пратекст — сгусток аксиологической, культурной, исторической картины мира народа, принадлежность к которому таким образом позиционируют писатели1.
1 «Не следует отвергать право россиян [а также бывших советских граждан. - Э.Ш.] относить себя к разным народам и нациям в этническом их понимании, но нужно знать, что все это есть формы коллективной
Исследуемое творчество отчасти вписывается в явление «мультикультурализма» - в том значении этого понятия, когда этнические традиции, развиваясь, находятся в постоянном диалоге и взаимодействии.
Актуальность исследования вписывается также в проблематику внелитературную: в силу наблюдаемого роста страха чужих и протестных выступлений в обществе назрела настоятельная потребность в кооперации между учеными различных дисциплин для транснациональных сравнительных исследований1.
Новизна исследования. Диссертация вписывается в контекст многочисленных междисциплинарных исследований: по истории литературы, фольклористике, мифологии, культурологии. Писатели Тимур Пулатов, Дина Рубина, ряд факультативно рассмотренных в диссертации имен/текстов обзорно упоминаются в многочисленных исследованиях по проблематике литературы последней трети XX и рубежа веков. До сих пор нет работ по мифопоэтике и фольклоризму творчества этих писателей. Данная работа - одна из первых попыток исследовать иноэтнокультурный текст в русском творчестве писателей - референтов нерусской культуры.
Методологические подходы и методика анализа мифопоэтики иноэтнокультурного текста в русской прозе писателей - референтов нерусской культуры — зиждутся не только на традициях ритуально-мифологической школы. В диссертации применены структурно-типологический, семиотический, сравнительно-исторический, фольклористический способы анализа и интерпретации литературных текстов. Предпринята попытка фольклористического опроса информантов - носителей фольклора определенного географического локуса.
Перспективность исследования — алгоритм и парадигматика данного исследования содержат интенцию для дальнейшего изучения творчества идентичности среди единого и исторически давно существующего российского народа, который, по словам выдающегося русского философа И.А. Ильина, представляет собой "многонародную нацию"» [247: 6].
1 Этой проблематике был посвящен научно-исследовательский семинар «Экстремизм и ксенофобия в молодежной среде сквозь призму транснациональных исследований», прошедший на факультете социологии Санкт-Петербургского университета 16-18 марта 2007 г., а также VII Конгресс этнографов и антропологов России «Многоэтничные общества и государства», прошедший 9-14 июля 2007 г. в г. Саранске. писателей, не вошедших в данную работу, но потенциально «зовущих» к анализу их творчества в заявленном аспекте, это, к примеру, проза Чингиза Гусейнова, Фазиля Искандера, Тимура Зульфикарова, Афанасия Мамедова, Андрея Волоса и др.
Научно-практическое значение диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть учтены при дальнейших исследованиях по мифопоэтике и фольклоризму литературы. Материалы диссертации могут быть использованы в монографических работах по творчеству русских писателей XX -XXI вв., при создании вузовских учебников и учебных пособий как по литературе этого периода, так и по современному фольклору. Положения диссертации найдут применение в практике вузовского и школьного преподавания литературы, МХК, фольклора.
Апробация работы. По теме диссертации были сделаны доклады на региональных и международных конференциях в Москве (МГУ, МПГУ, РГГУ, МГПИ, Государственном институте искусствознания, Государственном республиканском Центре русского фольклора), Санкт-Петербурге (в СПбГУ, Пушкинском Доме), Риге (РГУ), Нижнем Новгороде (НГУ), Волгограде (ВГПУ, ВАГС), Саранске (НИИГН), публиковались статьи в течение 2000-2007 гг., в том числе в журнале «Русская словесность».
Материалы диссертации были апробированы при чтении лекций но курсам «Национальные образы мира», «Миф и литература», «Типология характеров и мотивов' в литературе», «Миф и мировая художественная культура», «Русская литература в контексте мировой», а также «Устное народное творчество» по темам «Фольклор и литература», «Мифология и фольклор» в Московском гуманитарном педагогическом институте (МГПИ).
4. Структура исследования
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, списка информантов и приложения.
Во Введении представлен феномен русской литературы писателей -референтов иноэтнокультуры; освещается теоретическая сторона проблемы: комментируются понятия «фольклор», «фольклоризм», «миф», «мифологизм», «мифопоэтика», ставшие главными терминами/категориями в анализе иноэтнокультурного текста в русской прозе исследуемых авторов; обосновывается актуальность и научная новизна исследования, методологические подходы и методика анализа; определяются цель и задачи исследования; очерчивается степень изученности проблемы; сформулированы научно-практическое значение работы и перспектива дальнейшего исследования; освещена апробация основных положений работы; представлена структура диссертационного исследования.
В главе первой «Ииоэтнокультурныи текст прозы Дины РубиноП» проанализирована в аспекте заявленной проблематики большая часть произведений писателя (более двадцати). Данная глава представляет наиболее полный анализ творчества Рубиной в отечественном литературоведении (в работе польского исследователя И. Мяновской «Дина Рубина: Вчера и сегодня» [203] рассматривается небольшой ряд произведений Рубиной и в ином аспекте, чем в нашем исследовании).
Глава состоит из двух частей, в которых творчество Рубиной представлено как отражение когнитивной картины мира еврейства средствами фольклора и мифологии (как архаической, так и мифологии современной повседневности) -части «Пространство прозы Дины Рубиной» и «Фольклорно-мифологические мотивы прозы Дины Рубиной». Творчество писателя помещено в контекст литературного дискурса, представленного именами писателей как ивритоязычных, идишистских, англоязычных, франкоязычных - словом, переводных: Шолом-Алейхем, Исаак Башевис Зингер, Овсей Дриз, Бернард Маламуд, Эрик-Эммашоэль Шмитт, так и русских, в творчестве которых затронуты проблемы, близкие Рубиной: Лев Толстой, Фридрих Горенштейн, Людмила Улицкая и др., а также в пространство еврейского и русского фольклора, как классического, так и современного.
Глава вторая «Иноэтиокультурнын текст прозы Тимура Пулатова» также монографическая: посвящена анализу мифопоэтики иноэтнокультурного текста в прозе Пулатова. В трех частях главы мы выделили следующие уровни анализа: универсальное своеобразие героя, архетипические истоки которого восходят к суфийской парадигме, распространенной в восточном дискурсе, как фольклорном, так и литературном, - часть «Герой прозы Тимура Пулатова: суфийская парадигма»; национальные образы мира, «сконструированные» как в архаической мифологии и фольклоре, так в мифологии и фольклоре повседневности: дом, двор, ворота, камень, дерево, базар, деньги, еда - часть «Мифологическая и фольклорная мотивика прозы Тимура Пулатова»; элементы поэтики хадисов, коранические мотивы, метаморфизм — часть «Кораническая и суфийская эстетика в поэтике прозы Тимура Пулатова».
Глава третья «Мотив города в "нноэтнотекстс" (Д. Рубина, Т. Пулатов, Сухбата Афлатунн, Ч. Айтматов, А. Волос)» посвящена исследованию концепта города как одного из объединительных начал в творчестве столь разных (по принадлежности к разным поколениям, этническому происхождению, географии проживания) писателей. Глава состоит из трех частей: «Ташкентский текст в прозе Дины Рубиной», где предпринята попытка аргументации культурологического феномена «городского текста», представляющего фольклорно-литературно-культурологический синтез; «Мотив города в прозе Тимура Пулатова», «Мотив города в прозе Сухбата Афлатунн, Ч. Айтматова, А. Волоса» (на материале трех повестей Сухбата Афлатуни - «Глиняные буквы, плывущие яблоки», «Барокко» и «Ташкентский роман», последнего по времени написания романа Ч. Айтматова «Когда падают горы», романа А. Волоса «Хуррамабад») - в этих трех частях сделан акцент на притчевой парадигме в художественном воплощении восточного города (в рамках мифологической параболичности сделано сопоставление с кинотекстом «Древо желания» режиссера Тенгиза Абуладзе), а также на эстетике и поэтике такого феномена, как «ташкентский роман», смысл которого заключается во взаимоотношении Города и автора/повествователя/рассказчика.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся итоги исследования, определяются его историко-литературные и теоретические перспективы.
Библиография включает тексты, упоминаемые в диссертации: фольклорные, литературно-художественные, литературоведческие, фольклористические, культурологические, справочные, энциклопедические, мемуарные и пр. — всего 306 наименований.
Список информантов состоит из 32 имен людей, опрошенных по специально составленному вопроснику, как в электронном, так и в реальном контакте.
Приложение, которое в основном является дополнением к главе третьей, состоит из разделов «Лексика Ташкентского текста», «Персоналии Ташкентского текста» и «Локусы Ташкента и его предместий» - фольклорного и культурологического комментария к роману Рубиной «На солнечной стороне улицы». В приложении представлены не только фольклорные нарративы, анекдоты, песни, прецедентные тексты, фольклорные топонимы, но и литературные тексты (Сухбата Афлатуни, Андрея Волоса).
В четвертый раздел приложения мы вынесли также информацию о теориях мифа и современных его концепциях, использованных нами при анализе мифологической составляющей иноэтнокультурного текста.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе XX - XXI вв."
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Русскую литературу последней трети XX в. и рубежа XX — XXI вв. характеризует появление этнически окрашенного феномена - литературы, в которой присутствует иноэтнокультурный текст, проанализированный в диссертации на материале творчества писателей: Дины Рубиной, Тимура Пулатова, Сухбата Афлатуни, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса и ряда других - в аспекте мифопоэтики. Иноэтнокультурный текст выражен национальными образами мира - еврейского, среднеазиатского -узбекского/таджикского, которые репрезентированы обращением писателей к национальным фольклорно-мифологическим корням. Также мы пронализировали симбиоз советской мифологии (официальные идеологемы, дискурс повседневности) и национальных картин мира, присутствующий в поэтике названных писателей.
Исследование иноэтнокультурного текста позволило воспроизвести национальную аксиологию иных, нерусских, народов (в нашем случае -еврейского, узбекского и др.), транслированную через фольклор и мифологию повседневности.
В диссертации отражен результат фольклористического опроса информантов (настоящих и бывших жителей Ташкента), послужившего репрезентации картины современного фольклора, который органически входит в Ташкентский текст русской культуры (как фольклорно-мифологически-культурологически-литературнын феномен), — им прокомментирован Ташкентский текст прозы Рубиной.
В диссертации при исследовании иноэтнокультурного текста выявлены религиозные парадигмы (иудаизма, ислама), их фольклорно-мифологические составляющие; сделан акцент на литературной антропонимике в творчестве исследуемых авторов, сопряженной с мифологическим мышлением.
Интенция проделанного исследования наполнена смыслом и акцентами, направленными против распространенного стереотипа, пропагандируемого в школьном преподавании, медийном пространстве, повседневном дискурсе, который состоит в том, что русская литература только о русских и созданная только русскими писателями. В пространстве русской литературы есть место творчеству писателей, воссоздающих иноэтнокультурный текст и не являющихся по происхождению русскими.
Алгоритм исследования «инакости» иноэтнокультурного текста (по отношению к русскому) состоит в том, что сам исследователь стоит на позиции другой культуры, других традиций1, имманентно присутствующих в органике нашей работы.
Изучая (и таким образом пропагандируя) другую русскую культуру/литературу (в нашем случае — иноэтнокультурный текст русской литературы), необходимо, на наш взгляд, акцентировать не «несомненное превосходство» русского над нерусским, а разность, инакость - вне шкалы лучший/худший, а в шкале выразительности, образности, связанной с разной менталыюстыо, ценной в контексте мировой культуры и потому обязательной для знакомства с ней человека, ориентированного на гуманизированную интенцию. Этот ракурс диссертации вписывается в контекст междисциплинарных исследований: по истории литературы, фольклористике, мифологии, культурологии.
Примененные структурно-типологический, семиотический, сравнительно-исторический, фольклористический способы анализа и интерпретации литературных текстов при анализе мифопоэтики иноэтнокультурного текста русских писателей позволяют заключить, что иноэтнокультурный текст в русской прозе отличает повышенная семиотичность , мифологнзм, фольклоризм.
Если словесное творчество мифологично изначально: даже без осознанного тем или иным писателем факта присутствия в его творчестве мифологической
1 «В зависимости ог того, на какой позиции находится сам описывающий, то есть, в конечном итоге, от того, к какой культуре он сам принадлежит, определяется и метаязык типологического описания: в основу кладутся оппозиции психологического, религиозного, национального, исторического или социального типа. <.> Язык описания не отделен от языка культуры того общества, к которому принадлежит сам исследователь. Поэтому составляемая им типология характеризует не только описываемый им материал, но и культуру, к которой он принадлежит» [182: 111].
2 Ю.М. Лотман говорит о двух противоборствующих в культуре тенденциях: семиотизации и десемиотизации [Там же: 32]. составляющей, то данное исследование показало, что русские писатели -референты иноэтнокультуры — обращаются к мифологическому пратексту осознанно, педалируют этот аспект своей поэтики, так как он — пратекст и метатекст — сгусток аксиологической, культурной, исторической составляющих картины мира народа, принадлежность к которому таким образом позиционируют писатели.
Исследованное творчество писателей - референтов иноэтнокультуры -вписывается в популярное для рубежа веков направление в литературоведении и культурологии — мультикультурализм. Но не в тот аспект, который предполагает «плавильный котел» народов, культур, литератур, - а в процесс постоянного диалога этнических традиций.
Фольклоризм и мифологизм в данном диссертационном исследовании стали главными категориями при анализе мифопоэтики иноэтнокультурного текста в русской прозе. Будучи намеренным, концептуальным, фольклорно-мифологический синтез становится формой выражения иноэтнокультурного текста в русском прозе означенных авторов: не через язык творчества, а через метаязык культуры. Для исследуемых писателей это важно: не слившись в плавильном котле современного глобализма, а также в той интенции, которая декларировалась в недавнюю эпоху («отмирание наций и народностей и рождение единого советского народа»), они пишут по-русски, но при этом «не расстаются» с той культурой, которая ментально им ближе и которая, собственно, сформировала их экзистенциально-мировоззренческие позиции.
Представленное исследование творчества Дины Рубиной - попытка увидеть в русской прозе картину мира еврейского народа, с которым соотносит себя писатель. Истоки мифологической составляющей творчества Рубиной восходят к иудейской культуре. Еврейская картина мира обнаруживает себя как в латентной форме (доизраильский период творчества писателя), так и акцентированно в период израильского творчества.
Особенность повествования в прозе Дины Рубиной заключается в присутствии рассказчика, она же героиня, - можно сказать, это единый образ, проходящий через всю прозу писателя. «Рассказывание» позволяет писателю привлекать в сюжеты своих произведений не только индивидуальное литературное сочинительство, но и собственно устный дискурс: воспоминания современников, байки, слухи, анекдоты, «подсмотренные» бытовые зарисовки — словом, фольклор. А устный дискурс как ничто другое отражает ментальность народа — поэтому ментефакты еврейской культуры, или национальные образы мира, это то главное, что привлекает внимание писателя Рубиной и становится в ее творчестве сюжетом, деталью, типажом.
Помимо еврейской картины мира, Дина Рубина воссоздала в своей прозе ушедший на рубеже веков культурный текст Ташкента - города детства и юности писателя [52: 352], или города ее доизраильской жизни. Таким образом, в творчестве Рубиной текст выполнил функцию коллективной культурной памяти [181: 88], приобретя черты модели культуры [Там же: 89].
Ташкент, Россия, Израиль — столь отличные друг от друга культурные тексты, воспроизведенные писателем, изначально, в акте своего рождения, «замешаны» на разных «дрожжах»: ислам, православие, иудаизм. Ко всему добавлена советская ментальность — потому что почти все персонажи трех локусов прозы Рубиной - это бывшие советские люди. Какой культуре, цивилизации отдает предпочтение автор? Никакой. Ее позиция над географией, этносом, религией: жить по заповедям Божьим (а он, Бог, един у автора), оставаться Человеком «при любой погоде, и в любых храмах любой веры».
За рамками данной работы остались такие своеобразные еврейские концепты в прозе Рубиной, как «дети», «чудо» и собственно символ еврейства -город Иерусалим. Но, исходя из слов рубинского рассказчика, надо полагать, что родится новый, Иерусалимский, текст — город-роман [52: 369], — тогда появится возможность расширить комментирование картины национальных образов мира в творчестве Дины Рубиной.
Проделанный литературоведческий и культурологический анализ творчества Рубиной, а именно пространства прозы писателя, состоящего из концепта Дом и ряда географических топосов (имеющих взаимоотношения с еврейством), фольклорно-мифологических мотивов: Мессии и мессианства, «антисемитского» текста и образа еврея как проекции мифологии и фольклора повседневности, феномена советской мифологии, специфики героя рубинской прозы, истоки которого обнаружены как в мировом фольклоре (архаическом и современном), так и конкретно в еврейском дискурсе, представляется исследованием мифопоэтики современной русской прозы, в недрах которой складывается иноэтнокультурный текст (с иной, в сравнении с русской, аксиологией, ментальностью, парадигматикой, мотивикой).
Литературоведческий и культурологический анализ прозы Тимура Пулатова: «универсального» героя (образы которого восходят к суфийской парадигме), мифологической и фольклорной мотивики (дом, двор, ворота, камень, дерево, базар, деньги, еда), коранической и суфийской эстетики (воплощенной в кораническом хронотопе, коранических архетипах, суфийской метаморфической интенции, в транспонировании поэтики мусульманских хадисов) - доказывает наличие в прозе писателя иноэтнокультурного текста. В процессе исследования явлен, на наш взгляд, аргументированный «инструментарий» исследования подобного феномена, состоящий в вычленении иной (в сравнении с русской) аксиологии, ментефактов жизни народа (нерусского), религиозно-обрядовых практик, особенностей бытовой повседневности, и даже архитектуры, кухни, имянаречения и проч. Все эти аспекты наиболее очевидно выражаются в мифологическом и фольклорном дискурсе, акцент на который сделан не случайно в данном исследовании: вслед за Тимуром Пулатовым, «растворившим» в своем тексте фольклорно-мифологическую ткань жизни среднеазиатского Востока, мы последовательно анализировали наиболее выразительные и концептуальные для творчества писателя темы, мотивы, парадигмы, позволившие выстроить систему, представшую в виде иноэтнокультурного текста.
Поэтика прозы Тимура Пулатова пронизана духом, образами, эстетикой, философией ислама и его ответвления - суфизма. Почти все произведения писателя (пожалуй, кроме последнего романа «Плавающая Евразия») созданы в то время, когда упоминание Корана и всего, что с ним связано, было «вне закона». Несмотря на то, что религия в советский период была делом «свободы совести», а у всех конфессий, и у мусульманской в том числе, был легальный, официальный статус, — принадлежность к тому или иному вероисповеданию, отправление религиозных ритуалов, почитание святых и пророков не приветствовались официозом; существовала «линия» на неуклонное уменьшение числа верующих путем пропаганды и разъяснительной работы. Но, несмотря на жесткий идеологический диктат, Тимур Пулатов оставался верен культуре своего народа. «Дух Ислама передали мне родители. <.> Ислам пропитал мою душу и наполнил ее на всю жизнь» [223], - признался писатель уже в наши дни.
Пулатов не религиозный проповедник, и не узбекский Эзоп, никакой «тайнописи» в творчестве писателя нет. Однако все пространство его прозы сформировано теми культурными ценностями, истоки которых исторически сложились в контексте мусульманской культуры, на молекулярном уровне пронизывающей бытие и ментальность восточного человека: сакральное отношение к хлебу, непререкаемый авторитет старших, культ семьи, дома, священнодейство с растениями в саду и пр. — все это реальный мусульманский мир, и все это норма. В творчестве Пулатова присутствуют разные грани отношений к этим реалиям и к этой норме.
Аспекты картины мира Востока, запечатленные в произведениях писателя, -дом, двор, дерево/виноградник, еда, деньги, базар, город, ландшафт, мотив превращения, коранические образы — сходятся в одной точке - в герое Пулатова, представленного от детства (всех его стадий) до старости. Путь, проходимый героем, - духовный поиск, сродни поиску дервиша, ставшего архетипом инвариантного героя Пулатова.
Философско-психологическая проза Тимура Пулатова не ставит и не решает проблем сиюминутных, не отвечает злобе дня. Проблемы прозы писателя -вневременные, сопряжены с экзистенциальным кругом вопросов. Помещенные в иноэтнокультурный (по отношению к языку письма) текст, они транслируют самобытность другого мира.
Произведения начала XXI в. Сухбата Афлатуни, Чингиза Айтматова, Андрея Волоса роднит с прозой Д. Рубиной и Т. Пулатова тема уходящего Города. Отношения города с автором/повествователем/рассказчиком мы назвали «ташкентским романом», воспользовавшись, как метафорой, заглавием повести Афлатуни, «вбросившим» в литературный дискурс это словосочетание, ставшее прецедентным, во всяком случае, в сюжетном пространстве участников литературного проекта «Малый шелковый путь».
Исследованный в диссертации иноэтнокультурный текст творчества названных писателей орнаментирован не только фольклорно-мифологическим пратекстом - в недрах этого творчества, в границах традиционных парадигм, рождается своя, индивидуально-авторская мифология (в частности, в прозе Сухбата Афлатуни). Например, вопреки штампу, характерному для русского дискурса (в мифологии городов существует закрепленный за каждым топосом «метеотекст»), Афлатуни воспроизводит иной ландшафт «Ташкентского текста»: в городе Афлатуни восточные купола, южные деревья покрыты снегом. А традиционный для русской мифологии повседневности образ Пушкина уступил место своему «собрату» по «школьному ряду» - Лермонтову.
Если в описании города в прозе Афлатуни, Волоса, Рубиной наблюдается интенция художественного воссоздания «уходящего города» с целью зафиксировать, «сфотографировать», оставить в «семейном альбоме» культуры слепок былой цивилизации, то город в романе Айтматова «Когда падают горы» предстает в виде образа, помещенного к контекст публицистического пафоса от лица негодующего, обвиняющего и оплакивающего уходящий город повествователя.
И Афлатуни, и Волос, и Рубина, создав Город советского «окоёма» как срез ушедшей империи, не только ностальгируют, но и изображают неприглядные, комические аспекты в жизни Города. Айтматовский повествователь идеализирует жизнь уходящего/ушедшего Города.
Проделанное исследование «иноэтнотекста» представляется диссертанту необходимым в свете актуализировавшихся проблем в современном обществе. Тема нелюбви к иностранному, чужеземному не нова как в русской литературе, русском фольклоре, архаическом и современном, так и в русской повседневности. В общечеловеческой «глобальной деревне»1 XXI века моноэтническое пространство просто невозможно, тем более в России," где проживает много разных народов. И если так важна пресловутая самоидентификация, то путь создания величальной автомифологии — мы самые, у нас самое - ложный и разрушительный. Чтобы любить свое и гордиться им, надо знать и уважать чужое, а человек сам разберется: любить/не любить - насильно и тем более через унижение чужого родину любить нельзя заставить.
Изучение, популяризация литературы с иными ценностями, с иными жизненными парадигмами, тем более литературы на русском языке, дело благое и необходимое. Этот посыл и стал главным в подходе к исследованию творчества Д. Рубиной, Т. Пулатова, Сухбата Афлатуни, Ч. Айтматова, А. Волоса. Проанализированные произведения этих писателей и контекст, как литературный, так и фольклорно-мифологический, выявили непреходящий по богатству пласт культуры и литературы, знакомство с которым, если и «не перевернет» наш русский мир, то обогатит наверняка.
1 Выражение Маршалла Маклюэна, канадского литературоведа, «вбросившего» в современный язык «глобальную деревню».
Список научной литературыШафранская, Элеонора Федоровна, диссертация по теме "Русская литература"
1. Айтматов, Ч. Когда падают горы (Вечная невеста): Роман, повесть, новелла / Ч. Айтматов. — СПб.: Азбука-классика, 2006. — 480 с.
2. Арро, В. Дом прибежища: Главы из книги / В. Арро // Звезда. 2002. - № 4. -С. 7-65.
3. Афлатуни, С. Барокко: Рассказ / С. Афлатуни // Звезда. 2006. - № 3. - С. 60-75.
4. Афлатуни, С. Глиняные буквы, плывущие яблоки: Повесть-притча / С. Афлатуни // Октябрь. 2006. - № 9. - С. 3-63.
5. Афлатуни, С. Ташкентский роман: Повесть / С. Афлатуни. СПб.: Амфора, 2006.-239 с.
6. Ахматова, A.A. Соч.: В 2-х т. / A.A. Ахматова. М.: Правда, 1990. - Т. 2. -432 с.
7. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета канонические / В русск. переводе.-М., 1989.- 1221 с.
8. Вместе рекой быть, врозь - ручейками: Узбекские пословицы и поговорки / Пер. Н. Гацунаева; послеслов. Н. Владимировой, Б. Саримсакова. - Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1988. - 224 с.
9. Волос, А.Г. Таджикские игры: Рассказы и повести / А.Г. Волос М.: Зебра Е, 2005.-255 с.
10. Волос, А.Г. Хуррамабад: Роман / А.Г. Волос. М.: Независимая газета, 2000. -432 с.
11. Всемирное остроумие: Сократ, Наполеон, Рабинович. / Сост. и предисл. Л. Шахназаровой. Ташкент: Шарк, 1994. - 528 с.
12. Галич, А. Когда я вернусь: Полн. собр. стихов и песен / А.Галич. -Франкфурт/М.: Посев, 1977.-412 с.
13. Горенштейн, Ф. Псалом: Роман-размышление о четырех казнях Господних / Ф. Горенштейн. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 448 с.
14. Гршценко, А. Вспять: Большое стихотворение в прозе / А. Грищенко // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 5. - Ташкент: Фан, 2004.-С. 55-84.
15. Гроссман, В. Добро Вам!: Из путевых заметок / В. Гроссман // Знамя. 1988. -№ И. -С. 5-62.
16. Довлатов, С.Д. Собр. прозы: В 3-х т. / С.Д. Довлатов. СПб.: Лимбус-пресс, 1993.-Т. I.-C. 25- 172.
17. Еврейские народные сказки, предания, былички, рассказы, анекдоты, собр. Е.С. Райзе / Сост. и предисл. В. Дымшица. СПб.: Симпозиум, 1999. -496 с.
18. Ерофеев, В.В. Москва Петушки: Поэма / В.В.Ерофеев. - М.: Интербук, 1990.- 128 с.
19. Зингер, И.Б. Враги. История любви: Роман / И.Б. Зингер; пер. С. Свердлова. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001. - 360 с.
20. Зингер, И.Б. День исполнения желаний: Рассказы о мальчике, выросшем в Варшаве / И.Б. Зингер; пер. с англ. О. Мяэотс. -М.: Самокат, 2005. 128 с.
21. Зингер, И.Б. Люблинский штукарь: Повесть / И.Б.Зингер; пер. с идиша А. Эппеля. М.: Иностранка; Б.С.Г.-ПРЕСС, 2000. - 265 с.
22. Зингер, И.Б. Мешуга: Роман / И.Б. Зингер; под ред. А. Славинской, пер. с англ. С. Свердлова. СПб.: Амфора, 2001. - 311 с.
23. Зингер, И.Б. Раб: Роман / И.Б. Зингер; пер. с англ. М.: Текст, 2006. - 382 с.
24. Зингер, И.Б. Раскаявшийся: Роман / И.Б. Зингер; пер. с англ. В. Ананьева. -М.: Текст, 2006.- 189 с.
25. Зингер, И.Б. Суббота в Лиссабоне: Рассказы / И.Б. Зингер; пер. с англ. И. Брумберг. СПб.: Амфора, 2004. - 380 с.
26. Зингер, И.Б. Шоша: Роман / И.Б. Зингер; пер с англ. Н. Брумберг. СПб.: Амфора, 2002. - 364 с.27.3ульфикаров, Т.К. Лазоревый странник: Песнопения Руси и Азии: стихотворения, поэмы, притчи / Т.К. Зульфикаров. — М.: Молодая гвардия, 2002.-543 с.
27. Караван чудес: Узбекские народные сказки / Пер. с узб.; под общ. ред., вступит, ст. М. Шевердина. Ташкент: Изд-во литер, и иск. им. Г. Гуляма, 1984.-253 с.
28. Книжкин дом: Хрестоматия для детского и семейного чтения. М.: Дом еврейской книги, 2004. - 696 с.
29. Книжник, М.Ю. Готовальня: Стихи /М. Книжник. — Киев: Рад. пысьмэннык, 1991.-50 с.
30. Книжник, М. Записная книга / М. Книжник // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 4. - Ташкент: Фан, 2003. - С. 115-132.
31. Книжник, М. Я стану старожилом. /М. Книжник // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 2. - М.: Издательство Руслана Элишша, 2001. -С. 16.
32. Коран / Пер. с араб. акад. И.Ю. Крачковского. М.: Раритет, 1990. - 528 с.34' Коран / Пер. смыслов и коммент. Иман Валерии Пороховой. — М.: РИПОЛ классик, 2004. 800 с.
33. Литература Агады: Библиотека еврейской классики / Сост. и ред. И. Бегун, X. Корзакова. М.: ДААТ / Знание, 1999. - 384 с.
34. Маламуд, Б. Еврей-птица: Рассказ / Б. Маламуд; пер. В. Голышева // Б. Маламуд. Ангел Левин: Рассказы / Б. Маламуд. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2005. -С.430-445.
35. Маламуд, Б. Мастер: Роман / Б. Маламуд; пер. с англ. М.: Лехаим, 2002. -336 с.
36. Михайличенко, Е., Несис, Ю. Иерусалимский синдром: Рассказ / Е. Михайличенко, Ю. Несис // Ориентация на местности: Русско-израильская литература 90-х гг.: Антология. Иерусалим, 2001. - С. 226-241.
37. Нахшаби, Зийа ад-Дин. Книга,попугая (Тути-наме) / 3. Нахшаби; подгот. к изд., предисл. и примеч. Д.Е. Бертельса, пер. с перс. Е.Э. Бертельса. М., Наука, 1979.-348 с.
38. Неверов, A.C. Ташкент город хлебный: Повесть / A.C. Неверов. - М., 1961. -111с.
39. Немецкие шванки и народные книги XVI века. -М.: Худ. лит., 1990. -639 с. 42.Олейников, A.M. Боевые дни: Рассказы, очерки и приключения /
40. A.M. Олейников; сост. и сопровод. ст. А.Н. Олейникова. — JI.: Дет. лит., 1991. —159 с.
41. Пелевин, В. Шлем ужаса: Креатифф о Тесее и Минотавре / В. Пелевин. М.: Открытый мир, 2005. - 224 с.
42. Пулатов, Т.Н. Жизнеописание строптивого бухарца: Роман, повести / Т.Н. Пулатов. Ташкент: Изд-во литер, и иск-ва им. Г. Гуляма, 1982. - 487 с.
43. Пулатов, Т.Н. Собр. соч.: В 4-х т. / Т.Н. Пулатов. М., 1995-1999. - Т. 1. -432 е.; Т. 2. - 448 е.; Т. 3. - 448 е.; Т. 4. - 592 с.
44. Распутин, В. Дочь Ивана, мать Ивана: Повесть / В. Распутин // Наш современник. 2003. - № 11. - С. 3-100.
45. Рубина, Д.И. Во вратах твоих: Повесть / Д.И. Рубина. М.: Эксмо, 2005.160 с.
46. Рубина, Д.И. Вот идет Мессия!: Роман, эссе / Д.И. Рубина. СПб: Ретро, 2001.-429 с.
47. Рубина, Д.И. Дом за зеленой калиткой: Рассказы / Д.И. Рубина. М.: Вагриус, 2002. - 240 с.
48. Рубина, Д.И. Итак, мы продолжаем!.: Рассказ / Д.И. Рубина // Ориентация на местности. Русско-израильская литература 90-х гг. Антология. Иерусалим,2001.-С. 250-257.
49. Рубина, Д.И. На Верхней Масловке: Повести и рассказы / Д.И. Рубина. М.: Эксмо, 2004. - 336 с.
50. Рубина, Д.И. На солнечной стороне улицы: Роман / Д.И. Рубина. М.: Эксмо, 2006. - 432 с.
51. Рубина, Д.И. Последний кабан из лесов Понтеведра: Роман, повесть / Д.И. Рубина. СПб.: Симпозиум, 2000. - 316 с.
52. Рубина, Д.И. Синдикат: Роман-комикс / Д.И. Рубина. М.: Эксмо, 2004. -576 с.
53. Рубина, Д.И. Холодная весна в Провансе: Повести, рассказы / Д.И. Рубина. -М.: Эксмо, 2005.-336 с.
54. Рубина, Д.И. Чем бы заняться?: Сб. рассказов / Д.И. Рубина. СПб.: Ретро,2002. 272 с.
55. Сказочные истории раби Нахмана из Браслава / Пер. с идиша р. А. Ганца. Иерусалим: Шамир, 5749 / 1989. - 332 с.
56. Средневековая персидская проза / Сост. НЛО. Чалисовой; предисл. Н.Б. Кондыревой, пер. с перс. М.: Правда, 1986. - 480 с.
57. Толстая, Е. Западно-восточный диван-кровать: Рассказы / Е. Толстая. — М.: Новое литературное обозрение, 2003. 224 с.
58. Толстая, Т.Н. Кысь: Роман, эссе / Т.Н. Толстая. М.: Эксмо, 2004. - 368 с.
59. Толстой, JI.H. Полн. собр. соч.: В 90 т. / Л.Н.Толстой; под общ. ред.
60. B.Г. Черткова. М.; Л.: Худож. литература, 1928-1958. - Т. 32. - 1933. - 544 с.
61. Улицкая, JI.E. Даниэль Штайн, переводчик: Роман / Л.Е. Улицкая. М.: Эксмо, 2006. - 528 с.
62. Шагал, М. Моя жизнь / М. Шагал; пер. с франц. Н. Мавлевич. СПб.: Азбука-классика, 2004. - 256 с.
63. Шалев, М. Русский роман: Роман / М. Шалев; пер. с иврита Р. Нудельмана, А. Фурман. М.: Текст, 2006. - 638 с.
64. Шимон, Р. Фрагменты из трактата ЗОГАР / Р. Шимон; сост., статьи, примеч. и коммент., кабб. коммент. М.А. Кравцова, пер. с арамейск. М.: Гнозис, 1994.-336 с.
65. Шмитт, Э.Э. Евангелие от Пилата: Роман / Э.Э. Шмитт; пер. с франц. A.M. Григорьева. М.: Издательство ACT, 2003. - 270 с.
66. Шмитт, Э.Э. Секта эгоистов: Роман, пьеса, повести / Э.Э. Шмитт; пер. с франц. А. Браиловского, Г. Соловьевой, Д. Мудролюбовой. СПб.: Азбука-классика, 2005. - 416 с.
67. Шолом-Алейхем. Кровавая шутка: Роман / Шолом-Алейхем; под ред. Д. Карельского, пер. с идиша. М.: Лехаим, 2002. - 560 с.
68. Штокман, И.Г. Дворы: Повести. Рассказы. Стихотворения / И.Г. Штокман. -М.: ИТРК, 2004.-352 с.
69. Шуф, П. Мама Хлебушкина: Поэма / П. Шуф // Пионер Востока. 1979. -Январь. - № 5-6.
70. Исследования: монографии, статьи
71. Абашев, В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века / В. Абашеев. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000. - 404 с.
72. Абдуллаев, Е. Оправдание Города / Е. Абдуллаев // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 2— М.: Издательство Руслана Элинина, 2001.-С. 68-74.
73. Абдуллаев, Е. Русские в Узбекистане 2000-х гг.: Идентичность в условиях демодернизации / Е. Абдуллаев // Диаспоры. 2006. - № 2. - С. 6-35.
74. Абдуллаев, Е. Современная русская литература Средней Азии: случай многослойного отражения / Е. Абдуллаев // Вопр. литературы,- 2006. № 3. -С. 320-326.
75. Аверинцев, С.С. Архетнпы / С.С. Аверинцев // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1.-С. 110-111.
76. Аверинцев, С.С. Мессня / С.С. Аверинцев // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. М.: Сов. энциклопедия, 1992. - Т. 2. - С. 140-143.
77. Аверинцев, С.С. Ной / С.С. Аверинцев // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. М.: Сов. энциклопедия, 1992. - Т. 2. - С. 224-226.
78. Адоньева, С.Б. Прагматика фольклора / С.Б. Адоньева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ЗАО ТИД «Амфора», 2004. - 312 с.
79. Амин, Э. Внятность повседневного города / Э. Амин, Н. Трифт; пер. с англ. С. Баньковской // Логос. 2002. - № 3-4. - С. 209-233.
80. Андре, Т. Исламские мистики / Т. Андре; пер. с нем. В.Г. Ноткиной. -СПб.: Евразия, 2003. 240 с.
81. Андреева, C.B. Об одной тенденции в современной речевой коммуникации (подчеркивание неофициальности, усиление контакта с аудиторией) / C.B. Андреева // http://vv\v\v.russcomm.ru/rcaprojects/rca-konf-2004/
82. Аннинский, JI.A. Национальная специфика литературы — анахронизм или неотъемлемое качество / JI. Аннинский, Г. Гачев, В. Голышев, Ю. Кублановский, В. Курбатов, А. Эбаноидзе, М. Эпштейн // Знамя. 2000. -№9.-С. 202-213.
83. Аннинский, JI.A. Русские плюс. / Л.А.Аннинский. М.: Алгоритм, 2001.-384 с.
84. Апчинская, Н. Предисловие / Н. Апчинская // М. Шагал. Моя жизнь / Пер. с франц. Н. Мавлевич. СПб.: Азбука-классика, 2004. - С. 5-30.
85. Армстронг, К. Краткая история мифа / К. Армстронг; пер. с англ. А. Блейз. М.: Открытый мир, 2005. - 160 с.
86. Афанасьев, А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х т. / А.Н. Афанасьев. М.: Современный писатель, 1995. - Т. 1. - 416 е.; Т. 2. - 398 е.; Т. 3.-416 с.
87. Барт, Р. Избранные труды. Семиотика. Поэтика / Р. Барт; пер. с франц.;сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 1994. - 615 с.88
88. Барт, Р. Мифологии / Р. Барт; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. - 320 с.89
89. Бартольд, В.В. Культура мусульманства / В.В. Бартольд. М.: Леном, 1998.- 112 с.
90. Баруздин, С. Легенды, уходящие в сегодня / С. Баруздин // Литературная газета. 1983. - 19 января.
91. Басилов, В.Н. Мусульманская мифология / В.Н. Басилов // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1992.-T. 2.-С. 183-187.
92. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М.М. Бахтин // М.М. Бахтин. Литературно-критические статьи / М.М. Бахтин. М.: Худож. литература, 1986. - С. 121-290.
93. Башляр, Г. Дом от погреба до чердака. Смысл жилища / Г. Башляр // Логос. 2002. - № 3-4. - С. 109-134.
94. Белова, О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции / О.В. Белова. М.: Индрик, 2005. - 288 с.
95. Бёрк, М. Среди дервишей / М. Бёрк; пер с англ. М.: Сампо, 2002. - 192 с.
96. Битов, А. Романтизм и опыт / А. Битов // Т.И. Пулатов. Собр. соч.: В 4-х т. M., 1995-1999. - Т. 4. - С. 334-351.
97. Богданов, К.А. Деньги в фольклоре / К.А. Богданов. СПб.: Белл, 1995. -128 с.
98. Богданов, К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности / К.А. Богданов. — СПб.: Искусство — СПб., 2001.-438 с.
99. Большакова, A.IO. Менталитет / A.IO. Большакова // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. — М.: Intrada (ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения), 2004. — С. 250-251.
100. Бубер, М. Беседы о еврействе / М. Бубер // М. Бубер. Избранные произведения / М. Бубер; пер. с нем. II. Бартман, А. Гинзай, Ф. Гурфинкель. -Иерусалим: Библиотека Алия, 1989. С. 31-72.
101. Бушуева, Н., Корнеева, О. В «-станах» шутят по-особенному Передача «Люди и общество», 01.04.2003. / II. Бушуева, О. Корнеева // Немецкая волна //http://www.kub.kz/article.php?sid=3455
102. Быков, Д. Камера переезжает / Д. Быков // Новый мир. — 2000. — № 7. С. 200-204.
103. Вайскопф, М. «Мы были как во сне»: Тема исхода в литературе русского Израиля / М. Вайскопф // Новое литературное обозрение. 2001. - № 47. - С. 241-252.
104. Вайскопф, М. Семья без урода. Образ еврея в литературе русского романтизма / М. Вайскопф // М. Вайскопф. Птица тройка и колесница души: Работы 1978-2003 гг. / М. Вайскопф. М.: НЛО, 2003. - С. 300-334.
105. Вамбери, А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери; под ред., предисл. В.А. Ромодина, пер. с нем. З.Д. Голубевой. М.: Вост. лит., 2003. -320 с.
106. Бахтин, Ю.Б. Жизнь пророка Мухаммеда / Ю.Б. Бахтин. Ташкент, 1991. - 167 с.
107. Вихнович, В.Л. Иудаизм / В.Л. Вихнович. СПб.: Питер, 2006. - 224 с.
108. Вихнович, В.Л. Хасидизм / В.Л. Вихнович // Религии пародов современной России: Словарь / Ред-кол.: М.П. Мчедлов (отв. ред.), Ю.И. Аверьянов, В.Н. Басилов и др. М.: Республика, 2002. - С. 538-541.
109. Войнович, В.Н. Замысел / В.Н. Войнович. М.: Эксмо, 2004. - 544 с.
110. Воронина, В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина.-М., 1951.- 168 с.
111. Восток Запад: пространство русской литературы и фольклора: Материалы Втор. Междунар. науч. конф. (заочной), посвящ. 80-лет. Д.Н. Медриша. Волгоград, 16 апреля 2006 г. - Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2006. - 793 с.
112. Восток Запад: пространство русской литературы: Материалы Междунар. науч. конф. (заочной). Волгоград, 25 ноября 2004 г. - Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2005. - 522 с.
113. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С.Выготский. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.-480 с.
114. Вяльцев, А. Женщина перед смертью: Повесть Дины Рубиной в журнале «Знамя» / А. Вяльцев // Независимая газета. 2000. - 16 марта.
115. Гаспаров, M.JI. Поэтика / M.JI. Гаспаров // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2003.- С. 786-787.
116. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира // Вопр. литературы 1987. - Л"« 10.-С. 156-191.
117. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира. Кавказ: Интеллектуальные путешествия из России в Грузию, Азербайджан и Армению / Г.Д. Гачев. — М.: Издательский сервис, 2002. 416 с.
118. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. Космос Ислама: Интеллектуальные путешествия / Г.Д. Гачев. — М.: Издательский сервис, 2002. 784 с.
119. Геннеп, А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / А. ван Геннеп; пер. с франц. Ю.В. Ивановой, Л.В. Покровской, поел. Ю.В. Ивановой. М.: Вост. лит., 2002. - 198 с.
120. Герд, A.C. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия / A.C. Герд. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. - 457 с.
121. Голендер, Б.А. Анна Ахматова: всегда помню и люблю / Б.А. Голендер // Uzbekistan Airways. 2005. - № 2. - С. 65-67.
122. Голендер, Б.А. Главная улица старого города / Б.А. Голендер // Экономическое обозрение. 1997. -№ 11.
123. Голендер, Б.А. Коммерсанты старого Ташкента / Б.А. Голендер // Экономическое обозрение. 1997. — № 26.
124. Голендер, Б.А. Отражения в зеркале истории, или Экскурсия с Голендером / Б.А. Голендер; публикация Т. Петренко // Bella Terra. 2005. - № 8.-С. 18-24.
125. Голендер, Б.А. Роковые гастроли / Б.А. Голендер // Bella Terra. — 2005. — № 9. С. 61-65.
126. Голендер, Б.А. Там, где шумел Воскресенский базар / Б.А. Голендер // Экономическое обозрение. 1997. — № 22.
127. Голендер, Б.А. Ташкент / Б.А. Голендер // http://tashkent.freenet.uz
128. Грейвс, Р. Иудейские мифы. Книга Бытия / Р. Грейвс, Р. Патай; пер. с англ. Л. Володарской, послесл. X. Бен-Иакова. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2002. - 463 с.
129. Гринцер, П.А. Аватара // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев.-М.: Сов. энциклопедия, 1991.-Т. 1.-С. 24-25.
130. Губман, Б.Л. Ценности / Б.Л. Губман // Культурология. XX век «Ц» //http://\v\v\v/philosophi.ru/edu/ref/enz/z-ch-sh.htm
131. Губогло, М.Н. Наша родина русский язык / М.Н. Губогло // VII Конгресс этнографов и антропологов России: Доклады и выступления; Саранск, 9-14 июля 2007 г. - Саранск, 2007. - С. 31-36.
132. Гусев, В.Е. Фольклоризм / В.Е. Гусев // Литературный энциклопедический словарь; под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.- М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 469.
133. Гусейнов, Ч. Русскость нерусских / Ч.Гусейнов // Вопр. литературы. -2006.2.-С. 223-261.
134. Далгат, У.Б. Этнопоэтика в русской прозе 20-90 гг. XX в.: Экскурсы / У.Б. Далгат. М.: ИМЛИ РАН, 2004. - 212 с.
135. Дапдес, А. Фольклор: семиотика и/или психоанализ: Сб. ст. / А. Дандес; пер. с англ., сост. A.C. Архипова. — М.: Вост. лит., 2003. 279 с.
136. Дементьев, В.В. Лингвистический аспект светскости / В.В.Дементьев // http://\v\v\v.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y 1999
137. Джаббаров, И. Общественный прогресс, быт и религия: Социально-философское исследование на материалах УзССР / И. Джаббаров. Ташкент, 1973.-224 с.
138. Джанумов, С.А. Фольклоризм / С.А. Джанумов // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: НПК «Интелвак», 2003.-С. 1143.
139. Довлатов, С.Д. Речь без повода. или Колонки редактора/ С.Д. Довлатов. М.: Махаон, 2006. - 432 с.
140. Дубнов, С.М. Краткая история евреев / С.М.Дубнов. М.: В. Шевчук, 2001.-448 с.
141. Дудаков, С.Ю. История одного мифа: Очерки русской литературы XIX -XX вв. / С.Ю. Дудаков. М.: Наука, 1993. - 282 с.
142. Золотцев, С. «Не сделавший главного дела»: о повести Т. Пулатова «Завсегдатай / С. Золотцев // Знамя. 1980. - № 3. - С. 247-249.
143. Ибрагимов, 3. Узбекистан: колыбель калечит детей / 3. Ибрагимов // http://\v\v\v.L\vpr.net/?apcstate=henirca2003<fel=ru«&.s=f«feo=l 76378
144. Иванов, В.В. Метаморфозы / В.В.Иванов // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1992. -Т. 2.-С. 147-149.
145. Ильин, И.П. Пастиш / И.П.Ильин // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М.: Intrada (ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения), 2004. — С. 308-309.
146. Ионова, Ю.В. О культе деревьев в Корее / Ю.В. Ионова // Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. М.: Наука, 1986. - С. 216-229.
147. Иудаизм // http://dog-info.narod.ru/iuda.htm
148. Кабакова, Г.И. Спиридуш / Г.И.Кабакова // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. Энциклопедия, 1991. - С. 511.
149. Кагаров, Э. Ташкент: Комментарии к прописным истинам. / Э. Кагаров // www.ferghana.ru/tashkent/erken. html
150. Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа; пер. с франц. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2003. - 296 с.
151. Кардави, Ю. Дозволенное и запретное в исламе / Ю. Кардави. М.: Андалус, 2004. - 336 с.
152. Кацис, JI. Кровавый навет и русская мысль: Историко-теологическое исследование дела Бейлиса / JI. Кацис. М.: Мосты культуры, 2006. -Иерусалим: Гешарим, 5766.-495 с.
153. Кацис, JI. Русская эсхатология и русская литература / JT. Кацис. М.: ОГИ, 2000.-656 с.
154. Кёйпер, Ф.Б.Я. Космогония и зачатие: к постановке вопроса / Ф.Б.Я. Кёйпер // Ф.Б.Я. Кёйпер. Труды по ведийской мифологии / Ф.Б.Я. Кёйпер; пер. с англ., предисл. Т.Я. Елизаренковой. М.: Наука, 1986. -С.112-146.
155. Клакхон, К. Мифы и обряды: общая теория / К. Клакхон // Обрядовая теория мифа: Сб. науч. трудов / Сост., перевод, предисл. и примеч. АЛО. Рахманина. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. -С. 157-176.
156. Клубков, П.А. «Языковые игры» и малые жанры городского фольклора / П.А. Клубков // Современный городской фольклор. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003. - С. 645-664.
157. Козлов, A.C. Миф / A.C. Козлов // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. — М.: Intrada (ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения), 2004. С. 257-258.
158. Козлов, A.C. Мифема, мифологема / А.С.Козлов // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М.: Intrada (ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения), 2004. - С. 258.
159. Копылова, В. Детство. Отрочество. Ташкент / В. Копылова // Московский Комсомолец. 2006. - 5 мая.
160. Кормер, В.Ф. О карнавализации как генезисе «двойного сознания» / В.Ф. Кормер//Вопр. философии.-1991.-№ 1.-С. 166-185.
161. Косиков, Г.К. Зарубежное литературоведение и теоретические проблемы науки о литературе / Г.К. Косиков // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX XX вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г.К. Косикова. - М.: МГУ, 1987.-С. 5-38.
162. Косиков, Г.К. Идеология. Коннотация. Текст / Г.К. Косиков // Р.Барт. S/Z. / Пер. с фран.; под ред. Г.К. Косикова. -М.: Эдиторнал УРСС, 2001. С. 829.
163. Костюхин, Е.А. Введение / Е.А. Костюхин // Б.Н Путилов. Фольклор и народная культура; In memoriam. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. -С. 9-16.
164. Кравцов, М.А. Книга о Праведнике / М.А.Кравцов // Раби Шимон. Фрагменты из трактата ЗОГАР / Пер. с арамеиск., сост., статьи, примеч. и коммент., кабб. коммент. М.А. Кравцова. М.: Гнозис, 1994. - С. 197-253.
165. Кудряшов, А. Вымирающие игры ушедшего детства / А. Кудряшов, Д. Кислов // http://www. ferghana.ru/comments.
166. Кумок, Я. Трудная судьба «Мастера и Маргариты»: К 60-летию создания знаменитого романа / Я. Кумок // Русский еврей. — 2000. № 2-3 // http://vv\v\v.vestnik.com/issues/2000/1205/koi/kumok.htm
167. Курбанова, Д. «Несмотря на явное оскудение, Алайский базар остается визитной карточкой Ташкента.» / Д. Курбанова // Фергана.Ру. 10.10.2006.
168. Ларионова, М.Ч. Архетипическая парадигма: миф, сказка обряд в русской литературе XIX века: дис. :. д-ра филол. наук / Ларионова Марина Ченгаровна. Волгоград, 2006. - 344 с.
169. Левин, Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю.И.Левин. М.: Языки рус. культуры, 1998. 819 с.
170. Леви-Строс, К. Мифологики: В 4-х т. / К. Леви-Строс. Т. 2. - От меда к пеплу. - М., СПб., 2000. - 442 с.
171. Леви-Строс, К. Печальные тропики / К. Леви-Строс; пер. с франц. -Львов: Инициатива; М.: ООО «Издательство ACT», 1999. 576 с.
172. Леви-Строс, К. Структура мифов / К. Леви-Строс // К. Леви-Строс. Структурная антропология / К. Леви-Строс. М., 1983. - С. 183-207.
173. Лихачев, Д.С. Смех в древней Руси / Д.С.Лихачев, A.M. Панченко, Н.В. Понырко. Л.: Наука, 1984. - 295 с.
174. Лопатко, Л .П. Базары Ташкента / Л.П. Лопатко // http://www.orexca.com/ru s/bazaarstashkent.shtml
175. Лотман, Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города / Ю.М. Лотман // Ю.М. Лотман. Избранные статьи: В 3-х т. / Ю.М. Лотман. -Таллинн: Александра, 1992. Т. 2. - С. 9-21.
176. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры / Ю.М. Лотман; сост. Р.Г. Григорьева, пред. С.М. Даниэля. СПб.: Академический проект, 2002. -544 с.
177. Лотман, Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия / Ю.М. Лотман // Ю.М. Лотман. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю.М. Лотман. — М.: Просвещение, 1988. — С. 325-349.
178. Макаревич, А. Занимательная наркология / А. Макаревич; коммент. М. Гарбера. М.: Махаон, 2006. - 160 с.
179. Максуд, Р. Ислам / Р.Максуд; пер. с англ. В.Новикова. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 304 с.
180. Малиновский, Б. Научная теория культуры / Б. Малиновский; пер. с анг. И.В. Утехина, сост. и вступ. ст. А.К. Байбурина. -М.: ОГИ, 2005. 184 с.
181. Мамаднабиева, М. Вначале была глина / М. Маматнабиева //http://archive.t ravel .ru/uzbekistan/71713 .html
182. Мандельштам, О.Э. Разговор о Данте / О.Э. Мандельштам // О.Э. Мандельштам. Слово и культура: Статьи / О.Э. Мандельштам. — М.: Советский писатель, 1987.-С. 108-152.
183. Махмудов, K.M. Блюда узбекской кухни / K.M. Махмудов, Ш.Г. Салихов. — Ташкент, 1983.-73 с.
184. Махмудов, K.M. Пловы на любой вкус / K.M. Махмудов. Ташкент: Мехнат, 1987.- 156 с.
185. Медриш, Д.Н. Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики / Д.Н. Медриш; под ред. Б.Ф. Егорова. Саратов, 1980. - 296 с.
186. Меламед, А. Кто же папа «телефота»?' / А. Меламед // http://vvwvv.centrasia.ru
187. Мелетинский, Е.М. Герой волшебной сказки / Е.М. Мелетинский. М., СПб.: Академия исследований культуры; Традиция, 2005.-240 с.
188. Мелетинский, Е.М. Избранные статьи. Воспоминания / Е.М. Мелетинский; отв. ред. Е.С. Новик. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998.-576 с.
189. Мелетинский, Е.М. Мифология и фольклор в трудах К. Леви-Строса / Е.М. Мелетинский // К. Леви-Строс. Структурная антропология. М., 1983. - С. 467-522.
190. Мелетинский, Е.М. Норны / Е.М. Мелетинский // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — М.: Сов. энциклопедия, 1992. — Т. 2. С. 226.
191. Мелетинский, Е.М. От мифа к литературе: Курс лекций «Теория мифа и историческая поэтика» / Е.М. Мелетинский. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001.- 170 с.
192. Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. М.: Наука, 1976. -407 с.
193. Мец, А. Мусульманский Ренессанс / А. Мец; пер. с нем., предисл., библиогр. и указатель Д.Е. Бертельса. М.: ВиМ, 1996. - 544 с.
194. Мосс, М. Общества.- Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / М. Мосс; пер. с франц. М.: Вост. литература; 1996. - 360 с.
195. Муратханов, В. К вопросу о «Школе» / В. Муратханов // Малыйшелковый путь: Новый альманах поэзии. Вып. 5. - Ташкент: Фан, 2004. - С.117.120. 202 '
196. Муратханов, В. Первородный грех колониста. Русские в Средней Азии /
197. Неклюдов, С.Ю. Структура и функция мифа / С.Ю. Неклюдов // Современная российская мифология / Сост. М.В. Ахметова. — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. С. 9-26.
198. Панченко, A.A. Фольклористика как наука / A.A. Панченко // Первый всероссийский конгресс фольклористов: Сб. докладов. М.: Гос. респуб. центр русского фольклора, 2005. - Т. 1. - С. 72-95.
199. Панченко, A.M. Юродивые на Руси. Петр I и веротерпимость: Главы из рукописи Александра Панченко «Образы и подобия» / A.M. Панченко. JI., 1990.-34 с.
200. Патай, Р. Иудейская богиня / Р. Патай; пер. с англ. Л.И. Володарской. -Екатеринбург: У-Фактория, 2005.-368 с.
201. Петров, В.М. Типология картин мира / В.М. Петров // Цветущая сложность: Разнообразие картин мира и художественных предпочтений субкультур и этносов / Науч. ред. К.Б. Соколов; ред-сост. П.Ю. Черносвитов. -СПб.: Алетейя, 2004. 175-198.
202. Печейкин, В. Тезиковка / В. Печейкин // http://bloxa.ru/964/
203. Пешков, И. Риторика мифа в жанре поэтики / И.Пешков // О.М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. - С. 434445.
204. Пикач, А. Постигая богатства души человеческой / А. Пикач, Н. Цыганова // Т.Н. Пулатов. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1995-1999. - Т. 4. - С. 425-437.
205. Пиотровский, М.Б. Махди / М.Б.Пиотровский // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1992. -Т. 2.-С. 126.
206. Пиотровский, М.Б. Салих / М.Б.Пиотровский // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — М.: Сов. энциклопедия, 1992. -Т. 2.-С. 397.
207. Пиотровский, М.Б. Сулайман / М.Б. Пиотровский // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1992. -Т. 2.-С. 475.
208. Плетнер, В. О Тимуре Пулатове: Авторография из цикла «Русскчя Аз1я» / В. Плетнер // Т.Н. Пулатов. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1995-1999. - Т. 4. - С. 130-135.
209. Подпоренко, Ю.В. Бесправен, но востребован: Русский язык в Узбекистане / Ю.В. Подпоренко // Дружба народов. 2001. - № 12. - С. 176— 185.
210. Поликарпов, B.C. Феномен еврейской цивилизации / В.С.Поликарпов, И.В. Лысак. Ростов-на-Дону: Владис, 2004. - 416 с.
211. Полинская, М.С. Хикулео / М.С. Полинская // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский.-М.: Сов. Энциклопедия, 1991. -С. 590.
212. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.-365 с.
213. Пропп, В.Я. Проблемы комизма и смеха / В.Я. Пропп. — М.: Искусство, 1976.- 184 с.
214. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М.: Паука, 1976.-326 с.
215. Пулатов, Т.И. Ислам наполнил мою душу на всю жизнь! / Т.И. Пулатов // http:wwv.islam.ru/pressclub/gost/pulatov
216. Путилов, Б.II. Фольклор и народная культура / Б.Н. Путилов; In memoriam. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. - 464 с.
217. Пятибратова, А. Киргизия: молодежь все чаще употребляет традиционный «легкий наркотик» насвай / А. Пятибратова; 22.10.2006. // http:/Av\v\v.fergliana.ru/article.php?id:=4657
218. Радин, П. Трикстер: Исследования мифов северо-американских индейцев / П. Радин; коммен. К.Г. Юнга и К.К. Кереньи, пер. с англ. В.В. Кирющенко. -СПб: Евразия, 1999. 288 с.
219. Разлогов, К.Э. Множественная идентичность в условиях глобализации / К.Э. Разлогов // VII Конгресс этнографов и антропологов России: Доклады и выступления; Саранск, 9-14 июля 2007 г. Саранск, 2007. - С. 11-14.
220. Расул, X. Закирджан Фуркат: вступ. статья / X. Расул // Фуркат: Избранное. Ташкент: Изд. ЦК КП Узбекистана, 1981.-С. 3-5.
221. Родионов, М.А. Ислам классический / М.А. Родионов. СПб.: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2003. - 224 с.
222. Русская литература в Средней Азии: пути и перспективы: Материалы Круглого стола с участием литераторов Узбекистана и Казахстана // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. — Вып. 5. — Ташкент: Фан, 2004. С. 120-130.
223. Сарнов, Б. Паш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма / Б. Сарнов. М.: Материк, 2002. - 600 с.
224. Семенов, Н. Для нас он по-прежнему Робертино / Н. Семенов // АиФ Долгожитель. 2002. - № 8. - 17 октября.
225. Силантьев, И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев. М.: Языки славянской культуры, 2004. -296 с.
226. Смирнов, Ю.Б. Народность / Ю.Б. Смирнов // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. - С. 235-236.
227. Соотношение рационального и эмоционального в литературе и фольклоре: Материалы Междунар. науч. конф. Волгоград, 21-24 окт. 2003 г.: В 2 ч. Волгоград: Перемена, 2004. - Ч. 1. - 272 с.
228. Спивак, М. Владимир Ильич Ленин в Институте мозга / М. Спивак // http://vv\v\v.plexus.org.il/texts/spivaklenin.htm
229. Стеблин-Каменский, М.И. Историческая поэтика / М.И. Стеблин-Каменский. Л.: Изд.во Ленингр. ун-та, 1978. - 174 с.
230. Стеблин-Каменский, М.И. Миф / М.И. Стеблин-Каменский. Л.: Наука, 1976.- 104 с.
231. Султанович, 3. Живая связь / З.Султанович // http://wwv.machanaim.org/hi story/sultanovich
232. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор; пер. с англ. М.: Политиздат, 1989.-573 с.
233. Тайна имени Азарий // http://vv\v\v.goroskopi.ru/publish/openarticle/5453/
234. Тахо-Годи, A.A. Кербер / A.A. Тахо-Годи // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1991. — Т. 1.-С. 640.
235. Телушкин, И. Еврейский мир: Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии / И. Телушкин. М.: Мосты культуры, 2002. - 574 с.
236. Тишков, В.А. От «дружбы народов» к дружному народу / В.А.Тишков // VII Конгресс этнографов и антропологов России: Доклады и выступления; Саранск, 9-14 июля 2007 г. Саранск, 2007. - С. 5-11.
237. Тлостанова, М.В. Мультикультурализм / М.В. Тлостанова // Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. М.: Intrada (ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения), 2004. - С. 266-268.
238. Тлостанова, М.В. Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда /■ М.В. Тлостанова. М.: Едиториал УРСС, 2004. - 416 с.
239. Топорков, А.Л. Мифы и мифология XX века: традиция и современное восприятие / А.Л. Топорков // Человек и общество: поиски, проблемы и решения. 1999. - Январь (Internet: http://\v\v\v.ruthenia.ru/folklore/toporkovl.htm).
240. Топоров, В.Н. Древо жизни / В.Н.Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. -М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1.-С. 396-398.
241. Топоров, В.Н. Древо мировое / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. -М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1.-С. 398-406.
242. Топоров, В.Н. Древо познания / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1.-С. 406-407.
243. Топоров, В.Н. Животные / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. -М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1.-С. 440-449.
244. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное // В.Н. Топоров. М.: Прогресс - Культура, 1995.-621 с.
245. Тримингэм, Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Дж.С. Тримингэм; пер. с англ. A.A. Ставиской, под ред., предисл. О.Ф. Акимушкина. М.: София, ИД «Гелиос», 2002. - 480 с.
246. Утехин, И.В. Очерки коммунального быта / И.В. Утехин. М.: ОГИ, 2004.-277 с.
247. Фольклор и художественная культура: Современные методологические и технологические проблемы изучения и сохранения традиционной культуры: Сб. статей и матер, науч. конф. М.: Гос. респуб. центр русского фольклора,2004.-304 с.
248. Фрай, Н. Критическим путем / Н. Фрай; сост. и примеч. Е. Цургановой, пер. с англ. О. Кириченко // Вопр. литературы — 1991. — Кч 9-10. С. 157—187. 262. Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности / О.М. Фрейденберг. -М.: Наука, 1978.-605 с.
249. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. — М.: Лабиринт, 1997.-448 с.
250. Фрисби, Д. Разрушение города: Социальная теория, мегаполис и экспрессионизм / Д. Фрисби // Логос. 2002. - № 3-4. - С. 252-284.
251. Фролова, Е.А. История средневековой арабо-исламской философии: Учеб. пособие / Е.А. Фролова. М.: РАН, Ин-т философии, 1995. - 175 с.
252. Фрэзер, Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Д.Д. Фрэзер; пер. с англ. М.: Политиздат, 1986. - 703 с.
253. Хисматуллин, A.A. Суфизм / A.A. Хисматуллин. СПб: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2003. - 224 с.
254. Хыоман, С. Обрядовый подход к мифу и мифическому / С. Хыоман // Обрядовая теория мифа: Сб. науч. трудов / Сост., перевод, предисл. и примеч. АЛО. Рахманина. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. - С. 177-197.
255. Чернышева, Е.Г. Мифопоэтические мотивы в русской фантастической прозе 20-40-х гг. XIX века: автореф. дис. . д-ра филол. наук / Чернышева Елена Геннадьевна. М., 2001. — 34 с.
256. Чистов, К.В. Фольклор. Текст. Традиция: Сб ст. / К.В. Чистов. М.: ОГИ,2005.-272 с.
257. Чупринин, С. Выбор: Заметки русского либерала: опыт самоидентификации / С. Чупринин // Знамя. 1993. -№ 7. - С. 174-189.
258. Чупринин, С. Русская литература сегодня: Жизнь по понятиям / С. Чупринин. -М.: Время, 2007. 768 с.
259. Шкунаев, C.B. Давид / C.B. Шкунаев // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1991. -Т. 1. - С. 343-346.
260. Шмелева, Е.Я. Русский анекдот: Текст и речевой жанр / Е.Я Шмелева, А.Д. Шмелев. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 144 с.
261. Шнирельман, В. Новый расизм в России / В. Шнирельман // Ежедневный журнал. — 2005. 12 октября // http://vv\v\v.ej.ru/experts/entry/2073
262. Щедровицкий, Д.В. Ревекка / Д.В. Щедровицкий // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. -М.: Сов. Энциклопедия, 1991. С. 467.
263. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде; пер. с франц. М.: Академический Проект, 2000. — 222 с.
264. Элиаде, М. Тайные общества: Обряды инициации и посвящения / М. Элиаде; пер. с франц. М.: Гелиос, 2002. - 352 с.
265. Эпштейн, М. Мир и человек / М. Эпштейн, Е. Юкина // Новый мир.1981.-№ 4.-С. 236-240.281
266. Эпштейн, М.Н. Все эссе: В 2-х т. / М.Н. Эпштейн. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. - Т. 2: Из Америки. - 704 с.
267. Эпштейн, М.Н. Мифологизм в литературе XX в. / М.Н Эпштейн // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. -М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 224-225.283
268. Эпштейн, М.Н. Отцовство: метафизический дневник / М.Н. Эпштейн. -СПб.: Алетейя, 2003. 248 с.
269. Эпштейн, М.Н. Философия возможного / М.Н. Эпштейн. — СПб.: Алетейя, 2001.-334 с.
270. Эпштейн, М.Н. Эссеистика. Хасид и талмудист: Сравнительный опыт о Пастернаке и Мандельштаме / М.Н. Эпштейн // Звезда. 2000. — № 4. — С. 8296.
271. Эрнст, К. Суфизм / К. Эрнст; пер. с англ. А. Гарькавого М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.-320 с.
272. Юрганов, А.Л. Нелепое ничто, или Над чем смеялись святые Древней Руси / А.Л. Юрганов // Учен. зап. Моск. гуманит. пед. ин-та. — М.: МГПИ, 2004. -Т. 2.-С. 92-156.
273. Янышев, С. Еще раз про золотое сечение, или Final cut / С. Янышев // Малый шелковый путь: Новый альманах поэзии. — Вып. 5. Ташкент: Фан, 2004.-С. 5-6.
274. Янышев, С. Групповой портрет: О русской узбекской поэзии / С. Янышев, С. Афлатуни, В. Муратханов // Арион. -2001. -№ 3. С. 107-108.1. Справочные источники
275. Апостолос-Каппадона, Д. Словарь христианского искусства / Д. Апостолос-Каппадона. Челябинск, 2000. - 267 с.
276. Аттиас, Ж-К. Еврейская цивилизация: Энциклопедии, словарь / Ж-К. Аттиас, Э. Бенбесса. М.: Лори, 2000. - 217 с.
277. Брокгауз, Ф.А. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон.- СПб., 1898. Т. 48 (Т. XXIV-). - 960 с.
278. Гаврилова, Ю.Б. Ислам: Карманный словарь / Ю.Б. Гаврилова, В.В. Емельянов; вступ. ст. В.В. Емельянова. СПб: Амфора, 2002. - 141 с.
279. Женщина в мифах и легендах: Энциклопедический словарь / Сост. О.П. Валянская. Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1992. -303 с.
280. Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991.-736 с.
281. Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: Издательство ACT, 2002.-976 с.
282. Руднев, В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты / В.П. Руднев. М.: Аграф, 2003. - 608 с.
283. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь / И.С. Брилева, Н.П. Вольская и др.; под ред. И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудкова. Вып. 1 -й. - М.: Гнозис, 2004. - 318 с.
284. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоров; 2-е изд.- М.: Сов. энциклопедия, 1983. 1600 с.
285. Ташкент: Энциклопедия / Гл. ред. С.К. Зиядуллаев. Ташкент: Глав. ред. Узбекской советской энциклопедии, 1984. - 416 с.
286. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935. Т. 1. - 1562 стб.
287. Тораваль, Ив. Мусульманская цивилизация: Энциклопедический словарь / Ив Тораваль. М.: Лори, 2001. - 296 с.303'Тресиддер, Д. Словарь символов / Д. Тресиддер; пер. с англ. С. Палько. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.-448 с.
288. Уголовный кодекс Узбекской ССР по состоянию на 1 ноября 1954 г.. — Ташкент, 1954. 119 с.
289. Уголовный кодекс Узбекской ССР по состоянию на 1 сентября 1946 г.. -Ташкент, 1946.- 105 с.
290. Узбекско-русский словарь / Под ред. С.Ф. Акобирова, Т.Н. Михайлова. -Ташкент: Глав. ред. Узбекской советской энциклопедии, 1988. — 726 с.1.. СПИСОК ИНФОРМАНТОВ1
291. Гринблат Александр Андреевич, 1952 г. р., живет в США, штат Огайо, Кливленд, по образованию филолог, в прошлом майор ГАИ МВД Узбекистана (ответил на вопросы анкеты стихами).
292. Номинация информантов (сокращение фамилий и в редком случае — взятие псевдонима) связана с их нежеланием и опасением «раскрываться» полностью, т. к. ряд информативных блоков расходится с официальным идеологическим дискурсом Республики Узбекистан.