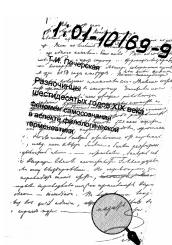автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Разночинцы шестидесятых годов XIX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Разночинцы шестидесятых годов XIX века"
На правах рукописи
¿СО&О
ПЕЧЕРСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА-,; ,г.
Разночинцы шестидесятых годов XIX века:
феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики
(мемуары, дневники, письма, беллетристика)
Специальность 10.01.01 - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Томск 2000
Работа выполнена в Институте Филологии СО РАН
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор А.И. Журавлева, доктор филологических наук, профессор A.A. Асоян, доктор филологических наук, E.H. Новикова
Ведущая организация:
Кемеровский государственный университет
Защита состоится «15» ноября 2000 г., в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д.063.53.10 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук в Томском государственном университете (634050, Томск, пр. Ленина, 36).
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Томского государственного университета
Автореферат разослан «Л__» октября 2000 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических наук,
доцент /). (^Ц а^ — ^.А. Захарова
\ц$;{г.*.?)5г - зсз. ч о
Шестидесятые годы XIX века (отрезок времени, при всей его краткости, небезосновательно именуемый иногда эпохой шестидесятых) неизменно вызывали устойчивый и постоянный интерес в отечественной науке. При всем многообразии идеологических, философских, эстетических векторов историко-литературной жизни основное внимание в первую очередь привлекал революционно-демократический круг деятелей. Шестидесятники, действительно, самое яркое новообразование времени. Выработанная совместными усилиями концепция шестидесятничества целиком базируется на идеологических основаниях, в равной мере затрагивающих сферу политики и общественной жизни в целом, литературную критику и литературу.
Со временем стало очевидным, что накопление огромного историко-литературного материала при концептуальной жесткости подхода не способствует динамичности и продуктивности исследовательского поиска. Нельзя сказать, что отечественное литературоведение было вполне удовлетворено достигнутыми результатами. В этом отношении вполне показательна дискуссия, развернутая в 1970-х гг. на страницах научных журналов. Исследователями отмечался дефицит новых идей, новых проблем в исследованиях, чья проблематика давно уже не являлась новой ни в фактологическом, ни в теоретическом смыслах. Однако при всем стремлении к общей проблематизации тематики 60-х гг. дискуссионная направленность в полной мере разворачивалась только в сторону западных исследователей.
В последнее десятилетие проблема изучения истории литературы 1860-х годов состоит, как это ни парадоксально звучит, в беспроблемно-сти, в видимой концептуальной завершенности и исчерпанности исследовательских подходов, сформированных в традиционной отечественной науке. Эта ситуация особенно очевидна на фоне существенной проблематизации изучения истории литературы. Круг проблем включает концептуальные и методологические подходы к изучению литературы, вопросы периодизации, литературных направлений и т.д. Что же касается 60-х гг., то интерес к ним по-новому проявился в немногочисленных пока работах, объединенных новым взглядом на известный материал. В этом контексте исследование феномена сознания разночинцев 60-х гг. представляется актуальным, способствующим углублению понимания сложной и противоречивой историко-литературной ситуации середины века.
Как нам представляется, актуатьность заявленного исследования во многом определяется и гносеологической неисчерпанностью проблемы самосознания личности как таковой. Как письменная культура отразила и оформила самосознание личности, в какой степени текст способен зафиксировать сложнейший рефлективный путь самосознания, каким об-
разом откликается человек на время в "памятниках жизни", "документа? личного опыта"? Решение этих вопросов нельзя признать исчерпанным I перспективе углубления познавательных возможностей науки, расширения подходов к их изучению.
[ Цель работы состоит в изучении возможностей письменного текстг % / (дневники, письма, мемуары), эстетически не структурированного, выра-^ зить самосознание пишущего, зафиксировать проявления его рефлективной работы во всей совокупности логико-интеллектуальных и психологических составляющих. Такая цель неизбежно приводит исследователя к необходимости теоретического осмысления способов анализа и интерпретации документальных источников. Непроработанность этой проблемы в отношении документальных источников, касающихся 60-х гг., определяет особую актуальность обоснования методологических подходов.
Задачи исследования определяются различными аспектами обгцегс целеполагания. Так, формирование подходов к концепции шестидесятничества через призму феномена самосознания в контексте исследования индивидуального и "массового" самосознания шестидесятников теснс связано с разработкой понятия "разночинство" как одного из ведущих Оно как нельзя более продуктивно выявляет значимые интенциональ-ные свойства, присущие рефлективному типу самосознания. Основные "фоновые" задачи предполагают уточнение следующих позиций в их функциональном значении: сословное соотношение "разночинец - дворянин", общественная и идеологическая ориентация личности, концепция "нового человека" и автоконцепция в структуре самосознания, психологическая рефлексия и идеологическая компенсация личности, разночинец в литературной парадигме шестидесятых годов: "новый человек" - "подпольный человек".
Интерпретация документальных источников и беллетристических опытов в феноменологическом аспекте предполагает особое внимание к интенциональному импульсу пишущего. Анализ его проявлений, в свою очередь, актуализирует задачи собственно филологического исследования форм проявления индивидуального самосознания через манеру письма в широком смысле: функция нарративно-стилевых, семантических построений и структурная органнзация текста. В том же аспекте нас интересует и проявление авторефлективности в структурно-смысловом построении текста.
Подход к документальному источнику, как к тексту требует особого внимания к его жанровой специфике. Реализация этого подхода невозможна без исследования жанровых возможностей источников, влияющих на форму самовыражения пишущего (соотношение традиционного и индивидуального в параметрах жанра). Что же касается мемуаристики,
анализ общих я индивидуальных социально-психологических черт и идеологических предпочтений, свойственных разночинцам-шестидесятникам, их влияния на общую картину шестидесятых годов, вряд ли возможен без учета "состояния аганра".
Изучение разновидностей тематических мемуаров, посвященных Чернышевскому, позволяет соотнести социальный миф и "документ" с точки, зрения проявлений ценностных общественных предпочтений и индивидуальных представлений о предмете высказывания именно благодаря выявлению авторских мотивационно-психологических стратегий письма.. При этом сопоставление "автопортрета", составленного на основе писем и дневников, с портретом, созданным современниками в мемуарах, особым образом обнаруживает механизмы формирования мифа и степень вовлеченности в сотворчество его героя. Моменты совпадения н расхождения "прототипа" и "образа" в равной степени показывают как общественные проекции разночинцев-шестидесятников, так и их индивидуально-личностный склад.
Материалом исследования послужили мемуары о 60-х гг., принадлежащие самым разным лицам, тематические мемуары, посвященные Чернышевскому, дневники и письма Чернышевского н Добролюбова, а также других деятелей этого периода. Кроме документальной литературы в круг источников включены беллетристические опыты Чернышевского (по большей части незавершенные).
Надо отметить, что документальные источники, в которых отразилась эпоха 60-х, использовались исследователями главный образом в прикладном значении. Самая широкая область использвания связана с обрисовкой социально-политической, историко-культурной картины 60-х годов. Не менее важны были они и при воссоздании биографического и творческого пути Чернышевского, Добролюбова, других известных шестидесятников. Источниковедческий объем материала, собранный усилиями не одного поколения исследователей, обширен и разнообразен в жанровом отношении.
Как таковые документальные материалы становились предметом описания в основном во вступительных статьях и комментариях к сборникам или собраниям сочинений. Специальный интерес, в частности, жанровый, к такой литературе невелик, и, как правило, связан с определенной тематикой, выводящей материал в более широкий контекст. Феноменологический подход к источникам такого рода практически никак не проявлен.
Проблема интерпретации документальных источников является одной из наиболее сложных в области истории литературы. Решение этой проблемы неизбежно начинается с самопрояснения научного подхода.
Важен не только и не столько выбор материала, хотя в отношении 60-х годов слишком многое оставалось вне поля зрения исследователей. Гораздо важнее* изменение традиционного для источниковедения реконструктивного подхода к тексту. Истолковывать текст через призму имеющихся историко-литературных и биографических сведений, вполне сознавая, что на их основе шестидесятничество успешно трансформировалось в миф, а затем, минуя все промежуточные стадии, - в исторический анекдот, по крайней мере, мало продуктивно. Отводя документу не только посредническую роль между событиями и лицами, но видя в нем прежде всего текст, обладающий своими возможностями выражения смысла, мы получаем больше шансов на его понимание.
В данном исследовании методологический подход к анализу документальных источников ориентирован на филологическую герменевтику. С методологической точки зрения представляется важным не только то, что из текста извлекается, но скорее то, как это делается. При этом в первую очередь учитывается специфика документальных текстов, вытекающая из их словесной природы. Будучи "памятниками жизни", "документами человеческой психологии" и проч., они являются еще и произведениями "чистой" словесности, которая развивалась во внехудожест-венной сфере усилиями многих поколений. Не только филолог, но и историк, обращаясь к письменным свидетельствам эпохи, имеет дело прежде всего со словесным высказыванием, которое требует понимания, сообразного присущей ему природе смыслового выражения.
Хронологический зазор, благодаря которому, как кажется, мы всегда знаем больше, чем современники событий, существенно влияет и на то, что мы вычитываем из документов, и на то, что мы "вчитываем" в них. Другими словами, адаптация исследователем предметных понятий, смыслов в контексте образующегося метадискурса никогда не является нейтральной или же пассивной. Исследователь неизбежно вовлекается в смысловые контексты, установленные не только самим источником, но и выработанные предшествующим и современным ему научным опытом. Это удвоение, утроение контекстных смыслов оказывается особенно очевидным, когда собственно научный исторический дискурс сам становится предметом анализа. Включаясь в существующий исторический контекст изучения документальных источников, мы не можем полагать, что исследователь в состоянии отвлекаться от самого себя - такая возможность допускается только с позиций наивного исторического объективизма. По мысли Гадамера, отказ от исследовательской рефлексии и упование лишь на методичность своих приемов заставляют забывать о собственной историчности: "Подлинно историческое мышление должно мыслить и свою собственную историчность".
Документальные свидетельства разного рода являются общим материалом, на основе которого и концептуально, и предметно во многом строится история литературы со всеми ее составляющими, равно как и картина общественной жизни в целом. Приходится признать, что сам по себе документ не является залогом подлинности свидетельства ни по одной позиции. Манипуляции с документальными источниками, относящимися к 1860-м годам, особенно наглядны, о чем свидетельствует традиционная концепция шестидесятничества, широко подкрепленная ими же. Преодоление подобной тенденции видится нам, в частности, в разработке подходов к документальному источнику как к тексту со всеми вытекающими отсюда дискурсивными условиями анализа. В данном случае следует особо оговорить, что мы не сближаем способов анализа документальных текстов и художественных.
Взаимовлияние художественной и внехудожественной сфер - вопрос особый, не входящий непосредственно в круг наших интересов. Соответственно способы выявления авторской интенции, а именно она интересует нас более всего в плане исследования феномена самосознания личности, будут отличны от тех, которыми мы пользуемся при анализе художественного текста.
Категории "эстетического" и "внеэстетического" нейтральны по отношению к предмету нашего интереса. Основная задача состоит в том, чтобы раскрыть индивидуальность пишущего через написанное им, учитывая разнообразные возможности письменного текста: от частных выразительных средств до особенностей стиля, от построения отдельной фразы до построения высказывания в целом. В комплексе стилевых признаков, выражающих авторскую интенцию, рассматриваются такие, как повествовательная интонация и акцент, синтаксическая конструкция и лексическая избирательность, тематические пристрастия и характерные приемы "сюжетосложения". Словом, все то, что, по мысли Г. Винокура, "отличает именно этого говорящего среди прочих" и позволяет нам "смотреть на слово не только как на знак идеи, но и еще как на поступок в истории личной жизни": "не что сказано в слове, а только что он сказал в этом слове".
В отношении двух уровней организации текста - предметно-содержательного и индивидуально-личностного - нас будет интересовать то, каким образом последний влияет на первый, поскольку, как уже говорилось, то, о чем рассказывается, в полной мере может быть оценено через то, как об этом рассказывается.
Фиксация авторской интенции пишущего позволяет увидеть в мемуарах различные стратегии интерпретации жизненных впечатлений л собственного исторического опыта. В данном случае субъективность жанра
не является помехой. Наоборот, она способствует исследовательскому продвижению к пониманию сути общественного настроения 60-х годов, к подоплеке личных впечатлений от того или иного события или человека. Так, исследование восприятия современниками личности Чернышевского отчетливо выявляет предельную мозаичность общей мемуарной картины, которая и останется таковой, если мы не учтем способ высказывания разных мемуаристов, производный от авторефлективности пишущего. И в этом смысле для нас столько же важен субъект письменного высказывания как источник формирования общественного и личного самосознания, сколько и объект его внимания, так как по поводу этого объекта раскрывается в первую очередь сам пишущий.
Обозначенные стратегии подхода к интерпретации материала представляются актуальными в методологическом плане и в определенном смысле новыми по отношению к исследованию указанных источников.
Новизна работы может быть охарактеризована и через предметно-понятийную проблематику исследования.
Специфика самосознания шестидесятников рассматривается с помощью понятия разночинство, которое впервые вводится и обосновывается именно как понятие, охватывающее целый комплекс черт социально-психологического характера. Разночинство особым образом выявляет индивидуальные и общие черты в личностном складе шестидесятников. Оно не совпадает с понятием "шестидесятничество", хотя и имеет с ним точки смыслового пересечения. Несовпадение же определяется тем, что понятие разночинство базируется в первую очередь не на идеологических манифестах шестидесятников, а на внутреннем самоощущении и самоосознании личности.
Разночинство располагает своей территорией и во внешнем соци-ально-идеологпческом предъявлении личности, и во внутренних ее сферах, задействуя (часто опосредованно) психологические ожидания окружения, все интеллектуальные навыки, жизненные и этические ориентиры. Внешняя форма проявления разночинство вводит исследование в историко-культурное русло. Разночинцы в аспекте бытового и общественного поведения, разночинцы в дворянской среде, в частности, в писательской среде "Современника", биографические сюжеты из личной и общественной жизни, - все это составляет необходимый фон, на котором может быть уяснена специфика разночинство как самоощущения.
Нельзя не признать, что в процессе исследования общественного и индивидуального самосознания личности история литературы разработала обширное понятийное пространство. По ходу его формирования она активно взаимодействовала как с внутренними областями литературове-
дения, частью которого и является, - теорией литературы, литературной критикой, - так и с сопредельными ей историей, эстетикой, культурологией, и, что совсем немаловажно, - с "методологическими" по отношению к ней областями - философией, психологией и т. д. В нашем описании феномена разночинского самосознания мы не отказываемся от использования возможностей поистине панорамного обзора, открывающегося с этих позиций на предмет исследования. Однако надо признать, что этот обзор без достаточно четкой фокусировки в равной мере н расширяет перспективу, и размывает ее.
Современное исследование поставленной проблемы, вероятно, немыслимо без учета широкого спектра современных научных подходов. Исследовательская рефлексия неизбежно производит отбор близких ей стратегий и отторгает далекие. Близкие в данном случае так или иначе соотносятся с герменевтическим подходом, расширяя и дополняя его возможности. При этом главным критерием совместимости для нас является органичность метода материалу.
Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего исследования документальных источников, связанных с 60-ми гг. XIX в. Они имеют непосредственное отношение как к изучению жанровой специфики мемуаров и дневников, так н к изучению эволюции этих жанров в ходе исторического развития. Методологический подход, лежащий в основе интерпретации текстов, позволяет расширить теоретическую базу источниковедческого анализа. Феноменологический подход к исследованию личности в аспекте самосознания и разработанная на его основе интерпретация феномена разночинского самосознания могут способствовать углублению научного представления о человеке эпохя 60-х, а также обновлению вузовского и школьного преподавания истории литературы.
Апробация исследования. Основные положения диссертации опубликованы в ряде работ (монографии, статьях и тезисах), заявлены на научных конференциях в Риге (1990), Коломне (1992), Новосибирске (1994, 1996, 1997), Москве (1998). Материалы исследования, его результаты и разработанный подход используются в общих и специальных курсах, читаемых в Новосибирском государственном педагогическом университете.
Структура работы. Текст диссертации состоит из введения, четырех глав, поделенных на разделы, заключения, примечаний, списка литературы и содержит 300 страниц.
Подходы к заявленной теме исследования, изложенные выше, составляют основу введения.
Глава I. "Разночинство как черта Самосознания" делится на два раздела: 1. "Разночинцы 1860-х годов как социокультурное явление"; 2. "Дневники H.A. Добролюбова".
Первый раздел начинается с экскурса в историю разночинной интеллигенции. Его цель состоит в выявлении "родовых" черт сословия, обусловивших социально-психологический облик шестидесятников, а также повлиявших на формирование мировоззрения, общественное и бытовое поведение, личностный склад в целом.
Можно сказать, что необходимость самоопределения, поиск своего места в социальном и культурном пространстве были заданы изначальной двойственностью сословного положения разночинной интеллигенции. С одной стороны, по принадлежности к неподатному сословию разночинцы обладали многими социальными правами и возможностями (имущественными, образовательными я гражданскими), с другой - как люди "подлого" происхождения дворянином оценивались достаточно низко, а для простолюдина оставались столь же чужими, но уже по причине образованности, "барского" положения и образа жизни. Общая демократизация социальной жизни 60-х гг. не имела существенного влияния на сословное восприятие, формировавшееся длительное время.
"Слой, затертый между народом и аристократией", по меткому выражению Герцена, был бескорневым в сословном отношении. Понадобились усилия нескольких поколений разночинцев XIX в., чтобы "укорениться" в социуме и культуре, заняв там свое место.
Разночинцы демократической формации 60-х годов, как известно, очень своеобразно ощущали свою миссию в этом отношении. В сознании идейных вдохновителей поколения обустройство этого места должно было начаться с тотального переустройства всего и вся. В программу закладывались поистине кардинальные преобразования: от разрушения сущностного миропорядка и обоснования материалистического взгляда на мир до проектирования нового социального устройства, от разработки теории искусства до тщательного обоснования принципов бытового уклада, включая грандиозный проект воспитания нового человека. Не столь важно в данном случае, что все "кирпичики" нового мироздания были давно заготовлены европейской философией, эстетикой, политической экономией предшествующих десятилетий и даже столетий. Опыт построения себя как личности из этих "кирпичиков" был действительно нов и по-своему уникален.
В исследовании черт самосознания революционно-демократической разночинной интеллигенции особое место занимает выявление религиозной подоплеки социальных и нравственно-философсхих построений, т.е. всего того, что позволяет В. Зеньковскому назвать русский вариант со-
циализма "секулярным эквивалентом" религиозного мировоззрения. В этом контексте рассматривается и понятие "нигилизм", значимое здесь не только как комплекс идей, но и как психологическое состояние личности.
Говоря о многочисленных отражениях идеологических программ в беллетристических опытах и социально-бытовом поведении, характеризующих 60-е годы, мы хотели бы указать на одно свойство общественного разночинского самосознания, тесным образом связанное и с индивидуальным самосознанием авторов, поставлявших образцы для подражания. Обозначим его по косвенной аналогии. В словосочетании "массовость распространения" определение обозначает количественный показатель и подчеркивает значительность явления. При таком использовании этого выражения как показателя распространенности идеологии шестидесятничества редуцируется его качественный смысловой оттенок. Например, в понятии "массовая культура" в применении к характеристике определенного слоя культуры XX в. сочетаются оба смысловых оттенка. Если же говорить о 60-х годах, то, конечно, "массовость" в современном количественном значении никак не соотносится с немногочисленным слоем радикально настроенной разночинской интеллигенции. Ее всегда сильно преувеличивали для обоснования масштабности самого явления.
Что же касается "массовости" как качества общественного сознания разночинцев, то в этом отношении для данного словоупотребления гораздо больше оснований. Ориентация разночинцев на нивелирующий образец парадоксально сочеталась с индивидуализмом самоосознания. Эта довольно специфическая особенность разночинского сознания проявилась уже в самом характере массовости особенных людей. Ощущение того, что ты не такой, как все, особенный, выделенный из общей массы, в равной степени было свойственно и барышне, с помощью фиктивного брака порывающей с презренной средой, и студенту, которого за распространение революционных прокламаций ожидали годы ссылки.
Вполне естественно, что в идеологически сублимированном массовом сознании фигура вождя чрезвычайно актуализировалась. С этой точки зрения сами лидеры разночинского движения представляют особенный интерес. Они были частью разночинской среды, связанной с нею многообразными нитями, что во многом определило специфику соотношения индивидуального и характерного в общем складе личностного сознания и оказало решающее влияние на феноменологию шестидесятничества в целом. Именно в таком контексте рассматриваются фигуры Добролюбова и Чернышевского.
Их общественное становление в сословно-психологическом плане было вполне типичным для разночинцев. Постоянным раздражителем
являлось тесное соседство с дворянским писательским кругом "Современника". Внешняя адаптация происходила довольно быстро и проявлялась в наступательных и агрессивных формах. Наступательная тактика демократов довольно быстро обеспечила им сначала независимое положение, а затем и привилегированное. Сословное соотношение "разночинец - дворянин" внутри "Современника" заменялось идейным противостоянием поверх сословных барьеров.
Такая ситуация по своей сути была изначально двойственна и фальшива. Сословная конфликтность не исчезала, но лишь компенсировалась полемикой по идейно-эстетическим вопросам. При всех видимых победах она углублялась, формируя специфически разночинский социально-психологический комплекс, в основе которого лежало уязвленное самолюбие, требующее реванша, причем не в виде равенства, но признания превосходства. Известно, что требующий равенства обнаруживает тем самым, что не обладает им. Невольное самообнаружение лишь увеличивало психологическое напряжение, только отчасти разрешившееся после взаимного разрыва. Эта подоплека вражды особенно ярко проявилась именно в тот период, когда "идейная" победа была одержана, а уязвленное самолюбие по-прежнему не было удовлетворено.
"Резонерский ум", "холодное чувство", "мертвечина", "кабинетность", "бесталанность", "сухость", "односторонность взгляда" - вот далеко не завершенный ряд характеристик, которые предназначались новым критикам "Современника". Встречные оценки со стороны новых сотрудников отличались той же резкостью.
Литературная ситуация 60-х годов выглядела очень своеобразно: критика отделилась от ведущих писателей и последовательно теснила их к периферии литературной жизни. Последние же считали ее не только не авторитетной, но и антиэстетической по сути, действующей с помощью "указов по литературе" (Достоевский).
Полемика ведущих писателей и критиков, как известно, закончилась разрывом в пределах "Современника" и сопровождалась шельмованием тех писателей, кто оставался вне ее досягаемости, а уж тем более тех, кто находился в открытой оппозиции к ней. Все это вполне объясняется самим характером критики новой школы, для которой литература была в первую очередь средством или местом (трибуна, кафедра) выражения своих взглядов и пропаганды идей, но проблема этим далеко не исчерпывается.
В историко-культурном контексте XIX в. понятие рефлексии традиционно относится к поколению 40-х годов, поколению Белинского и Некрасова. Личностный тип шестидесятников обычно описывается через соответствие слова и дела. Продекларированное снятие оппозиционности этих понятий (как проявление чисто идеологического жеста), в сущно-
и, нивелирует проблему, так как рефлексия предполагает значитель->е пространство между ними, как мыслительное, так и психологиче-ое. Исследование мемуарной, эпистолярной, дневниковой литературы »зволяет увидеть, что между я-для-других (где вполне реализовывалось явленное единство) и я-для-себя существовала невидимая миру дистан-1Я. Она-то во многом определила особый характер рефлексии разночин-:ого самосознания. Интенсивность рефлексии прямо связана с увеличе-1ем этой дистанции, что наиболее свойственно идеологическим вождям жоления, то есть людям, наиболее цельным с точки зрения современ-
1КОВ.
Впечатление цельности было результатом последовательной реализа-¡ш идеи самопостроения личности, как известно, очень популярной сре-а шестидесятников. В общественном сознании закрепилось представле-ие, что программа воспитания нового человека была уже реализована гдущими авторами самих проектов. В реальности картина выглядела ного сложнее. По сути дела, идея личностного самопостроения была от-ефлектирована в сознании ее авторов как компенсация глубокой неудо-летворенности "исходным материалом", как средство изживания внут-енних комплексов творческой, сословной и собственно человеческой ;ереализованности. Очень многое на этот счет проясняет документаль-:ая словесность частного характера. С этой точки зрения предметом ана-:иза являются дневники и письма Добролюбова и Чернышевского.
Поиск своего места в самом широком смысле слова - сквозная тема >азночинского самоопределения. Как правило, она решается, с позиции я I другие. Здесь амбициозность - оборотная сторона сознания, вечно уще-1ленного недооценкой другими, а потому настроенного оборонительно.
Сколь бы парадоксальным это ни казалось, все же следует признать, гто новый человек и подпольный герой - два взгляда на один и тот же лш, сформировавшийся в 50 - 60-е юцы XIX в., а Достоевским обрисо-инный в основных своих чертах уже в повестях конца 40-х годов. В соответствии с определенным углом зрения и разной семантической фоку-шровкой оба типа оказались в литературе разнонаправленными относительно друг друга. Однако с позиции "жизненных процессов" они зафиксировали один тип разночинского самосознания во внешнем и внутреннем его предъявлении. Если продолжить это условное литературное совмещение, то можно сказать, что в идеологическом плане новый человек маркирует способ социально-психологической компенсации подпольного го знания.
Что же касается личностного психологического склада, то при всей его видимой общественной направленности, по внутренней сути он может быть охарактеризован как маргинальный. Социокультурная марги-
яальность выразилась и в отношении к обществу в целом, его ценностям и нормам. Бунтарский характер проявления своей инаковости окрасил центральную идею шестидесятничества в революционные тона и сделался выразителем "духа времени".
Во внутреннем же пространстве самосознания собственное я - тот центр, из которого мысль описывает окружность и радиально возвращается к начальной точке движения. Сойдя с оси, на которой располагается центр сферы сущностного, маргинальное сознание свободным волеизъявлением ценностно абсолютизирует свое периферийное положение по отношению к нему.
Ощущение инаковости я-сознания в сравнении со всяким другим заметно активизирует поиски адекватного языка его описания. При этом предметом рефлексии становится и собственное критическое усилие, и ^ собственная языковая обусловленность. Способность сознания превращать чужое в свое изощряет его до крайности. Множественность разнообразных философских, этических, эстетических форм опосредования создает слоистую структуру самосознания, благодаря чему я не может быть охвачено как целое, потому что само все охватывает и приобщает к себе. Сфера письменного высказывания наиболее презентативна в плане исследования этого рефлективного усилия и представляется для нас важнейшей с точки зрения возможностей феноменологического обнаружения разночинского сознания.
Второй раздел посвящен исследованию дневников H.A. Добролюбова.
Попытки словесного оформления собственного образа нельзя всецело объяснить исключительно.только из потребности в самовыражении. Рефлективные усилия, направленные на самоуяснение, не менее характерны для личностного склада разночинцев 60-х годов. Своеобразно проявляются их результаты в жанре дневникового высказывания.
В исследовании дневников Добролюбова мы касаемся в первую очередь тех особенностей жанрового высказывания, которые позволяют выявить в самосознании Добролюбова разночинство. В этом смысле непосредственное самоописание является наиболее ценным материалом, на основании которого мы можем судить не только о концептуальном результате, но и о рефлективном процессе, существенно влиявшем на него. В проекции на метод наблюдения это означает особое внимание к тому, как сказано, а уж затем только уяснение того, что сказано.
При отборе материала дневников мы .ориентировались на устойчивость я частотность тем, привлекавших внимание Добролюбова. Мы прослеживаем сцепления между ними, что позволяет прочитать зачастую разрозненные и сделанные по разным поводам замечания как сквозные высказывания, единые в своем целеполагании. Кроме прочего, такой
подход дает возможность проследить развитие или, наоборот, неизменность некоторых представлений, лежащих в основе личностного самоуяснения.
В тематическом отношении прослежены цепочки рассуждений., касающиеся "случаев" из жизни известных людей ("Закулисные тайны русской жизни"), личностной автоконцепции (идея избранности), собственного восприятия в глазах окружающих, учительского опыта в сановных домах, взаимоотношений с различными людьми, опыта любовных увлечений в "свете" и "доме терпимости".
Наблюдения позволяютсделагь определенные обобщения. Сочетание смелости идей с робостью насчет собственных возможностей порождает двойственность психологического рисунка личности, предельно ориентированной на оценку другилш. Самоанализ, тщательное наблюдение за собой, за тем, как воспринимают тебя другие, не только психологизируют самосознание, но и направляют его к тщательной проработке системы защиты. Между я-для себя и я-для других существует дистанция, невидимая окружающими, но болезненно ощущаемая внутренне. Разночинское сознание, настроенное на оборону, всегда предполагает посягательство на свою суверенность и самодостаточность, бреши в которой слишком хорошо известны ему самому. Ущемленность самолюбия, характерная черта разночинского сознания, вполне объяснима в сословном отношении. Непризнание достоинств и заслуг, а, з конечном счете, личностное отторжение, исходили прежде всего пз дворянского окружения. Пренебрежительная манера общения, независимость поведения разночинцев в дворянском круге - все это лишь внешняя система заграждений, не спасающая самолюбие от внутренней уязвленности. В этом отношении степень амбициозности прямо пропорциональна степени психологической ущемленности.
Из дневников Добролюбова следует, что притягательность дворянского круга определяется для него возможностью реализовать "высшие чувства", интеллектуальные и личные амбиции. Дело здесь прежде всего в поисках признания, почти равного самоудостоверению. Потребность выйти из числа "большинства", быть "не таким, как все" формирует направление индивидуалистических поисков адекватного оформления личности. Внутренний фокус самонаблюдения в дневниковых записях устойчиво формируется на границе я-и-другие. Самоощущение значительности, оставаясь тайным, требует обязательного подтверждения извне, причем именно со стороны "избранных", а не "большинства". Даже в те годы, когда "большинство" стало определяться не косной средой окружения в провинции, а восторженными поклонниками и единомышленниками в Петербурге, потребность самоутверждения оставалась столь же
актуальной, как н в годы безвестности. "Противники" (в частности, писатели дворянского круга "Современника"), над которыми было одержано столько блестящих побед в литературно-критической сфере общественной деятельности, неизменно оставались основным центром внутреннего внимания и притяжения.
Недостатки воспитания, по мысли Добролюбова, исказившие развитие натуры, представляются "родовыми" признаками среды. Разорвать с ней идеологически много проще, чем освободиться от нее внутренне. В сущности же недостатки воспитания осознаются только при вхождении или желании войти в другую, более привлекательную среду - дворянскую. Разночинский оттиск среды (отсутствие манер, невладение иностранными языками, неумение танцевать и т.д.) потому и составляет предмет внутренних переживаний, что собственная оценка этого "изъяна" и оценка со стороны других (дворянского круга) совпадали. Основной козырь разночинца - образованность - являлся таковым только в глазах собственной среды, а потому, несмотря на частотное предъявление, не мог существенно изменить внутреннего состояния. Внешняя независимость и самодостаточность подтачивались сословной двойственностью.
Дневники выявляют также и глубокий внутренний драматизм переживаний Добролюбова, всецело обусловленный тем, что рамки внешнего ролевого предъявлявши, очерченные по сути им же самим, отсекали возможность для выражения живых человеческих чувств, а потребность в этом была у него очень велика. "Желчный критик" и "апостол новой веры" - слишком узкий диапазон проявления для сложной и противоречивой натуры, каковой ощущал себя Добролюбов. Отсюда сознательная установка на откровенность, подробное изложение самых неподходящих для официального облика состояний. Отсюда и очевидный перехлест в выражении самой, казалось бы, естественной позиции - пусть увидят меня живым человеком, "знают меня вполне", но в это "вполне" входит как условие - "со всеми моими гадостями".
Возможный читатель - сквозная тема и адресация не только дневников Добролюбова и Чернышевского. Этот признак не сугубо индивидуальный, но скорее общежанровый для дневников поколения шестидесятых. Что же касается Добролюбова, то в его дневниках возможный читатель появляется именно тогда, когда автор фиксирует какие-то явления, события внутренней или внешней жизни, не поддающиеся с его стороны однозначному истолкованию. Включение в свой кругозор возможных оценок, причем даже в тех случаях, когда речь идет о личных, глубоко интимных переживаниях, - характерный способ самоанализа, при котором пишущий, избегая прямого называния, использует чужую фиктивную оценку самого умозрительного свойства.
В комплексе черт разночинского самосознания должна быть выделена еще одна. Рефлективный импульс неизменно облекается в словесную форму, выработанную в пределах какого-либо литературного текста, или, по крайней мере, речевого стиля в широком смысле. Речь идет не о подражании как таковом, но об особом свойстве осознавать и оценивать себя в формах чужого мышления, образа - всего, что имеет "готовое" выражение. Вживание в готовую форму не только не исключает поисков индивидуальных смыслов, но весьма плодотворно генерирует их. К таким готовым формам относятся и романтические образцы, и самоанализ тургеневского Чулкатурина, и речевая стилистика, избранная для фиксации религиозных переживаний. Другими словами, речь идет об опосредо-ванности как важнейшей черте и самосознания, и самоописания.
Глава II. «Феноменологический портрет исторической личности в дневниках и мемуарах, или "ускользающая натура"».
Глава делится на два раздела: 1. "Автоконцепцня личности и пути формирования мемуарного облика Н.Г. Чернышевского"; 2. "Н.Г. Чернышевский в мемуарах современников: социальный миф и исторический документ".
Тема особенного предназначения, избранности, уготованности великого пути, научного или общественного, - сквозная в юношеских дневниках Чернышевского. Великая стезя рисуется Чернышевскому достаточно абстрактно. Два равно привлекательных пути - героя и гения -представляются одинаково заманчивыми. Романтический путь героя -путь подвига, жертвы и гибели. Путь гения науки (неважно какой) привлекателен для Чернышевского тем же - служением человечеству и признанием человечества.
Позже заточение в Петропавловской крепости вернуло Чернышевского к замыслам, прерванным текущей работой в "Современнике". Он вновь вступал на стезю ученого, не оставляя при этом и стези героя, реализовавшейся почти буквально так, как мечталось в юности. В ссылке, где отсутствие необходимых книг помешало Чернышевскому продолжить научные труды, все-таки не прервалась гигантская работа, направленная к намеченной цели. Она выразилась в беллетристическом творчестве, охватившем все формы словесного искусства.
В дневниках Чернышевский много размышляет о великих людях, сопоставляет их с собой, стремится проникнуть во внутреннюю логику поступков и помыслов великих людей. Соотношение необыкновенных и заурядных людей, внутреннее право первых на осознание своего величия, нравственная неприкосновенность великих людей - вот круг постоянных тем, горячо обсуждавшихся Чернышевским. При неизменности интереса
к великим людям хаждое обсуждаемое имя значимо для него по-своему. Например, оценка личности Наполеона неотрывна от пушкинского контекста "гений и злодейство" и будущей дилеммы Достоевского о средствах а цели. Тема гения и толпы получает дальнейшее развитие и в связи с Гоголем. Уверенность Гоголя в своей гениальности, оцененная публикой как тщеславие, дает Чернышевскому повод для размышления о соотношении внутреннего и внешнего облика великого человека.
В юные годы особенный человек у Чернышевского резко отделен от прочих, что подчеркивается непохожестью, отмеченностью его судьбы, разделить которую могут немногие. Но и разделившие ее обречены на гибель. Течь идет о пути героя, образ мыслей которого неизбежно ведет его к изгнанию, испытаниям, гибели. В этом плане особый интерес представляет "Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье".
Образ героя, человека убеждений, готового к жертве и гражданскому подвигу, совершенно не соотносится в сознании Чернышевского с определенным складом характера или природными личными свойствами. По своему характеру, манере поведения, внешности, наконец, Чернышевский являлся классическим антигероем с точки зрения привычных представлений. В этом впечатлении сходятся все мемуаристы. Облик вождя с внешностью антигероя, интеллектуала-интеллигента, кабинетного ученого утвердился в глазах разночинной молодежи во многом благодаря именно Чернышевскому. Со временем непохожесть на героя очень быстро стала дополнительным достоинством и вызывала еще больше симпатий.
"Разочарование" становится своего рода устойчивым мотивом воспоминаний о первой встрече с Чернышевским. Облик антигероя не сразу, но тем не менее прочно утвердился в сознании современников. Манера шестидесятников вести себя, одеваться, эпатировать окружающих, ниспровергать представления о морали - все это быстро стало достоянием разночинно-демократического большинства. Именно Чернышевский в известном смысле привил это ощущение особости человеку большинства. Но, будучи сам плоть от плоти человеком большинства, себя таковым он не считал.
Если в юношеские годы Чернышевский полагал, что все мелочи, включая "мерзости", должны оставаться в дневниках и будущий биограф найдет им достойное применение при интерпретации многогранности "замечательной личности", то позднее он явно осознает, что человечество не готово отказаться от обывательских представлений, и потом) необходимо как-то учитывать это обстоятельство при оформлении публичного облика.
Чернышевский после ареста и во время ссылки в какой-то мере оказался жертвой общепринятого представления о трагической судьбе ссыльного героя. В его рамках Чернышевскому уготовано было два пути: скорая смерть из-за невыносимых условий (мученичество) или побег за границу и продолжение революционной борьбы.
Между тем жизнь Чернышевского в ссылке развивалась явно не по этому сценарию. Она была обыкновенной и вполне соответствовала его индивидуальности, а не героическому клише. И надо было сибирскому периоду закончиться, прежде чем она начала мифологизироваться с поправкой на новый тип героической судьбы, как это уже происходило с канонизацией его антигероичности в петербургский период деятельности. Нельзя сказать, что Чернышевский, вернувшись из Сибири, сам не прикладывал усилий к мифологизации этого периода своей жизни. Но верно и то, что окружающие старательно втягивали его в это занятие.
Контрастность письменного и устного темперамента Чернышевского бросалась в глаза многим современникам. Внутренний темперамент находил наиболее полное воплощение в писании и выражался вполне не в жесте, манере, эмоциональности, но в повествовательном поведении: стиле, риторике и т.п. Внешнее самовыражение как-то не давалось Чернышевскому. Сам он, особенно в юности, сязывал свою "незадачливость" на этот счет с характером воспитания. При все том даже и тогда нерешительность, неловкость, застенчивость, неумение выразить чувства сочетались в нем с особой самодостаточностью, проистекающей, в частности, из ясного сознания своей одаренности и высокой предназначенности. Письмо - вот истинная его территория. Здесь и темперамент, и характер, и выражение идей соответствовали его внутреннему ощущению себя.
В дневниках Чернышевский много размышляет на тему необходимости разделения внутреннего и внешнего проявления человека. Стремление скрыть от окружающих те или иные черты своей натуры во многом определяло общий абрис того облика, который Чернышевский вполне сознательно поддерживал в глазах окружающих. Мистификации Чернышевского - устойчивая тема мемуаров, авторы которых относят себя к числу близких и доверенных лиц. Можно воссоздать различные проявления мистификаторских склонностей Чернышевского: поведение (разыгрывание определенной роли), манера вести разговор (запутывание собеседника, словесная провокация и т.д.), создание определенного образа и многое другое.
Манера как таковая может рассматриваться в различных аспектах: и как опознавательный комплекс, сознательно ориентированный на определенное впечатление окружающих; и как ряд психологических свойств,
бессознательно проявляющихся в поведении человека и ассоциирующихся у окружающих с его индивидуальностью. Манера поведения Чернышевского двойственна в обоих отношениях. Она характеризуется довольно неопределенным словом "странная", фиксирующим, как правило, или отклонения от общепринятой нормы поведения, или нарушение последовательности, логики в границах индивидуального поведения.
Так или иначе, проявления этой "странности" свидетельствовали о довольно напряженных отношениях между самоощущением Чернышевского и манерой его внешнего предъявления. Внутренняя настороженность по поводу "неправильной" оценки другими ярко проявляется в поведенческих жестах и мистификациях, которые направлены на то, чтобы раздвинуть узкие рамки стереотипа ожидания, или, наоборот, оформить их в заданном русле.
Даже по отдельным свидетельствам, зафиксированным в частных записях, можно судить, какими рефлективно-психологическими затратами сопровождалось то и другое. Здесь разночинсмво как жест, манера особым образом оформляет единство многих (зачастую внешне противоречивых) проявлений личности.
Во втором разделе мы обращаемся к проблеме различных мемуарных концепций, образующих устойчивую традицию, которая существенно повлияла на биографический ракурс, установившийся в истории литературы. Не прибегая к жестким классификациям, прослеживаем развитие наиболее характерных мемуарных стратегий. Нельзя не учитывать, что та или иная позиция, выбранная автором, существенно влияет на интерпретацию биографического материала. И в этом смысле внимание к автору мемуаров не менее важно, чем к их герою. Сам тематический повод высказывания проявляет и другой жанровый закон мемуаров, вследствие которого (вне зависимости от предмета высказывания) на первый план выступает сам автор, повествующий от себя и через себя.
Исследуя мемуары, посвященные Чернышевскому, следует иметь в виду, что большая их часть написана уже после его смерти, когда, с одной стороны, общественнй масштаб личности вполне определился, а с другой - возникла реальная возможность публиковать написанное.
Воспоминания, связанные с ранними годами Чернышевского, создавались мемуаристами на склоне лет. События отодвинуты в прошлое значительным отрезком времени. Восприятие молодости окрашено собственным жизненным опытом и впечатлениями последующих десятилетий. Во многих мемуарах явно просматривается ориентация авторов на образ Чернышевского - публициста и писателя, утвердившийся в общественном сознании в 60-е годы и особенно после его смерти. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что у мемуаристов, чье мировоззрение
сформировалось тогда же, последующие десятилетия вызывали, как правило, тягостные и скептические размышления, на фоне которых образ Чернышевского становился почти символическим и принимал идеологическую нагрузку, не всегда адекватную жанровой биографической задаче.
Мемуары, посвященные Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, ведущим деятелям 60-х годов, благодаря концептуальной основе, зачастую предшествующей собиранию материалов, во многих случаях приобретают "житийную" окраску. Идеальное, историческое и биографическое пространства совмещаются здесь в единое, по сути - мифологическое.
Другой тип мемуаров, характер которых определяется стремлением "домыслить" увиденное, во многом обусловлен и временной дистанцией, дающей контекстную полноту владения материалом, и индивидуальным складом личности пишущего. Такие мемуары предоставляют едва лн не больше информации о самом пишущем, чем о герое повествования.
Одни мемуаристы склонны к расследованиям противоречивых, с их точки зрения, обстоятельств жизни своего героя. Других увлекает психологическое исследование, которое может вестись и непосредственно во время общения, и накладываться на материал много лет спустя, уже во время написания мемуаров. Между тем и другим способом исследования существует большое различие. Особенно увеличивается мера произвольности толкования в тех случаях, когда наблюдения ведутся заведомо в русле предварительного и, как правило, канонического для шестидесятников представления о Чернышевском. С этой точки зрения наиболее подробно иследованы мемуары С.Г. Стахевнча, пользовавшегося при составлении мемуаров дополнительными источниками: и материалами следствия, опубликованными в статьях М.К. Лемке, и собранием сочинений Чернышевского, вышедшим в 1906 году, и мемуарами, появившимися к тому времени в печати (легальной и нелегальной), и, предположительно, собственными дневниками, относящимися к годам тюрьмы и каторги.
Вопрос, какие факты биографии и чьи свидетельства могут быть предметом мемуаров, а какие нет, тесно связан с вопросом интерпретации. Соответствующая интерпретация позволяет мемуаристам вносить даже в "классические" мемуары о Чернышевском наблюдения любого свойства, но при условии, что они непременно попадают в установленное русло. Мемуаристы, чья авторская стратегия направлена на создание системы своеобразных фильтров, довольно часто прибегают к крайней мере защиты своего героя - компроментации осведомленности или объективности мемуаристов, свидетельства которых не вписываются в клиши-
рованные концептуальные рамки. Ф.В. Духовников одним из первых ставит вопрос о правомерности воспроизведения тех или иных свидетельств без разъяснений, исправляющих неверные впечатления. С этой точки зрения в его воспоминаниях предъявляется очень много претензий очевидцам самого разного толка.
Сложился даже определенный набор качеств, обязательных для такого типа героя, как Чернышевский. Его a priori невозможно подвергать сомнению, а тем более опровержению. Мемуарная полемика - характерная черта тематических воспоминаний о Чернышевском.
Неудивительно, что воспоминания В.Г. Короленко дали самый обильный материал для мемуарной полемики. "Воспоминания о Чернышевском" принято называть очерком, рисующим мемуарный портрет Чернышевского. Сам по себе концептуальный подход к биографии и личности Чернышевского, как мы уже отмечали, сложился вместе с появлением первых мемуаров. В данном случае отличие состояло в том, какого рода концептуальность легла в основу мемуарного портрета Короленко. В общих чертах отклонений от общепризнанного облика не было: Чернышевский изображен писателем как выдающийся общественный деятель, человек сильной воли и могучего интеллекта. Не совпадало другое: "неизменившийся Чернышевский" увиден с позиции изменившегося времени. Мемуарный сюжет очерка складывается из воспоминаний случайных людей (очевидец, писарь, знакомый обыватель и т.д.), собственных впечатлений, дополняется новеллистической, аллегорической и фольклорной версиями.
В "Воспоминаниях" Короленко нет объективной, ничьей позиции -признака претензий на абсолютную достоверность. Его взгляд на героя подчеркнуто индивидуален и субъективен, так же как небезадресны и сведения, которыми он располагает наряду с собственными впечатлениями. Однако в результате достигается парадоксальный эффект - изображение Чернышевского представляется и достоверным, и объективным, исполненным подлинной трагической глубины. И это уже не удача мемуариста, а свойство талантливого произведения. Именно поэтому "Воспоминания о Чернышевском" Короленко выпадают из всех прочих мемуаров и не подлежат традиционной классификации в числе документальных источников.
Последняя часть раздела посвящена исследованию литературных воспоминаний А.М. Скабичевского о Некрасове и Писареве. Его цель состоит в выявлении общих концептуальных черт, связанных с воспроизведением общественно-значимой личности 60-х годов. Наблюдения свидетельствуют об определенной тенденции подобной мемуаристики - стремлении раскрыть биографический облик известного человека "через
единый закон его жизни". Проявления этого закона П. А. Флоренский называет "формою личности во времени". Иное дело, в каком времени -индивидуальном, социально-историческом или другом - он действует. • Что же касается Чернышевского, то законом его жизни мемуаристика избрала второе измерение, что сузило границы понимания личностного своеобразия этого во всех отношениях неординарного человека.
Глава III. "Разночинство как стиль высказывания".
Материалом исследования являются следующие тексты: М.А. Антонович "Памяти Н.Г. Чернышевского", A.B. Эвальд "Воспоминания", отклик на них М.А. Антоновича "По поводу литературных воспоминаний A.B. Эвальда", Н.Г. Чернышевский "Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым", переписка Чернышевского с Некрасовым, а также мемуары, позволяющие реконструировать историю своеобразного мемуарного сюжета о взаимоотношениях Чернышевского и Герцена.
Разночинский стиль высказывания - понятие хотя и условное, однако ж далеко не факультативное при исследовании феноменологии шестидесятничества. В методологическом смысле речь идет о подходах к выявлению авторской интенции, всецело формирующей высказывание. Смыслополагание яснее всего обнаруживается в стиле как словесной проработке рефлективного опыта разночинского самосознания. С этой точки зрения разночинский стиль интересует нас как характерологический признак высказывания в целом.
Здесь рассматриваются проявления этого стиля на материале различных жанровых высказываний - мемуарных, публицистических, эпистолярных. Сопоставление разноплановых текстов позволяет лучше уяснить и внутрижанровую специфику стиля, и универсальность его наиболее устойчивых признаков. Нас интересует стиль высказывания в семантическом проявлении разночинства как черты самосознания.
Все рассмотренные тексты объединяет то обстоятельство, что автор является в них не только "инстанцией письма", но и одним из героев повествования. Главным же тематическим героем выступает в воспоминаниях М.А, Антоновича и A.B. Эвальда Чернышевский, в письмах Чернышевского к Некрасову - адресат, а в "герценовском сюжете", соответственно, сам Герцен. Однако в тематических границах жанра автор всегда интенсивно ищет бреши и лазейки, которые позволили бы ему, сохраняя общую жанровую структуру, так перераспределить смысловую нагрузку ее элементов, чтобы она могла быть задействована в первую очередь на авторское самоописание. Именно они являются местом обнаружения авторской интенции высказывания. Другой даже априорно не может быть
предметным центром разночинского сознания. Таковым оказывается только собственное я, объективированное тематической формой воспоминаний о другом (мемуары), обращением к другому (письма), суждением о другом (статьи, названный сюжет).
В таких текстах само понятие достоверности оказывается перегруженным целым рядом "метафизических допущений", в результате которых критерии, предъявляемые к документальным свидетельствам, заметно обесцениваются. Восстановить их возможно только при поправке на специфику авторского обращения с реальностью. Необходимая поправка вносится уже тогда, когда мы соглашаемся рассматривать словесную реальность текста как первичную по отношению к эмпирической, даже если последняя предстает перед нами в исторической упорядоченности, временной и концептуальной. Такую поправку мы и называем здесь метафизическим допущением, совершенно, впрочем, необходимым, если мы хотим уяснить смысл текста, не рассекая его по принципу правда -выдумка, но воспринимая во всей полноте и самозаконности того и другого. Именно выдумка (или, резче, - ложь) по отношению к предмету высказывания - известной исторической личности или событию - часто наиболее правдиво свидетельствует о самом авторе. А он, в свою очередь, является для исследователя таким же ценным "историческим материалом", как и сам герой или событие.
Во всяком случае, в нашей работе все обстоит именно так. Фокусируя внимание на личности Чернышевского, мы старались таким образом организовать поле исследования, чтобы в него могли полноправно войти и те, кто оставил о Чернышевском свидетельства, ставшие историческими документами. Вполне закономерно, что большая часть авторов, в свое время активно формировавших, а затем письменно закрепивших канонический общественный облик Чернышевского, принадлежит к разночинской плеяде шестидесятников. В этом смысле их документальные свидетельства не менее значимы и в аспекте авторского самовыражения. Как мы уже говорили, Чернышевский и Добролюбов, при всей своей личностной уникальности, обнаруживают "типичные" черты именно на фоне группового портрета шестидесятников. В этом разделе работы мы лишь укрупняем план исследования, сужая материал до нескольких текстов, принадлежащих перу Чернышевского и его менее знаменитых современников. Это соседство и позволяет наглядно удостовериться в том, что единый почерк, точнее, единый авторский стиль, условно названный "здесь разночинским, выявляет феноменологическую общность самосознания, отличающую шестидесятников в целом.
Обозначим в самом общем виде наиболее характерные черты разночинского стиля высказывания:
- автором постоянно фиксируется собственное местоположение во всех обстоятельствах, предлагаемых для рассмотрения, отчего всецело зависит и интерпретационная коррекция этих обстоятельств;
- события и действующие лица, главные в тематическом отношении, в функциональном смысле играют фоновую роль: они помогают пишущему опосредованно оформить собственный облик;
- свободная манера перераспределения материала в зависимости от особенности развития тех или иных предметных суждений непосредственно соотносится с возможным восприятием личности автора.
Столь же показательны и формы "саморазоблачения", не предусмотренного автором сознательно. Ситуация авторской гиперцензуры, направленной на запрет прямого высказывания о себе, приводит к тому, что малейшее ослабление самоконтроля пишущего позволяет обнаружить характерные способы утаивания, с помощью которых несказанное все же возвращается в текст. Желание совместить потребность в выражении собственного я со склонностью в любой момент отказаться от высказанного (при малейшем подозрении в превратном восприятии) способствует выработке разнообразных форм мистификации адресата. Разрыв между существующей установкой на частный характер высказывания и возможностями ролевой манипулящи (я как частное лицо - я как общественный деятель) образует дополнительные возможности для построения "мерцающего" высказывания, стремящегося избежать использования прямого, "буквального" значения слов.
В целом этот стиль, безусловно, свидетельствет об эгоцентрическом типе сознания, использующем сферу письменного самовыражения как наиболее продуктивную в плане рефлективных возможностей взаимоотношений со словом.
Изъян лукавства мысли, косвенно отрефлектированный сознанием, проникает и в словесную ткань, существенно деформируя ее. При этом лукавство слова как свойство письма оказывается отрефлектированным гораздо слабее, в результате чего письмо выявляет авторское целепола-гание помимо и в обход волевого импульса пишущего. Прямое значение слова оказывается равноправным со всеми остальными его значениями, а разнонаправленность внутрисмысловых перспектив мешает словесному событию состояться и адекватно оформиться.
Важно указать и еще на одно свойство высказывания, характеризующее его со стороны смысловой двойственности. Непосредственное высказывание о себе, как правило, не залегает у самой текстовой поверхности, покрытой слоем тематических умозаключений. Однако только в этом слое, а не под ням, оно и может быть обнаружено: именно тематический материал - и повод, и средство для самообнаружения. И, напро-
тив, тексты, в которых собственное я становится предметом открытого тематического высказывания, нуждаются в более глубокой смысловой проработке для уяснения сути авторского высказывания о себе, поскольку внутренняя стратегия пишущего глубоко инверсивна. Именно автор является в данном случае конститутивным условием дискурсивности письма. При этом "другой" мыслится не только и не столько адресатом, но становится условием авторской репрезентации и самоуяснения.
Соприсутствие читателя является непременны?,! условием писания как такового, причем вне зависимости от степени интимности или публичности жанра. Высказывание изначально разворачивается относительно возможного взгляда читателя, его оценки, додуманной или произнесенной фразы. Зачастую читатель нужен пишущему вовсе не для того, чтобы выставить нечто на его обозрение, или, наоборот, скрыть от излишней проницательности. Здесь возможный читатель - это гипотетическая точка соприкосновения с миром, необходимое условие опосредованного взгляда пишущего на себя самого. Риторическая манера высказывания, характерная и для текстов самого частного предназначения, особенно ярко выявляет условность, фиктивность такого читателя. Тексты-высказывания, по видимости обращенные к другому, по существу совершенно закрыты для живого отклика, для непосредственного подключения заявленного автором читателя.
Глава IV. "Автор и текст". Досточно широкая теоретическая ориентация, обозначенная в заглавии, конкретизируется в трех направлениях: 1. "Беллетристические опыты Н.Г. Чернышевского: графоманство как форма авторской рефлексии"; 2. "Автор в структуре сюжетного повествования ("Повести в повести" Н.Г. Чернышевского)"; 3. "Визуализация авторского присутствия в тексте".
В первом разделе исследуется еще одна сфера словесного самообнаружения авторского я - беллетристика, которая во второй половине жизни осознавалась Чернышевским как "истинное призвание". Речь идет о беллетристических опытах периода заключения и ссылки, частью незаконченных, а частью известных нам по эпистолярным пересказам Чернышевского или по воспоминаниям современников. Предметом наблюдения являются и некоторые сквозные беллетризованные сюжеты писем Чернышевского к жене. Писательство интерпретируется как образ жизни Чернышевского в ссылке: его интенсивность, условия, характер, психологическое и интеллектуальное оформление.
Литературное творчество Чернышевского, графоманское по своему характеру, не позволяет подойти к его результатам как к эстетическому предмету исследования. Однако графоманство в качестве вида околоху-
дожественной словесности не менее, а в какой-то мере и более интересно в плане обозначенных в работе задач.
Выделенные аспекты проблемы предполагают рассмотрение графо-манства, во-первых, в плане внутренней рефлексии Чернышевского по поводу эстетической деятельности (собственной и чужой), а во-вторых -в плане общих оснований, проявляющих в графоманстве универсальные свойства письма как такового. Оба эти аспекта теснейшим образом связаны с проблемой авторского и личностного самосознания, специфически выражавшего себя в рефлективном пространстве письма.
Чернышевский обратился к художественному творчеству, исходя из рациональных предпосылок, суливших легкость выражения смысла на том языке, который он, как ему казалось, "разъял" посредством аналитических операций еще в своей литературно-критической практике.
Он выдвинул цензуру как механизм, определяющий для него принцип отбора литературных форм, подлежащих публичному предъявлению. Тем самым осуществилась главная предпосылка его последующего творчества: "действительность" и собственные требования к способам ее воспроизведения упразднились. Высвободилось обширное пространство "чистого искусства" (как он называл свое теперь уже "безобидное" творчество), таившее ловуцпсу, в которую всегда попадается автор, вступая в его владения без должных на то оснований. То была, скорее, декларация намерений, тесно связанная с представлением о собственных возможностях. Вынужденно "отступая" в сферу "чистого искусства", Чернышевский справедливо ощущал себя знатоком и ценителем литературных форм, составлявших, по его мнению, существо этого искусства. Позиция же автора оставалась в обоих случаях неизменной: автор располагал существующими литературными формами для выражения своих умозаключений о путях просвещения человечества, представленного теперь уже не столько проницательными читателями, сколько массой публики, которая ничего кроме легких романов и сказок не читала.
И все-таки графоманский азарт Чернышевского нельзя всецело объяснить подобными декларациями по поводу изменившегося направления его творчества. Семантика слова как нельзя лучше подчеркивает некую одержимость автора сочиннтельством, какого бы качества оно ни было и для чего бы ни предназначалось. В каком-то смысле это было сочинительство себя самого, осуществлявшееся в безопасной опосредованной сфере чужого слова, где автор столь же анонимен, сколь и невеществен, отчужден от себя самого. Именно здесь Чернышевский наиболее интенсивно разрабатывает категорию авторства не только как инстанцию письма или завуалированную "пустяками" кафедру просветительства. Первое для него - дело техники, второе - опытности. Беллетристическая
сфера письма привлекала Чернышевского своей "бескорыстностью", отсутствием пристального наблюдения за личностным смыслом авторского самовыражения. Фигура автора - некоего лица, легко заменяемого псевдонимом, формировалась в его представлении с помощью комбинации сюжетов и персонажей и оконтурнвалась легкой просветительско-дидактической рамкой.
Как и всякая имитация, творческий процесс такого рода свидетельствует о бессильной борьбе с языком за какую-то внеязыковую (в эстетическом смысле) реальность, во имя которой он приносится в жертву. Эта реальность находится в сфере рациональных усилий сознания. Само существо художественного языка не удовлетворяется логикой как смысловой мерой высказывания, оно ищет и находит более широкий горизонт. Личностное же сознание, декларативно взывающее к разуму и логике как средствам познания, способно лишь манипулировать художественной и языковой формой для условного называния адекватной себе реальности.
При графоманском типе беллетристического мышления автор оказывается персонажем собственного текста, однако вовсе не в сюжетном смысле. Его роль - роль персонажа по отношению к автору в самом общем, почти внеличностном понимании этого слова. Некой мыслительной идентификацией он осваивает чужое, и оно для него действительно становится своим - возникает иллюзия порождения. Однако не во флоберовском варианте - мадам Бовари - это я, а как если бы мадам Бовари сказала: Флобер - это я. Оттиск, мнящий себя творцом, - вполне наполеоновская тема в Достоевском смысле слова.
В этом отношении беллетристический импульс Чернышевского особым образом проявляет его личностный склад. Графоманство здесь -своего рода материализованная проекция внутренней потребности от-рефлектировать переживание мира и себя в формах, предельно отчужденных от индивидуальнего осмысления того и другого.
Второй раздел посвящен исследованию проблемы автор в структуре сюжетного повествования на материале романа Чернышевского "Повести в повести".
Текст представляет собой интереснейший литературный эксперимент как в области формы, так и в плане разработки авторской стратегии присутствия и поведения в тексте. С позиции сверхзадачи здесь ставится вопрос о том, что есть писание и писательство как таковые, причем не в идеологическом смысле, который занимал Чернышевского до этих пор, а, можно сказать, в онтологическом, отрефлектированном интеллектуально-аналитическим способом в ракурсе автор - текст и выведенном в особую форму эстетического предъявления авторского я.
С этой точки зрения большой интерес представляет сюжетная структура произведения, устройство которой напоминает лабиринт. Входящему вручается его ясный и подробный план, на деле оказывающийся путеводителем по мировой литературе, но никак не по данному тексту. Искусство авторской мистификации разработано здесь в высшей степени виртуозно. В феноменологическом смысле читатель ищет в этом лабиринте текста автора, пытаясь среди множества его фантомов различить истинного.
В этом контексте исследуются темы "сокрытия лица", "тайны", "игры в переодевание", "псевдонимов" и др. Можно сказать, что интеллектуальный блеск замысла и художественная беспомощность воплощения образует мощный рефлективный импульс, проявляющий в тексте усилия авторского самоуяснения и самовыражения. Формы его проявления и становятся предметом исследования.
В третьем разделе рассматривается феноменологический аспект писания как способа мыслить и оформлять собственное я. Близорукость Чернышевского (отправная тема суждения) - метонимическая модель взаимодействия пишущего с текстом.
Упоминание о крайней степени близорукости Чернышевского встречается едва ли не во всех мемуарах о нем и становится весьма существенной чертой психофизической характеристики. Само по себе это обстоятельство вряд ли могло лечь в основу названной метонимической, а отчасти и метафорической параллели. Непосредственным поводом для ее обнаружения послужила частотность упоминаний, описаний, рассуждений, касающихся близорукости, в письмах и дневниках самого Чернышевского. Он связывает ограниченность зрения с обширным кругом свойств, далеко выходящих за пределы физиологии. Оставаясь в границах, намеченных самоописанием Чернышевского, и привлекая некоторые дополнительные наблюдения близкого характера, мы исследуем интересующую нас сферу авторского присутствия в тексте.
Предметом наблюдения являются определенные внешние проявления близорукости, зафиксированные в мемуарах, письмах и дневниках Чернышевского:
- визуальная ограниченность внешнего мира и предельная сосредоточенность на том, что находится непосредственно перед глазами;
- укрупнение деталей, внимание к мелким подробностям, стремление на основе их умножения составить представление о целом;
- умозрительность впечатлений о внешнем мире, источником которой является прочитанное;
- связанная с этим сложность идентификации, опознавания вещественного мира;
- мистификация окружающих, для которых границы возможностей зрения человека с крайней степенью близорукости остаются до конца не вполне ясными;
- соотношение психофизических черт, манеры поведения и общения, производных от особенностей зрения.
Привлекает внимание совершенно особые отношения близорукого взгляда Чернышевского с предметом непосредственного рассмотрения. Во многих письмах к жене он развивает теорию об исключительных особенностях собственной близорукости: "На расстоянии, на котором я вижу ясно, я вижу так ясно, как немногие. Например, на нежной гравюре я различаю такие тонкие штрихи, такие крошечные неровности в их ширине, такие мйньятюрные шероховатости в слоях краски, каких не различают большая часть людей иначе, как через сильную лупу" (14,661). Выбор гравюры в качестве примера интересен по нескольким позициям. Из немногих возможных для него вариантов — книга, рукопись - Чернышевский выбирает пространственное изображение, передающее достаточно цельный зрительный образ, однако описывает его в плане мельчайших дробных технических деталей. На оптимальном для глаза расстоянии (очень небольшом), благодаря уникальной зрительной способности увеличивать, укрупнять изображение, предмет фиксируется не столько в целом, сколько фрагментарно, с избыточной для обычного зрения подробностью. В результате такого восприятия предмет особым образом трансформируется, искажается.
Приведенное свидетельство Чернышевского интересно, в частности, тем, что гравюра как вид графики располагает теми же техническими средствами, что и письмо - линия, штрих ^гарЪо - пишу). Как и письмо, то и другое относится к сфере записи, воспроизведения (изображения, букв и т.п.). Чернышевский проявлял большой интерес к графологии. В юности он освоил умение писать несколькими почерками. По ходу следственного дела он дает подробную графологическую экспертизу собственного почерка. Характер описания графической стороны почерка не оставляет сомнения, что Чернышевский очень серьезно относился к "рукописью". Почерк для него, безусловно, является выражением многих внутренних черт, индивидуальных особенностей характера.
Сам процесс писания у Чернышевского фактически совпадал с процессом сочинения, т.е. мыслительным процессом. Отсюда - бесконечность, непрерывность писания, многочасового и ежедневного. Фактура текста словно бы повторяет мыслительные ходы: многочисленные цепочки вставных рассказов и новелл, циклы произведений, в общем замысле так и не реализованные, составляют в его сознании единое целое. И к этому надо прибавить массу неоконченных - недо-мысленных, недо-
писанных произведений. И таких большая часть.
Характерно, что Чернышевский часто пользуется метонимическим понятием почерк (рука) - автор (рукопись). Но и переписать чужой текст, освоив его своей рукой, - значит стать со-автором, а иногда и автором, поскольку рука, воспроизводя и воссоздавая текст заново, будто присваивает его себе. Основное значение для Чернышевского имел сам процесс писания, но никак не последующее взаимодействие с рукописью - усовершенствование, хранение ее и т. д. В ссылке Чернышевский легко уничтожал написанное - бросал, рвал, сжигал. Однако рукописи, действительно, не горят. Главное было сделано - написанный текст обретал жизнь и сохранялся в памяти, но не как обдуманный вчерне, а как завершенный, получивший после буквенной материализации устойчивую и неуничтожимую форму.
В контексте обозначенной проблемы исследования интерпретируется соотношение почерк-слог. Разные почерки сопоставимы здесь с разными "сортами слога", владение которьши основывалось на знании стилевых и жанровых эталонов.
Именно уверенность в способности воспроизводить, имитировать слог позволяла Чернышевскому писать во всевозможных жанровых направлениях. Если "сорт слога" мог подлежать волевой обработке, то более общий авторский обзор неизменно оказывался ослабленным, размытым. Фиксируя растянутость, рыхлость фразы, запутанность конструкций в пределах высказывания, Чернышевский вместе с тем не мог оценить тех же качеств в масштабах повествовательного целого. Бесконечное нанизывание повестей и рассказов, рассогласованность сюжета или явную перегруженность его описаниями и рассуждениями он относил к достоинствам найденной беллетристической формы.
Автор словно фокусирует внимание на том, что находится непосредственно "перед глазами". Он стремится к воспроизведению мельчайших подробностей, избыточных для "обыкновенного" повествовательного зрения. Умозрительное представление об устройстве эталонных образцов не поддавалось переносу во внешнее пространство текста. Чернышевский не мог быть копиистом в полном значении этого слова. Авторство всегда остается главной интенцией любого писания, идет ли речь о беллетристике, дневниках, статьях или письмах. Сочинительство растворяло и до неузнаваемости трансформировало любой образец, даже если Чернышевский имел сознательное намерение освоить чужую манеру и пользоваться ею для изложения своих идей.
В этом контексте графоманство как потребность самовыявления в опосредованных "чужих формах" исследуется уже не в эстетической, но в феноменологической проекции.
В Заключении подводятся итоги работы, обобщаются наблюдения, сделанные в ходе исследования, и намечаются перспективы, связанные с дальнейшим развитием данной темы. Здесь хотелось бы подробнее развить последнее положение.
Можно утверждать, что феномен самосознания шестидесятников наи- , более своеобразно проявился в типе письма. Письмо оказалось наиболее продуктивной сферой для радикальной разночинной интеллигенции не . только в плане выражения своего миропонимания, но и с позиции самоописания, столь актуального для нее в феноменологическом смысле.
В словесной культуре середины XIX в. по существу не выделен статус разночинской словесности. Модальность ее существования определила преимущественно идеологическую направленность при оценке публицистики и беллетристики. Рассматривая специфику разночинской словесности, можно предположить, что словесная культура этого периода не располагала "готовым" языком, подходящим для выражения столь сложных и изощренных изысканий разночинского самосознания, стремящегося к адекватному выражению. Опосредованное использование существующих культурных форм языковым сознанием пишущего свидетельствует как об активном поиске в сфере культурно адаптированного письма, так и о попытках выйти за ее границы. Феноменологический опыт разночинского самосознания нуждался в особых формах словесного выражения себя вовне.
Специфика разночинского письма в полной мере может быть исследована при условии максимального привлечения широкого слоя текстов самой разной жанровой ориентации. Данная работа - первый шаг в этом направлении. Однако и рассмотренный материал позволяет оценить актуальность разработки подходов к освоению внутреннего пространства текста как динамического дискурса, обусловленного деятельностным проявлением личности пишущего. Такой подход к письменным источникам позволяет в какой-то мере примирить фактографический и теоретический взгляды на историю литературы.
Процессы, происходившие в художественной литературе, могут быть исследованы более полно, если в сферу филологического исследования будут полноправно включены и документальные источники. При этом можно предположить, что разночинский тип письма мог стать явлением словесной культуры только пройдя эстетическую обработку. В эмпирически сырой, становящейся форме он проявил лишь общие свойства мар-гиналвностк, в данном случае, как признака "плохого" письма.
Современное "забвение" разночинской словесности может показаться вполне оправданным и вне утраты интереса к идеологическим подходам. Определенная "реактуализация" рассмотренных нами текстов воз-
можна не только с помощью увеличения объема источников, сопоставления художественного и нехудожественного дискурсов, привлечения дополнительных контекстных смыслов историко-культурного характера. Чрезвычайно плодотворной представляется мысль М. Фуко о реакту-ализации текстов с помощью включения дискурса в такую область приложения, которая для него является новой.
В определенном смысле рассмотренные поиски новых языковых возможностей совпадали с общим руслом литературного движения, наметившимся с конца 40-х годов XIX века. Преодоление ограниченности и отчасти исчерпанности эстетических языковых систем осуществлялось по-своему каждым писателем, но в рамках общей тенденции, зафиксированной различными идейно-эстетическими теориями этого периода. Условность понятий, выдвинутых для обозначения новизны явления, безусловно, способствовала "опознанию" тех или иных опытов, но не всегда помогала разобраться в его существе. Достаточно сказать, что в пределах современного литературоведческого языка репутация термина "реализм" стала крайне сомнительной и уж во всяком случае использование такого понятия оказалось малопродуктивным для исследования творчества "реалистических" писателей XIX века. Вместе с тем неадекватность или спорность наименования не отменяет сам факт или значимость явления. Не останавливаясь здесь подробнее на этой весьма актуальной сегодня литературоведческой проблеме, отметим лишь, что документальная литература по-своему участвовала в общих поисках, свидетельствующих об изменении культурного мышления.
Даже и не доведя опыт до обработки, требуемой традиционными культурными параметрами, она создала прецедент, не оставшийся без последствий. Со временем рефлективное сознание (как неотъемлемый личностный признак человека "новейшего времени") все больше узурпировало ппсьмо как территорию самовыражения и тем самым расширяло его возможности. В этот процесс были вовлечены в равной мере и художественная литература, и словесность в широком смысле слова. Именно поэтому с филологической точки зрения словесные усилия разночинской плеяды шестидесятников требуют дальнейшего исследования.
Ближайшая перспектива связана с исследованием специфики феноменологии авторского сознания в публицистических и художественных текстах разночинной интеллигенции. При этом дополнительного анализа требует выявление разночинской феноменологии уже не только в ее революционно-демократической разновидности и не только на отрезке 60-х годов, но и в контексте XIX века в целом.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. О культурно-типологической модели в произведениях Ф.М. Достоевского // Проблемы философии и литературы. - Кемерово, 1989 (0,5 п. л.).
2. Тип разночинца в историко-культурном изучении (К постановке проблемы) // Методология и методика историко-литературного исследования. - Рига, 1990 (0,2 п. л.)-
3. Достоевский и Герцен (к вопросу о формировании типа "подпольного героя") // Проблемы современной филологии. - Барнаул, 1990 (0,2 п. л.).
4. Русский демократ на rendez-vous // Литературное обозрение. -1991. -№ц (0,5 п. л.).
5. Письма Ф.М. Достоевского как предмет эстетического анализа // Эстетический дискурс: Семантические исследования в области литературы. -Новосибирск, 1991 (0,5 п. л.).
6. Идея "великого человека" в автоконцепции личности революционеров-демократов // Сюжет и время: К семидесятилетию Георгия Васильевича Краснова. - Коломна, 1991 (0,3 п. л.).
7. Ловушки мистификации (к вопросу об интерпретации документальных источников) // Ars interpretandi: Сборник статей к 75-летию профессора Ю.Н. Чумакова. - Новосибирск, 1997 (0,5 п. л.).
8. Графоманство как эстетическая рефлексия (сибирская беллетристика Н.Г. Чернышевского) // Дискурс. - Новосибирск, 1997. - № 5/6 (0,3 п. л.).
9. История литературы 1860-х годов: проблемы изученности и изучения // Гуманитарные науки в Сибири. - 1998. - №4 (0,3 п. л.).
10. Разночинцы шестидесятых годов ХЕК века: Феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики. - Новосибирск, 1999 (13,5 п. л.).
11. Автор в структуре сюжета ("Повести в повести" Н.Г. Чернышевского) // Традиция и литературный процесс. - Новосибирск, 2000 (0,5 п. л.)
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Печерская, Татьяна Ивановна
Введение.
Глава I. Разночинство как черта самосознания.
1. Разночинцы 1860-х годов как социокультурное явление
Программа сотворения мира и нового человека: феноменологический аспект. — Разночинское сознание — границы понятия: соотношение общественного ("массового") и индивидуального в личностном самоопределении. — Со-словно-психологический комплекс разночинства. - Литературная характерология и исторический тип: подпольное пространство нового человека. — Маргинальность и словесное мышление.
2. Дневники Добролюбова.
Анекдоты из закулисной жизни известных людей: общественное восприятие и личностное самоопределение. -Идея избранности в автоконцепции Добролюбова: я и другие. - Формирование внешнего облика: репутация и амбиции. — Чувственный и эмоциональный опыт как предмет рефлексии: "он был титулярный советник, она — генеральская дочь". — Словесная идентификация: в поисках самого себя.
Глава II. Феноменологический портрет исторической личности в дневниках и мемуарах, или "ускользающая натура"
1. Автоконцепция личности и пути формирования мемуарного облика Чернышевского.
Идея великого человека в самосознании Чернышевского: саратовские дневники и сибирские письма. — Герой и антигерой: индивидуальная адаптация одного клише.
Рефлективность психологического абриса. — Манера как форма внешнего предъявления и внутреннего отчуждения.
2. Чернышевский в мемуарах современников: социальный миф и исторический документ.
Концептуализация биографического материала. — "Житийные" мемуары: свидетельства очевидцев и авторская интерпретация. — Мемуары-расследования: реконструкция психологического и идейного облика героя. — Мемуарная полемика: критерии достоверности, истина и правдоподобие. - На границе жанра: мемуарный портрет.
Глава III. Разночинство как стиль высказывания
Разночинский стиль высказывания: критерии и подходы к исследованию. - Разножанровые стратегии стиля: специфика и универсальность. — М.А. Антонович: "Памяти Н.Г. Чернышевского". - "Воспоминания" А.В. Эвальда и публицистический отклик М.А. Антоновича "По поводу литературных воспоминаний А.В. Эвальда".
Чернышевский: "Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым". — Чернышевский: переписка с Некрасовым. — Чернышевский и Герцен: история одного сюжета.
Глава IV. Автор и текст.
1. Беллетристические опыты Чернышевского: графоман ство как форма авторской рефлексии
Сочинительство как "истинное призвание". — Автор в пространстве письма: крепость, ссылка, комната. - Самообъективация в беллетристике: соотношение реального и идеального. - Цензура и сочинительство: внешнее препятствие и внутреннее высвобождение авторской инициативы. — Открытые возможности безымянного слова: имитация и самовыражение.
2. Автор в структуре сюжетного повествования ("Повести в повести").
Автор и текст: пути взаимного отчуждения. — Автор и сюжет: закон вторых рук. — Автор и персонаж: взаимозамена и мистификация (имя, псевдоним, игра в переодевание). - Страсть сочинительства и тайнопись текста.
3. Визуализация авторского присутствия в тексте
Близорукость как повествовательная перспектива. — Буква и слог: имитация авторства. — Почерк и повествовательная манера письма. - Микро- и макропространство текста. — Сочинитель и переписчик в аспекте ценностной шкалы авторства.
Введение диссертации1999 год, автореферат по филологии, Печерская, Татьяна Ивановна
Предмет нашего исследования, обозначенный в названии книги, может быть описан на различных языках гуманитарного знания. Однако и внутри литературоведения феноменологический подход проявляется по-разному в зависимости от сферы приложения. Нас интересовали возможности этого подхода в рамках филологической герменевтики. Тематическое же ограничение самого предмета исследования — разночинская генерация поколения 1860-х годов — вполне определенно адресует в область истории литературы XIX в.
В аспекте исследования общественного и индивидуального самосознания история литературы разработала обширное понятийное пространство. По ходу его формирования она активно взаимодействовала как с внутренними областями литературоведения, частью которого и является, — теорией литературы, литературной критикой, — так и с сопредельными ей историей, эстетикой, культурологией, и, что совсем немаловажно, — с "методологическими" по отношению к ней областями — философией, психологией и т. д. В нашем описании феноменологии самосознания мы не отказываемся от использования возможностей поистине панорамного обзора, открывающегося с этих позиций на предмет исследования. Однако надо признать, что этот обзор без достаточно четкой фокусировки в равной мере и расширяет перспективу, и размывает ее. Опасаясь последнего, мы ограничили материал, необходимый для уяснения предмета исследования, достаточно конкретным видом словесности — документальными текстами: мемуарами, дневниками, письмами и некоторыми другими формами нехудожественной словесности, стремящимися к подобию с ней.
Шестидесятые годы, отрезок времени, при всей его краткости, небезосновательно именуемый иногда эпохой шестидеся
1Ы.х, образует необходимый исторический контекст, вне кото-ого невозможно не только изучение феноменологии разночин-кого сознания, но и понимание путей формирования мифоло-ии его восприятия — как общественного, так и научного.
Выбор указанного документального материала определятся и рядом других причин. Назовем вначале те, что тес-ее всего связаны с проблемами изучения истории литера-уры. В настоящее время сложность этих проблем определятся видимой концептуальной завершенностью и исчерпан-остью исследовательских подходов* сформированных в радиционной отечественной науке. Общая картина выглядит парадоксально: проблема изучения этого периода - в беспроблемности, совершенной изученности материала.
Возьмем, к примеру, область литературной критики шестидесятых годов, важнейшую в изучении этого периода. Генеральная идея десятилетия хрестоматийно обозначена прежде всего так называемой реальной критикой — революционно-демократической критикой школы Чернышевского и Добролюбова. Другие направления критики, бурно развивавшейся в те времена журнальных баталий, исследованы главным образом как место приложения блистательных усилий "Современника". Примечательно, что само пространство демократической критики почти целиком совмещено с пространством общественной жизни и почти разъединено с собственно литературным. Это явление не уникально в истории литературы. "Превышая полномочия" и утрачивая собственные границы, литературная критика становится фактически самостоятельной культурно-идеологической инстанцией и обслуживает свои потребности с помощью литературы и отчасти за ее счет1. В русской же литературе XIX в. эта ситуация, пожалуй, беспрецедентна.
1 Эпштейн М.Н. Критика в конфликте с творчеством // Эп-штейн М.Н. Парадоксы новизны. М., 1988. С. 179 - 180.
Ведущие писатели этого времени — Тургенев, Толстой Гончаров, Достоевский, Лесков и др. — не только не призна ли авторитет реальной критики, но по сути дела отказал ей в эстетической и идейной состоятельности. "Казус" взаи моотношений литературной критики и литературы переве ден первой в план идейной полемики с преимуществами н своей стороне. Что же касается собственно истории литера туры, то это случай, когда "дух времени" "становится ми фическим интегралом и абсолютом, вместо того, чтобы лучшем случае служить лишь указателем трудности сложности проблемы", встающей перед историком литера туры2.
Так, например, известно, что эстетика и идеология шко лы Чернышевского не вдохновила никого из серьезных пи сателей — остался ряд учеников, чьи имена сохранились ис ключительно в недрах истории литературы и чьи произве дения так и не стали художественным явлением. Межд тем в истории литературы шестидесятых годов зафиксирован идейно-художественный переворот, произведенный реальной критикой. Подтверждения этого явления черпаются не столько из сферы литературной жизни, сколько из деклараций самих критиков. Разумеется, нельзя игнорировать столь отчетливо сформулированные манифесты, когда их авторы, литературные критики, так предельно ясно обозначают свое предназначение по отношению к литературе. Однако нельзя не учитывать, что в норме критика предоставляет истории литературы главным образом "сопутствующий комментарий", играющий лишь вспомогательную роль. Научное "недоразумение" заключается в том, что история литературы, рассматривающая критику в качестве одной из
2 Уэллек Р. и Уоррен О. Литература и идеи // Уэллек Р. и Уоррен О. Теория литературы. М., 1978. С. 197. своих составных частей, подменила историческое описание литературного процесса критическим и возвела идеологию революционно-демократической критики в ранг научной методологии. Апелляция к общественному мнению — истинной реальности всякой просветительской критики - заметно повлияла на то, что популярность в среде читающей демократической публики стала традиционным аргументом, подтверждающим подлинность оценки того или иного литературного, а заодно и общественного явления.
Кризис изучения истории литературы шестидесятых годов, затронувший ту ее часть, которая оказалась наиболее зависимой от идеологии, вместе с разрушением последней способствовал особенно острой проблематизации научной методологии. Кризис истории литературы как методологический феномен может служить интересным предметом специального исследования3.
Первый его признак красноречиво проявился в своеобразном умолчании — на протяжении последнего десятилетия историки литературы почти вовсе не касаются этого периода. Другой признак напоминает тот, что обнаружился в ре-изучении литературы XX в., так называемого советского периода. Рассуждая о возникшей при исследовании литературы советского периода "проблеме репертуара изучаемых памятников", Я.С. Лурье замечает: "На практике оценка творчества того или иного писателя во мнении читателей и критиков постоянно связывается с его общественной по
3 Вопросам кризисного состояния существующей истории литературы, проблемам концептуальных и методологических подходов к ее изучению, в частности, к периодизации, литературным направлениям и пр. посвящен сб. статей "Освобождение от. догм. История русской литературы: состояние и пути изучения" / Под ред. Д.П. Николаева: В 2 т. М., 1997. Сборник составлен на основе докладов, прочитанных на Всероссийской научной конференции, проходившей по инициативе ИМЛИ и ИРЛИ в 1992 г. зидией. Важнейшую роль при этом играет произошедшая за последние годы смена одних идеологических стереотипов другими, не менее жесткими. Новые стереотипы складываются чаще всего как последовательная антитеза старым"4.
Сходная публицистическая тенденция проявляется и в изучении наследия самой демократической критики. Рассматривая ее в исторической ретроспективе, нельзя не увидеть, что революционно-демократическая критика, если так можно выразиться, наступила на собственные грабли. Как говорил Базаров в минуту горького разочарования, "сказать, что просвещение полезно — это одно общее место, сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место". Желание устранить сохраняющуюся в общественном мнении ошибку, выявив ее социально-исторические истоки, вполне правомерно для критики идеологии, но едва ли достаточно для истории науки5.
Важнейшая проблема истории литературы как литературоведческой дисциплины связана с областью методологии. Нельзя представить научный подход, разработанный специально для того или иного периода, особенно столь краткого, как в нашем случае. И в этом смысле от того, в каком состоянии находится литературоведение в целом, зависят во многом и подходы к изучению историко-литературного материала шестидесятых годов.
4 Лурье Я.С. Невовлеченность в систему // In memoriam: Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб., 1997. С. 101. Статья Н.В. Володиной "О типологии литературной критики XIX века" — одна из немногих попыток внести новое методологическое обоснование (взамен хронологического и системного) в историю критики. В основе предлагаемой ею типологии лежат ценностные установки критиков. Революционно-демократическая критика обозначена как публицистическая. Для сравнения: критика Надеждина, Веневитинова названа философской; Дружинина, Боткина, Анненкова — эстетической и проч. См.: Освобождение от догм. Т. 1. С. 269 - 277.
Разрушение привычных подразделений и специализаций внутри литературоведения, характерное для современной науки, во многом способствует его обновлению. Коснемся, например, такого аспекта исследования литературы, как научная биография. Подходы к ней особенно актуальны для нас при изучении материалов, связанных с ведущими деятелями шестидесятых годов.
Проблема научной биографии наиболее представительно была сформулирована в отечественном литературоведении Г.О. Винокуром еще в 1920-х годах6. Намеченные им подходы оказали значительное влияние на исследования последующих десятилетий. Выделим один из наиболее важных аспектов — биография как целостный текст, внутренний механизм которого определяет и регулирует принципы последующей интерпретации. Г.О. Винокур воспользовался "синтаксической" метафорой, которую мы хотели бы здесь воспроизвести: «Ведь с этой точки зрения развитие есть не что иное, как синтаксис, в самом точном и даже буквальном значении этого термина. Самая последовательность, в которой группирует биограф факты развития, а отсюда и все свои факты вообще, есть последовательность вовсе не хронологическая, а непременно синтаксическая. <.> Иными словами, "развитие" понимается здесь мною точно так же, как словесный контекст. Мне непонятна, к примеру, немецкая или латинская фраза, пока я не добрался в ней до глагола, я не знаю, родительный или винительный передо мною падеж в русском языке, пока я не раскрою синтаксических отношений данного слова: точно так же непонятен мне Гете — автор Вертера, если я не знаю его как веймарского министра, и ничего не пойму я в ре
6 Винокур Г.О. Биография и культура. М., 1997. бенке-Лермонтове, пока не узнаю о "вечно печальной" дуэли на склоне Машука»7.
Другая близкая по смыслу метафора, имеющая, правда, статус понятия, описывает условия понимания целого на основании отдельного и отдельного на основании целого. Мы имеем в виду понятие герменевтического круга, круга понимания. Очерчивая различные связи отдельного и целого внутри него, Гадамер намечает цепочку взаимосвязей: "Как отдельное слово входит во взаимосвязанное целое предложения, так и отдельный текст входит в свой контекст — в творчество писателя, а творчество писателя — в целое, обнимающее произведения соответствующего литературного жанра или вообще литературы <и т. д.>. А с другой стороны, этот же текст, будучи реализацией известного творческого мгновения, принадлежит душевной жизни автора как целому"8.
Философская широта мышления Г.О. Винокура позволила ему наметить подходы, далеко выходящие по своим последствиям за границы достаточно локальной, на первый взгляд, области. Такие понятия, как стиль поведения, стилизация, получили дополнительное развитие в культурно-семиотической школе Ю.М. Лотмана. В аспекте изучения уже не индивидуально-личностного, но типологического исследования культуры семиотика поведения определила парадигму, вне которой проблема реализации личности в культуре не может быть исследована во всем объеме.'
7 Винокур Г.О. Биография и культура. С. 40. Достаточно скептически оценивая существующие опыты в жанре биографии, ученый, наверное, мог быть удовлетворен жизнеописанием Тургенева, созданным Б. Зайцевым в конце 20-х гг. в манере, чрезвычайно близкой подходу Винокура к "самому искусству писать биографии". Книга Б. Зайцева, на наш взгляд, и сегодня - лучшая биография Тургенева. См.: Зайцев Б. Жизнь Тургенева. М., 1998.
8 Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 72 - 73.
Не меньшее влияние на последующее изучение личности в истории литературы и культуры оказали работы Л.Я. Гинзбург, посвященные анализу исторического характера и исторической психологии личности. Л.Я. Гинзбург в первую очередь акцентирует "соотношение между концепцией личности, присущей данной эпохе и социальной феде, и художественным ее изображением"9. Для нас особенно ценны ее наблюдения, основанные на использовании документальной литературы, - письмах, мемуарах поколения 30—40-х годов XIX в. Историчность материала, привлекаемого для филологического анализа, является для Л.Я. Гинзбург конкретной средой развития теоретических положений. Интерес исследовательницы к закономерностям и социально-исторической типологии, в частности, "реалистической" ее модификации, обусловливает редукцию собственных возможностей документальных жанров, находящихся не столько в сфере социокультурного языка эпохи, на котором выражает себя историческая личность, сколько в онтологической сфере письма и авторства как таковых.
Названные исследования сформировали основу современного теоретического и историко-литературного подхода к изучению различных описаний личности в истории литературы. Что касается XIX в., то на практике в рамках этих стратегий были исследованы его первые четыре десятилетия. Продуктивно разработанные подходы не получили развития на материале 1850-1860-х годов, исключая немногочисленные опыты последнего времени.
Современное литературоведение проявило большой интерес к исследованию феноменологии и психологии личности, в том числе и в сфере научной биографии. Это в большей степени касается литературоведения, ищущего новый угол зре
9 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. JL, 1971. С. 52. ния в других областях познания, например, в психоанализе, философии, теологии и пр. Надо заметить, что в таких случаях чаще речь идет на столько о расширении границ науки, сколько о переводе предмета с понятийного языка одной науки на язык другой. Необиографизм, как нам кажется, -более "языковая" проблема литературоведения, нежели методологическая. Кроме того необходимо учитывать, что, располагая предмет исследования на границе с другими областями знания, мы обеспечиваем ему периферийное положение относительно центра той области, которой он "исконно" принадлежит. Приобретения и потери оказываются неизбежно уравненными в своих последствиях.
Наиболее активно исследуется литературная личность с помощью психоанализа. Работы С. Сендеровича, Е. Толстой о Чехове, И. Паперно о Чернышевском, И. Смирнова о развитии русской лиературы XIX — XX вв. достаточно ярко и интересно представляют это направление литературоведения10. В работах указанных авторов интегрированы самые разные подходы к исследованию биографического материала в аспекте анализа личностной индивидуальности писателя; ее соотношения с текстом (художественным и внехудо-жественным), литературным высказыванием как таковым. Назовем из недавно вышедших работ, близких перечисленным по интегративному подходу, исследования В. Топорова о Тургенева и А. Фаустова о Тургеневе и Гончарове11.
См.: Сендерович С. Чехов — с глазу на глаз. История одной одержимости: Опыт феноменологии творчества. СПб., 1994; Толстая Е. Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. М., 1996; Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996; Смирнов И. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. СПб., 1994.
11 См.: Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998; Фаустов А.А. Авторское поведение в русской литературе. Воронеж, 1997.
Нельзя не заметить, что современная литературоведческая методология активно дробится и в своем пределе стремится к маргинальности. Установление определенного ракурса на предмет исследования, обнаружение самого предмета стали традиционной темой вступлений к научным статьям и книгам. Во многом это явилось следствием активности интеграционных векторов, часто разнонаправленных внутри литературоведческих подходов.
Не в качестве иллюстрации к последнему наблюдению, но в качестве характерного примера научного размежевания приведем фрагмент методологической рефлексии А.А. Фау-стова, исследование которого ориентировано преимущественно на герменевтический подход. Вычленяя необходимый аспект в анализе "личного смысла" текста, исследователь создает свое описание почти по аналогии с портретом пушкинской Татьяны: «И действительно, взятые под таким углом зрения, тексты не являются ни материалом для "извлечения" из них фактов жизни художника, его взглядов или для всякого рода психологических реконструкций, ни точкой скрещения различных стилевых, жанровых, мотивных и прочих тенденций или предметом восторга для поклонников анализа "отдельного произведения", ни продуктом анонимной работы тех или иных культурных механизмов, ни, тем более, поставщиком идей и цитат. В этой перспективе литературное высказывание предстает прежде всего со стороны своего кто, в нем начинает быть слышен живой голос художника»12.
В работах, ориентированных на использование психоанализа при исследовании психологического склада личности писателя, психологии творчества, воздействия на читателя,
12 Фаустов А.А. Авторское поведение. С. 3. Шрифтовой акцент -автора. наиболее заметно влияние теорий 3. Фрейда и К. Юнга и их современных последователей. Вопрос о возможностях методик психоанализа слишком специальный, и его обсуждение не входит в задачи нашего обзора современных литературоведческих подходов к изучению личности. Заметим только, что если судить по результатам, то они менее привлекательны, чем процессуальная сторона анализа. На результативную и процессуальную стороны исследования существенно влияет и степень корректности как авторов, так и самой психоаналитической техники.
В отечественном литературоведении и вне его теория психоанализа была особенно популярна в 1920-е годы13. Тогда же Г.О. Винокур писал, что исследователи, "расшифровывая" личность с помощью различных квази-типологий, "не знают иного пути в историю, как только через клинику"14. И это при том, что тогда различные психологические теории развивались преимущественно на своей территории, где "литературная" личность и художественное произведение служили главным образом иллюстративным материалом. Современная картина выглядит иначе. Аналитическая психология стала распространенным методом собственно литературоведческого анализа.
По мнению С. Сендеровича, возможности этого метода оказались востребованными в результате разрыва, образовавшегося между автором и текстом: "Объяснение творчества писателя исходя из его происхождения и окружения, по образцу механического детерминизма, сменилось в нынешнем веке под влиянием формализма и литературоведческого структурализма имманентным подходом к тексту с выходом за его пределы лишь постольку, поскольку этого требу
13 См.: Эткинд A.M. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб., 1993.
14 Винокур Г.О. Биография и культура. С. 36. ют язык и культурная укорененность текста. <.> Однако в результате этого подхода прервались связи между текстом и личностью писателя — он оказался лишь культурным агентом. Этот недостаток был восполнен психоанализом, который открыл перспективу чтения личности как текста и текста как выражения личности"16.
Своеобразное преодоление разрыва между автором и текстом предпринято в упоминавшемся уже исследовании В.Н. Топорова "Странный Тургенев". Психологический рисунок личности, намеченный исследователем, позволяет ему особым образом совместить противоречивые биографические сведения. Топоров исходит из того, что "странное", "темное" в Тургеневе зачастую представляется таковым только в пределах стереотипа восприятия. На более глубоком уровне сознания личности это "темное", выходя из слоев бессознательного, так или иначе прорабатывается в "светлом" поле сознания и подлежит опознанию и интерпретации — если не самим писателем, то исследователем. По мнению автора, таким образом наметившего подходы к "странному" в Тургеневе, художественные тексты если и впускают "темное" в поле личности, то в "просветленном" виде. С этой точки зрения письма, мемуары и другие документальные материалы более открыты самовыражению личности. Так или иначе, ценность предпринятого исследования заключается не столько в новых сведениях о "странном Тургеневе", сколько в самих подходах к интерпретации существующих личностных противоречий.
Неудивительно, что на фоне столь ярко и многообразно проявившейся исследовательской тенденции новое изучение эпохи шестидесятых не могло не совпасть с ней хотя бы ве-кторно. Провоцирующим моментом здесь стал идеологиче
15 Сендерович С. Чехов - с глазу на глаз. С. 9. ский миф, - как и всякий другой миф, всегда представляющий интерес для психоанализа. Подчеркнутое самодовле-ние идейно-фигуративных схем мифа, равнодушных к личностному или прямо ему противопоставленных, лежит в основе авторитарного историко-культурного типа мифологиз-ма, традиционного в том числе и для концепции шестидесятых годов.
Методология исследования И. Паперно о Чернышевском сформирована на пересечении подходов Гинзбург и Лотмана к исследованию личности в культуре, с одной стороны, и психоанализа - с другой. Правда, последняя установка не декларируется И. Паперно так же программно, как семиотическая. В ее описании «"человек" — это своего рода клетка для перераспределения, переписывания и трансляции культурных кодов, или то лабораторное пространство, где происходят процессы рекомбинации и мутации культурного материала»16.
Взаимозависимая перестройка психологических возможностей личности, реализующихся в терминах существующих культурных кодов, и самих кодов в соответствии со склонностями личности - вот те параметры, в пределах которых исследуется "человек эпохи реализма", Чернышевский. "Склонности личности" — это на самом деле скромное обозначение обширного поля психоаналитических расследований, затрагивающих глубинные проявления личности, оформленные в языке новой культуры. Мы не касаемся здесь подробно проблематики этой во многих отношениях интересной работы, поскольку еще не раз будем обращаться к ней по ходу собственного исследования в связи с удачно реализованными И. Паперно возможностями семиотического описания 1860-х годов. Но чтобы не lf5 Паперно И. Семиотика поведения. С. 9. возвращатся в дальнейшем к обсуждению психоаналитических методик, с помощью которых велось ею пред-языковое в культурном отношении исследование личности, заметим не без скепсиса, что, вероятно, никогда ранее известный изъян психики, обусловливающий потребность опосредованной "жизни втроем", не имел столь созидательных последствий в культуре.
Обозначенный ряд исследований и литературоведческих стратегий, разумеется, далеко не полон и не завершен. Намечая общие тенденции анализа "литературно-исторической" личности как таковой, мы ориентировались, с одной стороны, на наиболее значительные или, по крайней мере, репрезентативные опыты в этой области, а с другой — особенно выделяли их в связи с интересом к различным интерпретациям документальных источников. Техника интерпретации таких текстов, как известно, всегда обусловлена более широкой научной концепцией, выдвигаемой тем или иным исследователем.
Документальные свидетельства разного рода являются общим материалом, на основе которого и концептуально, и предметно во многом строится история литературы со всеми ее составляющими, равно как и картина общественной жизни в целом. О трудности работы с этим материалом писал еще в начале века М. Гершензон: "Изучать памятники жизни и документы общественной психологии поистине нелегко, а книги так удобны: они не велики и приятны для чтения, выписки сделать нетрудно. Попробуйте в самом деле, по настоящим источникам восстановить картину общественных настроений в 50 и 60-е годы: какое громадное множество скучнейшего материала надо разработать и как трудно разобраться, в его хаотическом содержании! То ли дело перечитать с карандашом в руках романы Тургенева и Гончарова и на основании их изобразить стройную, ясную, одушевленную картину общественной мысли"17.
Однако приходится признать, что сам по себе документ не является залогом подлинности свидетельства ни по одной позиции. Манипуляции с документальными источниками, относящимися к 1860-м годам, особенно наглядны, о чем свидетельствует традиционная концепция шестидесятничества, широко подкрепленная ими же.
В какой-то мере интерес к первоисточникам оживился. Извлечено множество фактов, биографических сведений, вступающих в явное противоречие с официальными версиями биографий и событий тех лет. Речь, конечно, не идет о том, что большая часть этого материала не была известна историку литературы. Здесь правильнее говорить о невключенности его в научный оборот. В результате на поверхности оказалось множество "антикварного" материала (термин, позаимствованный Винокуром у историка В.М. Хвостова). "Антикварные" факты — это факты, не укладывающиеся в историческую связь, существующую концепцию развития18. Так, скажем, биография Некрасова, выверенная по канве "певца народного горя", не вмещает множество свидетельств и фактов, перешедших в последние годы из мемуаров, писем ит. п. в научное пространство истории литературы. При существующей тенденции "решительного пересмотра", упомянутой ранее, легко описать Некрасова как некоего монстра. Но тогда факты, "противоположные" таковым, вновь останутся за пределами концептуального осмысления.
Возвращаясь к теме документальных источников, заметим, что в первую очередь речь нужно вести не о том, что
17 Гершензон М. Предисловие к работе Г. Лансона "Метод в истории литературы". М., 1911. С. 57.
18 Подробнее см.: Хвостов В.М. Теория исторического процесса. М., 1919. из них извлекается, а скорее о том, как это делается. Здесь мы подходим к обозначению специфики документальных источников, вытекающей из их словесной природы. Будучи "памятниками жизни", "документами человеческой психологии" и пр., они являются еще и произведениями "чистой" словесности, которая развивалась во внехудожественной сфере усилиями многих поколений. Не только филолог, но и историк, обращаясь к документам эпохи, имеет дело прежде всего со словесным высказыванием, которое требует понимания, сообразного присущей ему природе смыслового выражения.
Проблема интерпретации документальных источников — а таковыми в конечном счете становятся все тексты без исключения — является одной из наиболее сложных и в области истории литературы. Решение этой проблемы неизбежно начинается с самопрояснения научного подхода. Хронологический зазор, благодаря которому, как кажется, мы всегда знаем больше, чем современники событий, существенно влияет и на то, что мы вычитываем из документов, и на то, что мы "вчитываем" в них. Другими словами, адаптация исследователем предметных понятий, смыслов в контексте образующегося метадискурса никогда не является нейтральной или же пассивной. Исследователь неизбежно вовлекается в смысловые контексты, установленные не только самим источником, но и выработанные предшествующим и современным ему научным опытом. Это удвоение, утроение контекстных смыслов оказывается особенно очевидным, когда собственно научный исторический дискурс сам становится предметом анализа19. Включаясь в существующий исторический контекст изучения документальных
19 Интересные наблюдения по поводу семантики и структуры исторического дискурса см.: Стайнер П. "Формализм" и "структурализм" // Имя - сюжет - миф. СПб., 1996. источников, мы не можем полагать, что исследователь в состоянии отвлекаться от самого себя - такая возможность допускается только с позиций наивного исторического объективизма. По мысли Гадамера, отказ от исследовательской рефлексии и упование лишь на методичность своих приемов заставляют забывать о собственной историчности: "Подлинно историческое мышление должно мыслить и свою собственную историчность"20.
Соотношение индивидуального и исторического сознания субъекта документального высказывания представляет собой сложную проблему, несколько упрощенную, как нам кажется, в исследовательском русле, рассматривающем личный опыт, принадлежащий определенной исторической эпохе, в структуре различных культурных кодов и текстов. Эти соотношения, безусловно, сохраняют для нас всю ценность, однако в практике дальнейшего исследования документальных материалов они будут занимать периферийное местоположение. В нашем исследовании основная стратегия интерпретации будет формироваться вокруг проблемы специфики авторского высказывания. Внимание к форме дневникового, эпистолярного, мемуарного высказывания во всем объеме структурно-мотивационного выражения позволяет понять своеобразие словесного предъявления и самоописания, свойственное самосознанию разночинской интеллигенции 60-х годов. Особенность личностного склада, целиком определившего феноменологию шестидесятничества, наиболее полно раскрывается в формах "частной" словесности и гораздо более опосредованно — в ее публичных формах.
Условно называемый в дальнейшем разночинским, этот личностный склад характеризуется гиперрефлективным са
20 Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. С. 81 — 82. мосознанием, стремящимся к словесному оформлению в высказываниях самого разного рода. С этой точки зрения именно словесная феноменология и будет предметом особого внимания.
Не менее важным представляется анализ эксплицитных стилевых проявлений авторской интенции. В комплексе стилевых признаков рассматриваются такие, как повествовательная интонация и акцент, синтаксическая конструкция и лексическая избирательность, тематические пристрастия и характерные приемы "сюжетосложения". Словом, все то, что, по мысли Винокура, "отличает именно этого говорящего среди прочих" и позволяет нам "смотреть на слово не только как на знак идеи, но и еще как на поступок в истории личной жизни": "не что сказано в слове, а только что он сказал в этом слове"21.
Разночинская окрашенность стиля определяет для нас и направленность стилевого усилия: все нити словесного опосредования ведут к мотивационному центру высказывания, находящемуся на границе авторского самообнаружения. Универсальные свойства человеческого сознания, душевного уклада, психики обнаруживают здесь уникальное и одновременно характерное выражение, которое безошибочно ассоциируется с феноменологией шестидесятничества.
Способы выявления авторской интенции в текстах нехудожественной словесности, разумеется, отличны от тех, которыми мы пользуемся при анализе художественного текста. Мы намеренно не касаемся здесь доводов в пользу сближения литературы и литературных текстов в широком понимании слова. Как отмечает М. Бахтин, "можно, конечно, сделать любой документ объектом художественного восприятия, а особенно легко — документ уже отошедший в про
21 Винокур Г.О. Биография и культура. С. 83. шлое жизни", однако и в этом случае необходимо "предварительное осуществление в понимании имманентного внеэс-тетического задания документа . во всей его полноте и самозаконности"22.
Не только особый интерес к "внеэстетическому заданию документа" уберегает нас в данном случае от соблазна такого подхода к документу. Само словесное качество документального материала, принадлежащего перу разночинской интеллигенции 60-х годов, настолько далеко от эстетичности по самой своей природе, что не провоцирует исследователя к поискам в этой области. Значительное понижение уровня разночинской культуры шестидесятников по сравнению с предшествующим типом культуры отмечалось и современниками, и теми, кто позже обращался к ее исследованию. "Демократизируясь, распространяясь вширь на новые слои, она понижается в своем уровне и лишь позже, путем переработки человеческого материала, культура может опять повыситься", — так, например, оценивает Н.А. Бердяев в работе 30-х годов причины, обусловившие этот процесс23.
Формы личностного самовыражения в документальных источниках частного характера менялись на протяжении XIX столетия сообразно общим законам изменения самосознания человека в движении исторического времени. Феноменология личности разночинской формации — лишь одно
22 Бахтин М.М. Временное целое героя // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 129 - 130.
23 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 40. Созвучные размышления о понижении уровня разночинской культуры см.: Розанов В.В. Три момента русской критики // Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. М., 1990. В том же аспекте о философской культуре этого периода см.: Зень-ковский В.В. История русской философии: В 2 т. JI., 1991. Т. 1, ч. 2. С. 125 - 140. звено, тесно связанное с предыдущими и последующими. Что же касается шестидесятых годов, то они нуждаются в адекватном прочтении как таковые в целом, а не в одних лишь частностях, сколь бы существенными те ни казались. Исследуя здесь более узкую проблему методологического подхода к документальным материалам, на основе которых во многом пишется история литературы, мы хотели бы обозначить как связующее звено некоторые подходы к самой концепции шестидесятничества.
Представляется важным не только и не столько выбор материала, хотя в отношении 60-х годов слишком многое оставалось вне поля зрения исследователей. Гораздо важнее изменение традиционного для источниковедения реконструктивного подхода к тексту. Истолковывать текст через призму имеющихся историко-литературных и биографических сведений, вполне сознавая, что на их основе шестидесятничество успешно трансформировалось в миф, а затем, минуя все промежуточные стадии, — в исторический анекдот, по крайней мере, мало продуктивно. Отводя документу не только посредническую роль между событиями и лицами, но видя в нем прежде всего текст, обладающий своими возможностями выражения смысла, мы получаем больше шансов на его понимание. Разумеется, невозможно заручиться твердыми гарантиями "правильности" понимания, но ведь и цена подобных гарантий на пройденном пути хорошо известна, и она невысока.
Мы надеемся также, что подходы и результаты решения достаточно специальных задач, связанных с темой настоящей работы, окажутся небесполезными и в плане более широкого их применения при исследовании истории литературы 1860-х годов.
Обозначенная проблематизации общей темы определила и структуру предлагаемой работы. Надо заметить, что ис
Заключение научной работыдиссертация на тему "Разночинцы шестидесятых годов XIX века"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Феномен самосознания шестидесятников наиболее свое образно проявился в типе письма. Ранее упоминалось, чт< демократическая плеяда разночинцев не сумела достаточна убедительно реализоваться в художественном творчестве Если же посмотреть на ее заслуги в сфере нехудожественно] словесности, то следует признать, что они достаточно вели ки. Определение в данном случае не имеет оценочного хара ктера, а лишь указывает на обширную область словесности включающую самые разнообразные тексты: от частны (дневники, письма) до предназначенных читателю (мемуа ры, статьи и т. д.). При очевидной жанровой разности те другие объединяет сходный способ авторского предъявле ния. Опосредованность авторского самовыражения, неиз бежная при любом типе письма, в данном случае носи принципиально иной характер, нежели в художественны текстах.
Специфику интересующей нас словесности необходим исследовать прежде всего в русле проблемы автор и текст точнее, автор и дискурс письма. Письмо оказалось наибо лее продуктивной сферой для радикальной разночинско интеллигенции не только в плане выражения своего миро понимания, но и с позиции самоописания, столь актуально го для нее в феноменологическом смысле. Сказать, что раз ночинцы расширили аналитические и психологические воз можности письменного высказывания и тем самым обогати ли словесность, значит сказать очень мало, и, главное, н слишком точно. Чтобы прояснить свою мысль, укажем н-один внешний признак разночинской словесности. Он впол не соответствует приводимой ранее оценке разночинско" культуры как "пониженной" по уровню в сравнении с пред шествующей, дворянской. То же понижение характеризуе и качественный признак разночинской словесности. Каждый, кто читал мемуары, дневники, письма и другие документальные материалы, оставшиеся от поколения 60-х годов, знает, сколь невысока их письменная культура.
Это качество не имеет прямого отношения к наличию или отсутствию у разночинской интеллигенции образования, которым она иногда не без оснований столь гордилась. Что же касается Чернышевского, то здесь сам факт "образованности" не вызывает сомнений. В данном случае нужно обратить внимание на другое — особый характер взаимоотношений пишущего и самого письма. Возьмем самый частный вид письма — дневники. Установка на последующую их публикацию, "будущего биографа" или просто чтение их кому-либо из окружающих, наконец, обмен дневниками свойственны не только шестидесятникам общественной ориентации, но и более широкому кругу разночинцев.
Соприсутствие читателя является непременным условием писания как такового, причем вне зависимости от степени интимности или публичности жанра. Высказывание изначально разворачивается относительно возможного взгляда читателя, его оценки, подуманной или произнесенной фразы. Зачастую читатель нужен пишущему вовсе не для того, чтобы выставить нечто на его обозрение, или, наоборот, скрыть от излишней проницательности. Такая установка в формализованном виде была наиболее полно реализована Чернышевским в романе "Что делать?". Воспользовавшись существующим литературным опытом по-своему, он расслоил информацию сообразно различным уровням читательской проницательности. Благодаря же демонстративному обнажению приема и подробному собеседованию с читателями разных категорий вновь соединил информационное пространство романа в единое целое, доступное уже всякому читателю. Этот известный авторский прием достаточно типичен и для просветительской манеры публицистики. В данном случае мы указываем на него, чтобы точнее определить внутреннюю специфику авторского высказывания в эстетически необработанных текстах, для чего, собственно, и необходимо вначале разграничить функцию читателя в том и другом случае.
Здесь возможный читатель — это гипотетическая точка соприкосновения с миром, необходимое условие опосредованного взгляда пишущего на себя самого. Риторическая манера высказывания, характерная и для текстов самого частного предназначения, особенно ярко выявляет условность, фиктивность такого читателя. Тексты-высказывания, по видимости обращенные к другому, по существу совершенно закрыты для живого отклика, для непосредственного подключения заявленного автором читателя.
Важно указать и еще на одно свойство высказывания, характеризующее его со стороны смысловой двойственности. Непосредственное высказывание о себе, как правило, не залегает у самой текстовой поверхности, покрытой слоем тематических умозаключений. Однако только в этом слое, а не под ним, оно и может быть обнаружено: именно тематический материал — и повод, и средство для самообнаружения. И, напротив, тексты, в которых собственное я становится предметом открытого тематического высказывания, нуждаются в более глубокой смысловой проработке для уяснения сути авторского высказывания о себе, поскольку внутренняя стратегия пишущего глубоко инверсивна ("прошу понимать все написанное в совершенно обратном смысле"). Именно автор является в данном случае конститутивным условием дискурсивности письма1.
1 Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 38 - 39.
В словесной культуре середины XIX в. по существу не выделен статус разночинской словесности. Модальность ее существования определила преимущественно идеологическую направленность при оценке публицистики и беллетристики. Рассматривая специфику разночинской словесности, можно предположить, что словесная культура этого периода не располагала "готовым" языком, подходящим для выражения столь сложных и изощренных изысканий разночинского самосознания, стремящегося к адекватному выражению. Опосредованное использование существующих культурных форм языковым сознанием пишущего свидетельствует как об активном поиске в сфере культурно адаптированного письма, так и о попытках выйти за ее границы. В этом отношении "синтаксис" письма, хотя отчасти и приспособленный для новых потребностей, оставался самым уязвимым и слабым звеном словесного мышления. Феноменологический опыт разночинского самосознания нуждался в особых формах словесного выражения себя вовне.
Изъян лукавства мыслиу косвенно отрефлектированный сознанием, проникает и в словесную ткань, существенно деформируя ее. При этом лукавство слова как свойство письма оказывается отрефлектированным гораздо слабее, в результате чего письмо выявляет авторское целеполагание помимо и в обход волевого импульса пишущего. Прямое значение слова оказывается равноправным со всеми остальными его значениями, а разнонаправленность внутрисмысло-вых перспектив мешает словесному событию состояться и адекватно оформиться.
Необходимо отметить, что специфика разночинского письма в полной мере может быть исследована при условии максимального привлечения широкого слоя текстов самой разной жанровой ориентации. Данная работа — первый шаг в этом направлении. Однако и рассмотренный материал позволяет оценить актуальность разработки подходов к освоению внутреннего пространства текста как динамического дискурса, обусловленного деятельностным проявлением личности пишущего. Такой подход к письменным источникам, на основе которых, в частности, формируется картина историко-литературного развития, позволяет в какой-то мере примирить фактографический и теоретический взгляды на историю литературы.
Отдельности", из которых состоит литература, по мысли Д.С. Лихачева, не всегда получают верную оценку в контексте "закономерностей", к выявлению которых стремится наука зачастую ценой "редукционизма", сведения сложного к простому2.
Процессы, происходившие в художественной словесности, могут быть иследованы более полно, если в сферу филологического исследования будет полноправно включена и нехудожественная словесность. При этом можно предположить, что разночинский тип письма мог стать явлением словесной культуры только пройдя эстетическую обработку. В эмпирически сырой, становящейся форме он проявил лишь общие свойства маргинальное™, в данном случае, как признака "плохого" письма. В беллетристических опытах Чернышевского идея эстетической обработки своего слога "застряла" уже на подступах к ее реализации.
Современное "забвение" разночинской словесности может показаться вполне оправданным и вне утраты интереса к идеологическим подходам. Определенная "реактуализа-ция" рассмотренных нами текстов возможна не только с помощью увеличения объема источников, сопоставления худо
2 Лихачев Д.С. Строение литературы (К постановке вопроса); Закономерности и антизакономерности в литературе // Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения: В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 8 - 15. жественного и нехудожественного дискурсов, привлечения дополнительных контекстных смыслов историко-культурного характера. Чрезвычайно плодотворной представляется мысль М. Фуко о реактуализации текстов с помощью включения дискурса в такую область приложения, которая для него является новой3.
Забытые" или переставшие быть актуальными для культурного и, в том числе, научного сознания тексты "покрываются ложной и дурной полнотой", и представляются исчерпанными. Забвение их, словно патина, покрывая поверхность, помогает лучше сохранить "пустоты" и "пробелы", с восстановления которых может начаться новая жизнь текстов. М. Фуко отмечает известную двойственность исследовательских стратегий, сопровождающую такой процесс. С одной стороны, можно сказать: ".все это там уже было — достаточно было это прочесть. и, наоборот: да нет же — ничего этого вовсе нет, ни в этом вот, ни в том слове — ни одно из видимых и читаемых слов не говорит того, что сейчас обсуждается, — речь идет, скорее о том, что сказано поверх слов, в их разрядке, в промежутках, которые их разделяют"4. Так или иначе, обе позиции свидетельствуют о том, что "возвращение, которое составляет часть самого дискурса, беспрестанно его видоизменяет, что возвращение к тексту не есть лишь историческое дополнение. а действенная и необходимая работа по преобразованию самой дискурсивное™"5.
Возвращаясь к историко-литературному контексту рассмотрения проблемы, отметим, что в определенном смысле рассмотренные поиски новых языковых возможностей совпадали с общим руслом литературного движения, наметив
3 Фуко М. Что такое автор? С. 34.
4 Там же. С. 36 - 37.
5 Там же. С. 37. шимся с конца 40-х годов XIX в.6 Преодоление ограниченности и отчасти исчерпанности эстетических языковых систем осуществлялось по-своему каждым писателем, но в рамках общей тенденции, зафиксированной различными идейно-эстетическими теориями этого периода (натуральная школа, реализм и т. д.). Условность понятий, выдвинутых для обозначения новизны явления, безусловно, способствовала "опознанию" тех или иных опытов, но не всегда помогала разобраться в его существе. Достаточно сказать, что в пределах современного литературоведческого языка репутация термина "реализм" стала крайне сомнительной и уж во всяком случае использование такого понятия оказалось малопродуктивным для исследования творчества "реалистических" писателей XIX в.7 Вместе с тем неадекватность или спорность наименования не отменяет сам факт или значимость явления. Не останавливаясь здесь подробнее на этой весьма актуальной сегодня литературоведческой проблеме, отметим лишь, что внехудожественная словесность по-своему участвовала в общих поисках, свидетельствующих об изменении культурного мышления. В определенном смысле
6 Так, разрушение "прекрасной речи" в произведениях Гоголя и Достоевского, формирование установки на несовершенство, антиэстетичность письменной речи рассматриваются Ore Хансен-Лёве как признак "авангардистского" периода реализма в 1840-е годы. "Плохой стиль" и "дефективный дискурс", по мысли исследователя, характерны для литературы в периоды эстетического слома. См.: Хансен-Лёве О. Дискурсивные процессы в романе "Подросток" // Автор и текст: Петербургский сборник. Вып. 2. СПб., 1996. С. 229 - 267.
7 О соотношении традиционной концепции реализма и литературных явлений разного порядка, "адекватности" теории и практики, свойственной лишь произведениям второго ряда, см.: Маркович В.М. Вопрос о литературных направлениях и построение истории русской литературы XIX века // Освобождение от догм. Т. 1. С. 241 - 249. разночинская словесность не оказалась тупиковой ветвью развития.
Даже и не доведя опыт до обработки, требуемой традиционными культурными параметрами, она создала прецедент, не оставшийся без последствий. Со временем рефлективное сознание (как неотъемлемый личностный признак человека "новейшего времени", длящегося и по сей день) все больше узурпировало письмо как территорию самовыражения и тем самым расширяло его возможности. В этот процесс были вовлечены в равной мере и художественная литература, и словесность в широком смысле слова. Именно поэтому с филологической точки зрения словесные усилия разночинской плеяды шестидесятников требуют внимательного исследования.
Научное издание
Татьяна Ивановна Печерская
Разночинцы шестидесятых годов XIX века: феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики (мемуары, дневники, письма, беллетристика)
Ответственный редактор канд. филол. наук Н.Е. Меднис
Компьютерный набор В.Н. Распопин Компютерная верстка Е.А. Семенычев Редактор Л.В. Островская Художник А. Волков Отпечатано в типографии издательства "Нонпарель"
Подписано в печать 10.01.99. Формат 60x84/16 Офсетная печать. Гарнитура Школьная Усл. печ. л. 13,5. Тираж 770 экз. Заказ N2
630090, Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 17 Институт филологии, сектор литературоведения, т. 35-57-37, fax: (8) 3832 - 35-79-19 e-mail: dzerv@ad-sbras.nsc.ru