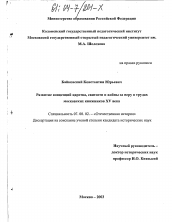автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Развитие концепций царства, святости и войны за веру в трудах московских книжников XV века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Развитие концепций царства, святости и войны за веру в трудах московских книжников XV века"
На правах рукописи
/
Байковский Константин Юрьевич
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ЦАРСТВА, СВЯТОСТИ И ВОЙНЫ ЗА ВЕРУ В ТРУДАХ МОСКОВСКИХ КНИЖНИКОВ XV ВЕКА
Специальность 07.00.02. - отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Москва - 2003
Работа выполнена на кафедрах отечественной истории Коломенского государственного педагогического института и Московского государственного открытого педагогического университета имени М.А. Шолохова.
Научный руководитель:
доктор исторических наук, профессор Князький И.О.
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, профессор Бибиков М.В.
кандидат исторических наук, доцент Арапов Д.Ю.
Ведущая организация:
Ивановский государственный университет
Защита состоится. 2003 г. в ^ У часов на заседании Диссер-
тационного Совета Д. 212.136.03. в Московском государственном открытом педагогическом университете имени М.А. Шолохова по адресу: 109004, г. Москва, ул. В. Радищевская, д. № 16/18, аудитория 20.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГОПУ им. М.А. Шолохова.
Автореферат разослан 2 У. £ 2003 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета, . . доктор исторических наук Михайловский Ф.А.
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В период Московской Руси были сформированы политическая и экономическая системы, свой типический человек и менталитет, отличные от Киевского периода. Немалую роль в этой эволюции занял XV в., когда произошел переход нашей родины от подчинения Орде к независимости, от внутренней раздробленности к объединению более половины земель Киевской Руси под возрастающей властью московского князя. Тогда же Русская церковь обрела самостоятельность от византийской. Бесспорный подъем культуры выразился в росте и большем разнообразии литературных произведений, расцвете архитектуры и, особенно, иконописи, которая переживала свой «золотой век» - от Андрея Рублева до Дионисия. В источниках явствен переход к качественно иному отношению к стране и ее роли в мировой истории, который условно можно назвать переходом от «исторического пессимизма» к «историческому оптимизму» или от идеи Богооставленности к идее Богоизбранности. Но как и почему эти изменения произошли - не понять, не вжившись в прошлое, не постигнув его идей. Тема политического возрождения Московской Руси за последние два века исследовалась с самых разных сторон. Но реконструкция мировоззрения этого периода далеко не закончена. В публицистике да и в сугубо научных работах подчас встречается негативное отношение к Московской Руси, ее политическим институтам, государственным деятелям, мировоззрению. Вред подобного явления выходит далеко за рамки «чистой» науки. Выделение положительного содержания в непонятном современному человеку мировоззрении прошлого -несомненный гражданский долг. Сейчас, когда наша страна находится в переходном периоде, когда существует неясность и противоречия предлагаемых альтернативных идеологических моделей, не всегда совместимых с имеющейся духовной основой, знание образа мыслей прошлых поколений необходимо практически. Добавляют актуальности ряд фактов современной политики, похожие на события XV в.: погцыткя ^"■уу-
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ
ния католических епархий в России напоминает политику униатов после Флорентийской унии, раскол в Украинской православной церкви -разделение Русской митрополии в 1415 и 1458 гг.
Цели и задачи исследования. Целью является анализ концепций царства, иноческой святости и войны за веру в идеологии Московской Руси XV в. Это предполагает решение следующих задач:
1) Рассмотреть характер употребления слова «царь» по отношению к русским князьям XV в.
2) Выделить новые полномочия московских государей XV в. применительно к представлениям о полномочиях царя.
3) Раскрыть взаимосвязь новых монастырей Московской Руси с ростом святости и изменением ее типологии в XV в.
4) Показать сакрализацию образа родной земли в сознании людей, проявившуюся в отношении к монастырям, основанным святыми.
5) Выявить связь литературного канона войны за веру с изменившимися представлениями о родине и обязанностях ее защитников.
Хронологические рамки исследования заданы в названии - XV в. Фактически, с учетом сложности датировок некоторых источников и деятельности исторических лиц, живших «на стыках» веков, в диссертации рассматривается период со времени осмысления последствий Куликовской битвы (после 1380 г.) до кончины этапного правления Ивана III (1504 г.).
Объектом исследования является православная идеология Московской Руси XV в., формировавшаяся в среде московских книжников, куда традиционно включаются образованные слои того времени.
Предметом исследования являются переосмысленные в названной среде и получившие сакральное значение представления о верховном правителе, о монастырях, основанных святыми, и о защите родной земли.
Методологические основы исследования состоят в конкретно-историческом подходе к освещению поставленных проблем, раскрытии их в свете документально-достоверных свидетельств прошлого и с позиций современности, с соблюдением принципов историзма, объективности и логики. В работе используются традиционные методы: сравнительного анализа, историко-системный и проблемно-хронологический. Проблемы изучаются на основе сопоставления и комплексного анализа разных видов источников, с учетом их эволюции, статистических закономерностей, вариантов употребления важнейших терминов, редакций
и списков, взглядов древнерусских авторов, с учетом некоторых стереотипов в историографии.
Степень изученности темы. Имеющаяся историография может быть разбита на три группы. Первая - это исследования, посвященные концепции русского царства. Серьезная разработка вопроса в исторической науке начинается в XIX в., когда были опубликованы основные отечественные источники по теме: официальные документы дипломатического и церемониального характера, послания отдельных исторических деятелей (митрополитов, князей, преподобного Иосифа Волоц-кого), посвященные осмыслению идеи царства, ряд важных в идеологическом плане развернутых повестей о важнейших событиях в истории Руси. Наиболее значимы монографии М.А. Дьяконова и В.И. Саввы1. Первый автор определил основные этапы развития идеи (автокефалия Русской церкви и падение Константинополя), отметил роль Иосифа Во-лоцкого в создании первого учения о русском царе. Второй же исследовал церковные полномочия византийского василевса и историю коронаций русских государей с XV в. Главные положения названных авторов за редким исключением оспорены не были. Отдельным проблемам византийского влияния посвящены исследования дореволюционных ученых — А. Лакиера, К. Попова, A.B. Горского и других, историков XX в. - Г.В. Вернадского, И.П. Медведева, Г.А. Острогорского, кн. Д. Оболенского2, привлекших новые византийские источники для
1 Дьяконов М.А. Власть московских государей. Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889. 224 е.; Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901.400 с.
2 См. соответственно: Лакиер А. История титула государей в России//Журнал Министерства народного просвещения. 1847. Ч. LV1. С.81-156; Попов К. Чин священного коронования//Богословский вестник. 1896. № 4. С. 59-72; № 5. С. 173-196; Горский A.B. О священнодействии венчания и помазания царей на царство/ЯТрибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 29. М„ 1882. С. 117-151; Вернадский.Г.В. Византийские учения о власти царя и патриарха//Сб. ст., посвященный памяти Н.П. Кондакова. Прага, 1926. С. 143-154; Медведев И.П. Империя и суверенитет в средние века (На примере Византии и некоторых сопредельных государству/Проблемы истории международных отношений. Сб. ст. памяти академика Е.В. Тарле. JI., 1972. С. 412424; Острогорский Г.А. Эволюция византийского обряда коронова-ния//Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 33-42; Оболенский Д. Связи между Византи-
реконструкции системы представлений о царе. Современные историки A.A. Горский, Я.Н. Щапов и В. Водов рассмотрели3 все случаи употребления царского титула в источниках Киевской и Московской Руси и выявили ряд новых статистических закономерностей. М. Чернявский, продолжая линию Н.М. Карамзина и «евразийцев» о влиянии монголов на русскую историю, показал4 на примерах (иконография, ход коронаций, поминание на литургии) синтез в русском сознании образов хана и василевса - «царей» по тогдашней терминологии. Б.А. Успенский исследовал5 новые вопросы (литургический статус царя, смысл миропомазания на царство) на базе современного источниковедения, привлек западноевропейские документы. Проблема принадлежит к числу широко исследованных. К неразработанным вопросам относятся датировка зарождения идеи русского царя, формирование официального титула, степень участия великих князей в архиерейских соборах.
Вторая группа исследований затрагивает историю иноческого возрождения в Московской Руси. Три направления исследований сложились в XIX в.6 Во-первых, иноческое возрождение исследовалось в связи с историей колонизации севера. Во-вторых, исследовались литературные особенности житий святых рассматриваемого периода. Третье направление состояло в попытках классифицировать иноческие школы, выявить статистические закономерности путем подсчета числа и видов
ей и Русью в X1-XV вв. XIII Международный конгресс исторических наук. Москва, 16-23 августа 1970 г. Отд. оттиск. М., 1970. 17 с.
3 Серию статей авторов см.: Мировосприятие и самосознание русского общества. Вып. 2. Царь и царство в русском средневековом общественном сознании. М., 1999. 180 е.; Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002.944 с.
4 Чернявский М. Хан или василевс: один из аспектов русской средневековой политической теории//Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. С. 442-456.
5 Успенский Б.А. Литургический статус царя в Русской церкви: приобщение Св. Тайнам (историко-литургический этюд)//Российский Православный университет ал. Иоанна Богослова. Учен, записки. Вып. 2. М., 1996. С. 130-170; Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000. 144 е.; Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. 680 с.
6 См.: Коноплев Н. Святые Вологодского края. - М., 1895. - 132 е.; Ешевский C.B. Сочинения. Часть III. M., 1870. 714 е.; Яхонтов И.И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881. 378 е.; Некрасов И.С. Зарождение национальной литературы в северной Руси. Ч. 1. Одесса, 1870. 222 с.
обителей, роста святости. В.О. Ключевскому принадлежит приоритет7 в изучении агиографии как самостоятельного источника, он отметил влияние Сергия Радонежского на поколение победителей Мамая, считая рост иночества свидетельством национального подъема, исследовал численный рост монастырей, соотношение городских и пустынных обителей, значение Троице-Сергиева монастыря в иноческом возрождении, реконструировал этапы колонизации северных земель, выделил этапы формирования агиографического жанра. Заметим, что авторы общих работ по истории церкви писали ее «по митрополитам» и ограничивались политическими событиями. Однако наиболее известные труды8 играют существенную роль в исследовании количественных закономерностей «золотого века» русской святости наряду с исследованиями истории канонизации святых9. Редкая для историографии попытка реконструировать дух эпохи Русской Фиваиды сделана в работе середины XIX в. А.Н. Муравьева10. В XX в. вышел в свет классический труд Г.П. Федотова «Святые Древней Руси»11 - лучшая систематизация русских святых. Основываясь на всей полноте агиографического материала, что бывало редко, автор рассмотрел эволюцию типов святости, попытался описать характеры древнерусских святых, более зримо ввести в историю средневековой Руси личность или хотя бы тип древнерусского человека. Во второй половине XX в. активно исследовался
7 Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М., 1987. 447 е.; Т. 7. Специальные курсы (продолжение). М., 1989. 508 е.; Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. 512 е.; Значение преподобного Сергия для русского народа и государства//В.О. Ключевский. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 63-76.
8 См.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. Кн. 3. М., 1995. 704 е.; Кн. 4. Ч. I. М., 1996. 592 е.; Кн. 4. Ч. 2. М, 1996. 440 е.; Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Т. 2. Первая половина тома. М., 1997. 920 е.: Вторая половина тома. М., 1997. 616 е.; Карташев A.B. Очерки по истории Русской церкви. Т. I. М., 1992. 686 с.
9 Васильев В. История канонизации русских святых. М., 1893. 256 е.; Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. 600 с. Также см. работу современного автора: Хорошев A.C. Политическая история русской канонизации XI-XVI вв. М., 1986. 206 с.
10 Муравьев А.Н. Русская Фиваида на севере. М., 1999. 528 с. (переиздание). Направление продолжает современное исследование, см.: Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство северно-русской культуры). Архангельск, 1993. 224 с.
" Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. 269 с.
вопрос о влиянии исихазма на Русскую Фиваиду трудами лучшего специалиста по проблеме И.Ф. Мейендорфа, а также Б.М. Клосса и, особенно, Г.М. Прохорова12. Двое последних опубликовали много источников по данному вопросу, старались найти факты влияния Православного востока на Русскую Фиваиду, изучая биографии подвижников и новый вид источников - труды восточно-православных отцов церкви, переведенные в XV в. Все же степень разработки данной проблемы следует признать недостаточной. Крайне плохо исследованы чудеса святых, а применительно к XV в. мало изучен вопрос о восприятии древнерусскими людьми новых монастырей как центров святости.
В третью группу исследований включены важнейшие работы по истории XV в., наиболее часто упоминаемые в диссертации. Еще Н.М. Карамзин много внимания уделил13 проблемам эволюции идеологии верховной власти в период создания Московского царства, конспективно обозначив ряд проблем. Работа А.Е. Преснякова14, посвященная собиранию власти в руках московских государей, не связана прямо с вопросом о царстве, но исследователи последнего не могут упускать властных ресурсов русских государей. Работы Г.В. Вернадского15 носят обобщающий для дореволюционной и русской «евразийской» зарубежной историографии характер. История внешней политики Руси XV в. наиболее подробно изложена у К.В. Базилевича и А.Л. Хо-рошкевич16. Работа А.Н. Насонова17 об истории ордынской политики на
12 См.: Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV В.//ТОДРЛ. Т. 29. Л., 1974. С. 291-305; Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. СПб., 2000. 480 е.; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М,, 1998. 568 е.; Т. 2. Очерки по истории русской агиографии Х1У-ХУ1 веков. М„ 2001. 488 с.
13 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. У-У1И. Калуга, 1993. 576 с.
14 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории ХШ-ХУ столетий. Пг., 1918. 460 с.
13 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, М., 1997. 480 е.; Россия в средние века. Тверь, М., 1997. 352 с.
16 Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV века. М., 1952. 544 е.; Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца ХУ-начала XVI в. М., 1980. 296 с.
Руси интересна заострением внимания на социальных последствиях Батыева нашествия, авторской оценкой даты окончания ига. Вопросы взаимоотношений с Ордой и освобождения от ее ига обобщили Ю.Г.Алексеев и совсем недавно А.А.Горский18, дав много новых интерпретаций известных событий. История идеологической борьбы в зачастую предвзятых источниках подробно отражена в наиболее полной по данному периоду источниковедческой работе Я.С. Лурье19. Монографии Н.С. Борисова об Иване III и Р.Г. Скрынникова о церкви и государстве на Руси20 обобщают традиционные взгляды на данные проблемы советской историографии с ее строгой привязанностью к источникам. В недавней монографии Н.В. Синицыной об идее «Третьего Рима»21 был подведен итог исследованию данной проблемы на основе современного источниковедения, выделены истоки (а они были в XV в.) идеи. Идейным аспектам истории посвящены исследования в рамках семинара «От Рима к Третьему Риму»22.
В итоге отметим, что степень изученности вопросов, рассмотренных в главах, разная, в целом по теме диссертации исследований нет.
17 Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Ру-си)//Альманах «Арабески истории». Вып. 3-4. «Русский разлив». Т. 1. М., б. г. С. 64-263.
18 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. 240 е.; Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. 220 е.; Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 214 е.; «Всего еси исполнена земля русская...»: Личности и менталь-ность русского средневековья. Очерки. М., 2001.176 с.
19 Лурье Я.С. Две истории Руси XV века. Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. 240 с.
20 Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. 644 е.; Скрынников Р.Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX-XVII вв. СПб., 2000. 463 с.
21 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVII вв.). М., 1998. 416 с.
22 Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследование центров идеологии и культуры до XVII в. VI Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 28-30 мая. М., 1997. 378 е.; Римско-констангинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. IX Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 29-31 мая 1989 г. М., 1995. 356 е.; 400-летие учреждения патриаршества в России. IV Centenario dell'istituzione del Patriarcato in Russia. От Рима к Третьему Риму. Специальный выпуск 1989 года. Доклады Международной конференции, посвященной 400-летию учреждения патриаршества в России. Москва, 5-6 февраля 1986 г. М., 1997. 272 с.
Не все события XV в. достаточно изучены, например, вопрос об идеологии военных повестей Московской Руси. Выделим недавние работы. Эволюции древнерусского сознания от исторического пессимизма к оптимизму после победы над Мамаем посвящены ряд работ М.Н. Громова с соавторами. Важные замечания о развитии религиозных культов ряда праздников и святых в связи с военными событиями в жизни страны содержатся в работе М.Б. Плюхановой. И.О. Князький в своей работе «Русь и Степь» подошел к вопросу русско-ордынского противостояния с точки зрения менталитета русского человека прошлого: борьба была продолжением противостояния со степняками, что отразилось в источниках о борьбе с Ордой23. Все это подтверждает необходимость дальнейшего изучения идейных основ Московской Руси.
Источниковая база исследования, состоящая в основном, из опубликованных документов, может быть разбита на три основные группы. Первая - это все летописи, созданные в XV в. и около него. Наиболее часто в диссертации используются московские и общерусские летописи: Лаврентьевская, Троицкая (в реконструкции М.Д. Приселко-ва), Симеоновская, Новгородская четвертая, Софийская первая двух редакций, Никаноровская, Вологодско-Пермская, Ермолинская и Типографская, Рогожский летописец и своды 1479 и 1518 гг.24 В летописях для темы диссертации важны развернутые осмысления крупнейших событий, данные в памятниках Куликовского цикла, повестях о борьбе с Ордой и покорении Новгорода, о Флорентийском соборе, посланиях митрополитов и Вассиана Рыло, описаниях церемоний. Летописи - ос-
23 См.: Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. M., 1990. 288 е.; Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001. 960 е.; Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. 336 е.; Князький И.О. Русь и Степь. М., 1996. 134 с.
24 См.: Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М., Л., 1950. 514 е.; ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. 496 е.; Т. 4. Новгородская четвертая летопись. Вып. 2. Л., 1925. 536 е.; Т. 5. Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851. 280 е.; Т. 6. Софийские летописи. СПб., 1853. 360 е.; Т. 15. Рогожский летописец. Вып. 1. Пг., 1922. 186 стб.; Т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913. 316 е.; Т. 23. Ермолинская летопись. СПб., 1910. 244 е.; Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921. 272 е.; Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М., Л., 1949. 464 е.; Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М., Л., 1959. 416 е.; Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в. М., Л., 1962. 418 е.; Т. 28. Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровекая летопись). М., Л., 1963. 412 е.; Т. 39. Софийская первая летопись по списку И.Н. Царского. М., 1994. 208 с.
новной источник для первой и третьей глав, так как именно во включенных в летописи произведениях25 обосновываются претензии правителей Руси на статус царей, описываются военные события. В них содержатся упоминания о крупнейших деятелях монастырского возрождения и основных обителях.
Вторая группа источников - агиография. Это жития митрополитов Петра (редакция митрополита Киприана) и Алексия (краткое и пространное)26, преподобных Сергия и Никона Радонежских (редакции Епифания Премудрого и Пахомия Серба), Кирилла Белозерского, Димитрия Прилуцкого, Саввы Вишерского, Варлаама Важского, Дионисия Глушицкого, Григория Пельшемского, Зосимы и Савватия Соловецких (редакция Спиридона-Саввы), Ефросина Псковского27, святителей Стефана и Питирима Пермских, Ионы и Евфимия Новгородских, Арсения
28
Тверского, Исидора Юрьевского . В диссертации использованы также
25 Отметим также не включенные в публикации летописей «Задонщину» и «Слово на латыню». Тексты см.: Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 7-13; Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI-XV в.). М., 1875. С. 360-395.
26 См. соответственно: Житие митрополита Петра//Прохоров Г.М. Указ. соч. С. 415-437; Житие митрополита Алексия//Кучкин В.А. Из литературного наследия Пахомия Серба//Источники и историография славянского средневековья. Сб. статей и материалов. М., 1967. С. 242-257.
27 См. соответственно: Клосс Б.М. Указ. соч. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. С. 271-439; Житие преподобного Никона Радонежского//В. Яблонский. Па-хомий Серб и его агиографические писания. СПб.. 1908. С. LXIV-LXXXI; Житие Кирилла Белозерского//Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. С. 50-167; Украинская Т.Н. Житие Дмитрия Прилуцкого - памятник вологодской агиографии//Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования. Л., 1990. С. 7-53; Житие преподобного отца нашего Саввы, иже над Вишерою рекою жившего//Новгородские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1899. № 7. С. 449-460; Житие Варлаама ВажскогоШравославное обозрение. 1887. Т. 2. С. 7-47; Житие Дионисия Глушицкого. РГБ. Ф. 304, собрание Троице-Сергиевой Лавры. № 692. Л. 581-621; Житие Григория Пельшемскаго//Великии Минеи Четии, собранные митрополитом Всероссийским Макарием. Сентябрь. Дни 25-30. СПб., 1883. Стб. 22682295; Дмитриева Р.П. Житие Зосимы и Савватия Соловецких в редакции Спи-ридона-Саввы//Книжные центры Древней Руси XI-XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С.220-283; Житие преподобного Ефросина Псковского (первоначальная редакция)//Памятники древней письменности и искусства. № 173. СПб., 1902. 94 с.
28 См. соответственно: Житие Стефана Пермского//Святитель Стефан Пермский. СПб., 1995. С. 50-263; Шляпкин И.А. Святой Питирим, епископ Перм-
повесть Паисия Ярославова о Спасо-Каменном монастыре29, неопубликованные жития святых XV в., написанные в XVI в.30, и жития XV в. о святых раннего периода. Агиография - основной источник по теме второй главы. В ней лучше всего удается выделить религиозное восприятие деятельности святых агиографами. Минимальная информация о духовном облике подвижников, их почитании учениками и паломниками дает максимальную возможность реконструировать эти явления.
Третья группа источников - дипломатические документы, послания митрополитов и великих князей, их духовные, грамоты соборов русского духовенства31. Все эти источники интересны четкими формулировками, отражающие эволюцию великокняжеского титула и посольского церемониала, внешнеполитические задачи Руси, увеличение числа святых. Послания митрополита Ионы могут быть названы первым камнем в фундаменте идеологии Русского царства, наряду с «Пасхали-
ский//Журнал Министерства народного просвещения. 1894. Ч. 292. С. 135-145; Повесть об Ионе, архиепископе Новгородском//ПЛДР. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 350-375; Повесть о Евфимии, архиепископе Новгород-ском//Памятники старинной русской литературы. Вып. 4. СПб., 1862. С. 15-26; Житие епископа Арсения//Б.М. Клосс. Указ. соч. Т. 2. С. 218-245, Житие Исидора Юрьевского//Н.П. Лихачев. Инока Фомы Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче//Памятники древней письменности и искусства. К» 168. СПб., 1908. С. 8-9.
29 Сказания Паисия ЯрославоваШравославный собеседник. 1861. 4.1. С. 197216.
30 Житие Александра Куштского. РГБ. Ф. 310, собрание В.М. Ундольскою. № 1105. 19 л.; Житие Александра Ошевенского. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 695. Л. 216-237; Житие Арсения Комельского. РГБ. Ф. 354, Вологодское собрание. № 65. Л. 22-58; Житие Григория и Кассиана Авнежских. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 635. Л. 39-110; Житие Макария Колязинского. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 682. Л. 463-529; Житие Сергия Обнорского. РГБ. Ф. 310, собрание В.М. Ундольского. № 369. Л. 102-145; Житие Стефана Махрищского. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 692. Л. 707-728.
31 Публикации см.: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851. 1620 стб.; Сборник Русского исторического общества. Т. 35. СПб., 1882. 870 е.; Т. 41. СПб., 1884. 558.; Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 1. СПб., 1841. 552 е.; Русская историческая библиотека. Т. 6. СПб, 1908. 1764 стб.; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М., Л., 1949. 408 е.; Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М., Л., 1950. 586 е.; Русский феодальный архив Х^-первой трети XVI века. Ч. 1. М., 1986. 219 е.; Ч. 2. М., 1987. С. 221-458; Ч. 3. М., 1987. С. 459-696.
ей митрополита Зосимы» и посланиями Иосифа Волоцкого32. Из группы записок паломников и путешественников в диссертации фактически использованы записки игумена Зосимы (1419-1420 гг.), «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (до 1475 г.) и воспоминания побывавших на Руси в XV в. венецианцев И. Барбаро и А. Контарини33. Как вспомогательные источники в работе использованы акты социально-экономической истории, данные нумизматики и сфрагистики.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые рассматриваются истоки коренных положений идеологии Московской Руси за столетие, развивавшиеся и далее. Новизна также состоит в некоторых частных вопросах: впервые устанавливаются хронологические рамки возникновения идеи русского царя, по-новому рассматриваются титул русских государей (выделяются его варианты) и институт архиерейского собора с участием великого князя, предлагается авторская классификация монастырского возрождения, по-новому исследуется идея войны за веру.
Практическая значимость диссертации. Материалы диссертации могут быть использованы для преподавания истории в школах и вузах, в том числе в виде спецкурса.
Апробация диссертации. Основные положения диссертации изложены в научных публикациях. Диссертация была обсуждена на кафедрах отечественной истории Коломенского государственного педагогического института и Московского государственного открытого педагогического университета имени М.А. Шолохова.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, а также приложения.
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, его методология и хронологические рамки, показаны новизна и практическая значи-
32 Публикации см.: Тиханюк И.А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы//Исследования по источниковедению истории СССР XIII-XVIII вв. Сб. ст. М., 1986. С. 45-61; Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. 384 е.; Послания Иосифа Волоцкого. М., Л., 1959. 392 е.; Хрущев И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преподобного игумена Волоцкого. Б.м., 1868. 266 с.
33 См.: Книга хожений. Записки русских путешественников Х1-ХУ вв. М., 1984. 448 е.; Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей XV в. Л., 1971.276 с.
мость, характеризуется степень изученности темы диссертации в историографии, дана характеристика источников.
В первой главе диссертации «Становление концепции русского царя в XV веке» прослежено, как и почему спорадически употребляемый в Киевской Руси царский титул стал относительно постоянно употребляться в адрес московских государей в течение второй половины XV в.
Во второй главе диссертации «Русская Фиваида и ее осмысление в XVв.» рассмотрено влияние начавшегося в XIV в. иноческого возрождения на сакрализацию представлений о родине.
В третьей главе диссертации «Война за веру в источниках XV века» исследовано формирование в источниках о войнах Московской Руси нового нормативного образца поведения воинов и князей.
В заключении подведены основные итоги исследования.
Приложение представляет собой схему ветвей Русской Фиваиды с указанием имен иноков, основавших монастыри в XV в., и указанием преемственности от святого к святому.
Основное содержание диссертации
В Киевской Руси «царем» называли византийского василевса. Его отличие от русских князей состояло в сакральном статусе и вселенском характере власти. Сакральный статус выражался в особом положении василевса в структуре церкви. В церкви-организации он был наделен заметной властью, а в церкви как мистическом союзе верующих занимал положение выше мирянина. Статус василевса, будучи экстраординарным, фактически уподоблялся статусу архиерея, что было закреплено Халкидонским Вселенским собором. Универсальность власти василевса позволяла византийцам рассматривать его как главного правителя христианского мира. Слово «царь» употреблялось на Руси и по отношению к другим адресатам. В виде риторического приема царями называли своих государей за дела в области веры. Среди московских князей первым таким правителем был Иван Калита в похвале из Сийского Евангелия, и Дмитрий Донской в слове о его житии и преставлении. После монгольского нашествия «царем» стали называть нового верховного суверена - ордынского хана. Кроме того, слово «царь» исторически употреблялось по отношению к Христу и ряду ветхозаветных правителей. Аналогии с последними важны для истории русского царства,
но они все же из области риторики. Идея русского царства могла зародиться при получении русскими князьями реальных («царских») полномочий василевса и хана. Для этого необходимы были: 1) утрата ордынским царем своей власти над Русью, 2) гибель византийского царя или потеря им своего религиозного авторитета, 3) а также отождествление русского правителя с кем-либо из указанных царей.
В середине XV в. произошли распад Золотой Орды, дискредитация Византии из-за Флорентийской унии и ее последующая гибель под ударами турок. Тогда же, как следствие, царский титул был употреблен по отношению к Василию П в комплексе источников, связанных с борьбой против унии: первой и третьей редакциях «Повести о Флорентийском соборе» (1441 и 1458/60 гг. соответственно), «Слове на латыню» (1461/62 гг.) и в третьей редакции «Жития Сергия Радонежского» Па-хомия Серба (1442 г.) при описании чуда святого, связанного с Флорентийским собором. Тогда же в похвальном слове инока Фомы, частично посвященном описанию унии, царем был назван тверской князь Борис Александрович за защиту православия. Постепенно московские государи заимствовали функции василевса, получив новые полномочия в структуре церкви. Первым полномочием стало участие в избрании митрополитов. С поставлен™ Ионы в 1448 г. до конца правления Ивана Ш таких избраний было шесть. В летописных сообщениях об этих событиях использована формула, в которой место великого князя за Богом, Богородицей, великими чудотворцами и перед освященным собором. Вторым полномочием стало участие - часто фактически главенство - в архиерейских соборах. С низложения митрополита Исидора в 1441 г. до смерти Ивана III архиерейские соборы созывались государями в среднем раз в три с половиной года. Поводами были: поставление новых митрополитов, междоусобица Василия II с Шемякой, борьба с униатским митрополитом Григорием и с Новгородом, поставление туда первых промосковских архиепископов, конфликт Вассиана Рыло с Кирил-ло-Белозерским монастырем, нашествие Ахмата, борьба с ересью «жи-довствующих», коронация Димитрия-внука наследником престола, принятие новой Пасхалии и вопрос- о «вдовых попах». В результате можно говорить о возникновении нового церковно-государственного института - архиерейского собора с великим князем, действовавшего на практике и одобряемого элитой общества. Перечисленные явления возникли в середине XV в. и закрепились при Иване III.
Возникли и новые тенденции, закрепляющие власть русских государей в церкви. Иван III решал вопросы о границах епархий, провел конфискации святительских и монастырских земель в Новгороде, участвовал в богословском споре с митрополитом Геронтием по поводу освящения Успенского собора. В ходе правлений Василия II и Ивана III увеличилась подсудность монастырских людей и монахов светским властям. С договора Василия II с Казимиром от 1449 г. начал формироваться титул русских государей, который развивался по заложенной тогда логике до конца существования монархии в России. В течение второй половины XV в. употреблялись три разновидности титула: краткий («Божьей милостью государь всея Руси и великий князь»), полный (с перечислением девяти подвластных земель: Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской, Тверской, Югорской, Вятской, Пермской и Болгарской) и особенный, для турецкого султана («Божьей милостью единый правый господарь всей Руси, вотчич и дедич и иным многим землям от севера и до востока государь»). Иногда использовался византийский титул «самодержец» («автократор»), употреблявшийся в основном церковными авторами. С договора московского князя с епископом Юрьева от 1474 г. в титул русского государя периодически - в договорах с правителями, не обладавшими полной независимостью, -начал включаться термин «царь», вероятно, в значении более могущественного государя. В 1495 и 1498 гг. в Москве прошли церемонии избрания митрополита Симона и коронации Димитрия-внука наследником престола. Первая церемония закрепляла роль великого князя в по-ставлении митрополитов по аналогии с василевсом. Великий князь вручил Симону посох, что присутствовало в Византии при поставлении патриарха, а после богослужения обратился к митрополиту с наставлением, сходным со словами василевса. Во время второй церемонии Иван III короновал наследника подобно коронованию соправителя василевсом. Навеянная русскими представлениями о православной монархии, эта церемония стала прецедентом последующих коронаций русских царей. Во второй половине XV в. начала складываться идеологическая база русского царства. Это комплекс источников о Флорентийском соборе, послания митрополита Ионы в Литву и Новгород, его духовная, соборная грамота 1459 г., источники о покорении Новгорода, послания архиепископа Геннадия о ереси «жидовствующих» и Вассиана Рыло на Угру, «Пасхалия митрополита Зосимы», произведения Иосифа Волоц-кого. В этих источниках обосновывались перечисленные полномочия русских государей в структуре церкви, употреблялись риторические сравнения московских князей с василевсами и святыми князьями Киев-
ской эпохи, с ветхозаветными царями (с Давидом во время коронации Димитрия-внука) и с Самим Христом (у Иосифа Волоцкого, цитировавшего византийца Агапита). Не всегда прямо употребляя царский титул, московские книжники обосновывали право московского государя на царские полномочия, перечисленные выше. Не всегда заимствуя понятие «царь», заимствовали его содержание.
После подчинения Москве касимовских «царевичей» в середине 40-х и Казани в конце 80-х гг. XV в. возникла аналогия русских князей с ордынским «царями», что отражено в ряде летописей, в титуле «Болгарский» среди подвластных московскому государю земель и в титуле «самодержца царства Казанского» из письма Ивану III дочери Елены. Эта аналогия по-своему способствовала закреплению идеи русского царя. Подчинение «царевичей» Касыма и Якуба Василию II терминологически делало последнего царем. А контролируя Казанское ханство, о завоевании которого немедленно было сообщено в Венецию, московский государь и вовсе замещал ордынского «царя». Не случайно, в XVI в. данный факт использовался в Москве для обоснования царского титула. Кроме того, власть ханов с религиозной точки зрения появилась как Божье наказание, и подчинение русским прежних хозяев свидетельствовало об искуплении грехов и Божьей милости, способствуя сакрализации власти русских государей. Таким образом, к концу XV в. идея русского царя была развита по всем направлениям, основным из которых стало идеологическое замещение русскими государями василевсов, и официальное принятие титула было делом времени, все для него было готово.
Процесс сакрализации верховной власти в течение всего XV в. сочетался с процессом сакрализации родной земли. Это наиболее ярко проявилось в восприятии Русской Фиваиды. За период с середины XIV до конца XV вв. число монастырей в Московской Руси превысило число монастырей Киевской. Целенаправленный процесс был начат во второй половине XIV в. Основатели Русской Фиваиды - Сергий Радонежский, митрополит Алексий, Дионисий Суздальский, Стефан Мах-рищский, Димитрий Прилуцкий и их сподвижники - в 60-80-х гг. XIV в. создали более 20 монастырей вокруг Москвы и близ Вологды.
4 Их ученики - Кирилл Белозерский, Савва Сторожевский, Сергий Ну-
ромский, Павел Обнорский, Авраамий Галичский, Макарий Желтовод-ский, Евфимий Суздальский и другие - на рубеже ХГУ-ХУ вв. основали еще столько же монастырей в центральных районах страны, Верхнем Поволжье, на севере Европейской России. Их последователи - Марти-
ниан и Ферапонт Белозерские, Александр Ошевенский, Нил Сорский, Кассиан Грек, Пафнутий Боровский, Иосиф Волоцкий и другие - в XV в. вместе с выходцами из Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере Александром Куштским, Дионисием Глушицким, Григорием Пельшемским и другими довели число обителей до 60, затронув запад и юг страны. Тверские, новгородские и псковские подвижники Арсений Тверской, Савва Вишерский, Ефрем Перекомский, Макарий Колязин-ский, Зосима и Савватий Соловецкие, Арсений Коневский, Лазарь Мурманский, Ефросин Псковский, Савва Крыпецкий и другие с середины XIV до конца XV вв. увеличили число новых монастырей до 80. Русская Фиваида заняла почти всю территорию Великорусского государства. В XVI в. Герасим Болдинский создал несколько монастырей на западе страны, да и в прочих областях процесс продолжался усилиями прежде всего Корнилия Комельского и Александра Свирского, ставших иноками еще в XV в. Все названные выше родоначальники Руской Фи-ваиды создали боле£ одного монастыря. То же сделали Макарий Жел-товодский, Авраамий Галичский, Евфимий Суздальский, Ферапонт Белозерский, Дионисий Глушицкий, Арсений Тверской, Корнилий Ко-мельский. Традиционно отмечаемое в историографии влияние исихазма присутствовало, когда жили родоначальники движения, когда были установлены постоянные связи с Афоном. Влияние русских подвижников и некоторых святителей, в том числе ростовского Дионисия Цареград-ского и ряда новгородских, важнее. Русская Фиваида стала отражением национального подъема и формой осознания единства населения, формой идеологической консолидации.
Статистически Русская Фиваида отразилась в увеличении агиографии и росте святости. В области агиографии XV век уступает последующему. Но по сравнению с предыдущими веками произошло троекратное увеличение житий, из которых 1/2 была посвящена монахам и деятелям Русской Фиваиды, а 2/3 - святым второй половины XIV-XV вв. Одновременно отечественные жития стали преобладать над переводными. Поскольку написание жития свидетельствовало о фактическом почитании святого, следует признать, что в XV в. произошло качественное изменение в мировоззрении Русской церкви: свои святые, почти современники, стали рассматриваться достойными почитания. По подсчетам исследователей, в XV в. количество святых, половина из которых жили в Х^-ХУ вв., сравнялось с количеством уже канонизо-
ванных. В Новгороде в 1439 г. был установлен праздник всем новгородским святым, а в Москве наиболее заметной стала канонизация группы святых в 1447/48 гг. после возвращения Василия II на престол. Главное значение сыграла поддержка, оказанная иночеством слепому князю: его в этот период поддержало не менее 10 деятелей Русской Фи-ваиды, канонизованных в разное время. Увеличилось число святых в Твери, Ростове и Ярославле. Вдвое увеличилось число русских святых, упоминаемых в соборных грамотах, посланиях архиереев и княжеских договорах. Примерно с середины XV в. постепенно произошло взаимное признание местных святых. Расширение почитания святых на всю Русь было средством идеологической спайки общества. Указанная тенденция сохранялась: среди 39 подвижников, канонизованных на соборах 1547 и 1549 гг., в XГV-XV вв. жил 21 святой, а среди канонизованных в 1550-1610 гг. 30 святых таких было 14 человек.
Монастыри Русской Фиваиды сыграли известную роль в экономическом освоении северных земель, участвовали в миссионерстве. На окраинах страны они были опорными пунктами государства, распространяя среди православных и иноверцев государственную идеологию. Но для агиографов свойственно мистическое восприятие деятельности святых конца ХП»^^ вв. Эта деятельность состояла 1) в отвоевании у бесов территории будущей обители, где иноки восстанавливали нарушенные грехопадением райские отношения с природой; 2) чудотворе-нии - наглядном доказательстве святости, которое занимает в житиях наибольшее место и производится в том числе и после кончины святого посредством мощей и предметов, с ним связанных - риз, изведенных источников, памятных деревьев, монастырского хлеба и кваса; 3) и созидании сакрального пространства, недоступного нечистой силе. В результате суровой войны с бесами возникали отвоеванные островки «земного рая», где исцеляются и спасаются люди. Преображенная территория обителей Святой Руси хранила святость и не давала земле снова впасть во враждебное человеку состояние. Монастырская земля и мощи подвижника воспринимались как места концентрированной святости, необходимые для существования православной страны и народа, где действие злых сил нейтрализуется, куда паломники приходят приобщиться. Зарождающаяся идея о высшем православии на Руси была связана с увеличением святости, с сакрализацией родной земли, чему и способствовало иноческое возрождение.
Новые представления о верховной власти, о монастырях, основанных святыми, сформировали новое отношение к защите родины. Это наиболее заметно при анализе военных повестей Московской Руси. Монголо-татарское нашествие и иго были восприняты на Руси как Божья кара за грехи. Мистическое восприятие этих событий от повести о битве на Калке до летописных повестей о разорении Владимира и Рязани и «Слове о погибели Русской земли» не имело аналогов в предшествующем периоде русской мысли. Официальное церковное отношение к игу было выражено на церковном соборе 1273 г. и, особенно, - в словах епископа Серапиона Владимирского. Потому основной идейный контекст источников о Куликовской битве и важнейших военных победах XV в. состоял в преодолении этого «исторического пессимизма», в осознании Божьей поддержки, в сохранении ее соблюдением религиозных норм. Для перелома сознания ключевое значение имели победа на Воже в канун Успения и на Куликовом поле в день Рождества Богородицы. Литературную традицию задали «Житие Александра Невского», повести о походе Дмитрия Донского на Тверь и о битве на Воже.
В краткой повести о Куликовской битве борьба с Ордой рассматривалась как война за веру, татары сравнивались со степняками Киевской эпохи, а победа считалась достигнутой Божьей помощью. Три этих черты - отождествление земли Русской и веры православной, ощущение Божьей поддержки и преемство от Киевской Руси - характерны для всех памятников Куликовского цикла. В «Задонщине» описание победы над Мамаем как чуда было усилено, проводилась мысль о прохождении Божьего гнева. Усилено было и тождество земли и веры (цель русских воинов - биться «за землю Русскую, за веру православную»), чего совершенно не было в «Слове о полку Игореве», которому подражала «Задонщина». Битве придавалось мировое и общерусское значение. Первое выразилось в том, что весть о победе достигла Рима и Царьгра-да, а второе - в том, что князья назывались «русскими», а не по своим княжествам, как в «Слове о полку Игореве». В слове о Дмитрии Донском Русь уподоблялась Иерусалиму как земле обетованной в противовес летописной повести о разорении Владимира Батыем, где уподобление основывалось на месте приложения Божьего гнева. Дмитрий Донской прославлялся как князь-инок, происходящий от «святого корня», подобный апостолам, более прямо говорилось об ангельской помощи во время битвы. Примечательно текстовое совпадение слова с посланиями
Серапиона Владимирского и митрополита Кирилла: последствия ига, названные святителями, представлялись Дмитрием Донским как вероятные в случае победы Мамая. В пространной повести о Куликовской битве отметим как наиболее существенные моменты усиление темы о прохождении Божьего гнева, упоминание Богородичного праздника в день битвы, возрастание роли деятелей церкви в священной войне (епископа Герасима и впервые упомянутого преподобного Сергия), нарастание драматизма при появлении четко поименованной небесной рати во главе с архистратигом Михаилом - после попытки москвичей дрогнуть, увеличение норм поведения православного князя на войне (больше молитв, благословение у архиерея). В «Сказании о Мамаевом побоище», созданного на основе источников XV в., были расширены нормы, заданные предшествующими памятниками. Прежде всего, это нормы поведения на войне православного князя, великой княгини Евдокии (молитвы, раздача милостыни), деятелей церкви (проведение молебнов, укрепление боевого духа воинов), воинов (молитвы, после битвы прославление Богородицы песнопениями). Изображенные на хоругвях русской армии святые выступали в качестве второго воинства - небесного. Подчеркивалась помощь русских святых князей Бориса и Глеба, митрополита Петра, подробнее показывалась история воинов-схимников Пересвета и Осляби, данных преподобным Сергием в знак святой помощи. Существенным дополнением явилось четкое описание сакральных мест московских князей - Успенский и Архангельский соборы, мощи князей и митрополитов, икона Владимирской Богоматери, Троице-Сергиев монастырь, а также тема страданий за веру. Погибшие на Куликовом поле воины получали из облака венцы мучеников, а погибшие «агаряне» попадали в ад.
Повести о нашествиях на Москву Тохтамыша, Темир-Аксака и Едигея добавили к идеологии войны за веру нормативный идеал поведения жителей осажденного города. Они важны следующими мыслями: осознанием преемства истории Киевской и Московской Руси, сравнением Москвы с Иерусалимом и Владимиром, верой в милость Бога, который прежде наказаний посылает знамения и не наказывает до конца, требованием от людей мистической напряженности для своевременного провидения знамений и покаяния, верой в покровительство Москве Богородицы («Возбранной Воеводы») и митрополита Петра, чудесным завершением нашествий Едигея и особенно Темир-Аксака.
Воинские повести второй половины XV в. о Новгородской войне и борьбе с Ахматом продолжали эти традиции. Действия Ивана III в изложении событий Новгородской войны строго регламентированы рамками канона, сходны с действиями Дмитрия Донского. Описание соблюдения этих рамок заняло больше места, чем изложение военной стороны операции. Великий князь молился у главных столичных святынь. Перед вторым походом молебны служили не только в Москве, но и по окружным монастырям, включая Троице-Сергиев. Победа была одержана после молитв воевод: Бог дал сухую погоду, что не позволило новгородцам использовать фактор грязи. Поведение последних неадекватно нормам, почему, собственно, новгородцы и проиграли. Им приписаны пьянство, поклонение золотому тельцу, они сравнены с евреями, которые не послушали Христа и были рассеяны за грехи, и с жителями уже разоренного Константинополя, погибшего из-за унии. Поэтому москвичи, как когда-то монголы, в данном случае еще и являлись орудием Божьего гнева. После возвращения из первого похода за семь верст до столицы московскую рать встречал митрополит Филипп I с освященным собором и народ. А венцом второго похода стало строительство нового Успенского собора. Победы русского оружия над Ахматом в 1472 и в 1480 гг. рассматривались как результаты Божьей помощи: оба раза татары бежали, гонимые Божьим гневом от русского воинства, названного в соборной грамоте 1480 г. «христолюбивым». При этом мысль о том, что победу одержали сами воины была названа неверной и греховной.
В воинских повестях и других источниках о военных событиях заметное место отведено священным символам столицы. Это Успенский и Архангельский соборы, мощи митрополитов Петра и Алексия, великих князей, икона Владимирской Богоматери и ее список, созданный митрополитом Петром. Эти святыни становились непременными местами начала и завершения войн за веру, с ними было связано несколько чудес, Успенский собор отождествлялся с Москвой. Также в военных повестях присутствуют аналогии: 1) Московская Русь = Киевская (Владимирская) Русь, 2) Русь = Новый Израиль и 3) Русь = Византия (в значении «главного православного государства»). Эти идеи были намечены в источниках XV в. и четче всего прослеживаются при осмыслении военных событий и борьбы с католиками. Аналогия Московской и Киевской Руси была связана с осознанием тождества «земли Русской» и
«веры православной». Это позволяло не только из политических соображений включать в понятие «Русь» земли Киевской Руси. Сравнение Руси с Израилем основывалось на обильном цитировании псалмов, в которых много места отведено идее войны за веру. Естественно, что при описании побед библейская символика чаще привлекалась для доказательства того, что Русь - «земля обетованная», земля истинной веры, а не наказанная Богом, как в литературе эпохи нашествия. Сравнение же Руси с Византией и другими православными странами в обращении к «сынам русским» эпохи стояния на Угре, в послании Вассиана Рыло и в 16-м слове «Просветителя» Иосифа Волоцкого в контексте идеи войны за веру строилось на противопоставлении. В рассматриваемое время Русь могла предъявить другим православным государствам пример, как должно жить и воевать в минуты грозной опасности. В сочетании с идеями русского царя, высшего православия на Руси после Флорентийской унии, роста святости явствовало, что Русь сама сакральное пространство, которое не раз становилось местом приложения Божьей милости и чудес, из которого, как считал Афанасий Никитин, грех надолго уезжать. В подобных мыслях - истоки идей Святой Руси и Третьего Рима. Это было то положительное, что заместило погибшее и «испорченное» (византийское). Зародившись в источниках о Куликовской победе исключительно в рамках противостояния Русь - Орда, идеи искупления грехов, концепция войны за веру к концу XV в. вышла на иной уровень: она стала приложима ко всем войнам Московской Руси, поведенческие рамки «христолюбивого воинства» получили обобщенный, при сравнении с другими православными народами даже сверхнациональный, характер. Источники о войнах Московской Руси наиболее ярко высвечивают перелом в сознании русских людей XV в. от осознания греховности, наказанности игом к ощущению праведности и осознания заступничества за Русь небесных сил. Это было результатом более широкого понимания родины - Руси как церкви и Руси как мира православия.
В результате работы над диссертацией были получены следующие выводы:
1. Временем зарождения идеи русского царя стал период с 1441 по 1461 гг. Тогда русские государи получили новые полномочия в структуре церкви - участие в избрании митрополитов и в архиерейских соборах, статус главного защитника православия от иноверцев и еретиков, -
которые уподобляли их византийским василевсам. В ходе второй половины XV в. эти тенденции закрепились, возникли новые. С началом полемики против униатов начала складываться идеологическая база царской идеи. Истоком ее стали произведения о Флорентийском соборе и послания митрополита Ионы, а промежуточным итогом на рубеже ХУ-ХУ1 вв. - учение Иосифа Волоцкого. В 90-х гг. XV в. появились прецеденты церемониала. Сакрализация верховной власти русских государей дополнялась политической составляющей царской идеи. Основой формирующегося титула русских царей стал титул Василия II, а слово «царь» с оттенком политического превосходства начало периодически включаться в него при Иване III. Одновременно русский князь при продвижении на Восток замещал татарских ханов, перехватывая, таким образом, право на царский титул последних, замещая их в качестве верховного суверена земель Золотой Орды.
2. В течение всего XV в. на Руси происходил процесс роста монастырей. К концу столетия он охватил всю Великороссию. Границы Русской Фиваиды практически совпали с границами проживания русского населения Московского государства. Потому в данном процессе следует видеть духовное сближение, тождественное экономической интеграции русских земель и собиранию власти московскими государями. Русская Фиваида повлияла на рост и типологию святости: резко выросло число святых, среди которых стали преобладать преподобные. Новые монастыри воспринимались как островки святости, завоеванные праведностью основателей в борьбе с нечистой силой. Их существование делало монастыри необходимыми скрепами миропорядка страны, способствовало формированию специфической монастырской культуры Московской Руси и сакрализации образа родины.
3. В воинских повестях XV в. лучше всего заметен переход от осознания древнерусскими людьми греховности и наказания страны ордынским игом к осознанию праведности своих святых и покровительства Русской земле Бога и Богородицы. В этих повестях дан нормативный образец поведения русских людей при защите нового освященного отечества, заставлявший каждого воина быть «христолюбивым», каждого князя «благоверным», каждого священника благословлять войну за веру и отечество, ибо Русские государство и церковь стали совпадать. В это религиозно-политическое понятие входила и территория, подчиненная Литве, что диктовалось православным и династиче-
ским единством, а также северные территории и земли бывшей Орды. Моральное падение «греков» и гибель христианских государств удачно совпали с возвышением Руси, способствовав осознанию своей страны главным православным государством мира - под Покровом Богородицы, со своим царем, достаточным количеством святых.
4. В итоге к концу XV в. на территории Руси было построено православное государство. Перечисленные идеологические новшества сформировали отличие этого государства и мировоззрения его граждан от эпохи Киевской Руси. Эволюция его продолжалась и далее, но большинство знаковых событий (венчание Ивана Грозного на царство, Ма-карьевские соборы, присоединение земель Орды, борьба с Литвой за земли бывшей Киевской Руси, появление идей Святой Руси и Третьего Рима, учреждение патриаршества и многое другое) продолжение и следствия событий XV в.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
1) Кто молился за Василия Темного? // Исторические чтения КГПИ. Вып. 2. Коломна, 2003. С. 24-30. (0,4 п.л.).
2) Василий П и Иван III во главе архиерейских соборов. // Наше отечество. Страницы истории: Сб. науч. ст./МГОУ. М., 2002. С. 16-23. (0,5 п.л.).
3) Официальный титул русских государей во второй половине XV века. // Исторические чтения КГПИ. Вып. 1. Коломна, 2002. С. 33-39. (0,4 п.л.).
4) Природа в житиях святых Русской Фиваиды. // Русское Средневековье. 2000-2001 годы. Источники. М., 2002. С. 23-39. (0,8 п.л.).
5) Московские государи и церковь во второй половине XV века. // Гуманитарные науки на рубеже веков. Материалы Межвузовской научной конференции. Москва, МФЮА, 2001. М., 2001. С.10-13. (0,2 п.л.).
Q.O o^iA iîP17 л
i i
/
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Байковский, Константин Юрьевич
Введение3.
Глава 1. Становление концепции русского царя в XV веке.
Зарождение идеи русского царя22.
Царские» полномочия Василия II и Ивана III и их обоснование в источниках
Царский титул в официальных церемониях и дипломатических документах второй половины XV века69.
Глава 2. Русская Фиваида и ее осмысление в XV веке.
2.1. Влияние иноческого возрождения на рост и типологию святости86.
2.2. Сакрализация монастырей Русской Фиваиды в агиографии108.
Глава 3. Война за веру в источниках XV века.
3.1. Преодоление «исторического пессимизма» в памятниках Куликовского цикла131.
3.2. «Христолюбивое воинство» на страже Святой Руси149.
Введение диссертации2003 год, автореферат по истории, Байковский, Константин Юрьевич
В период Московской Руси были сформированы политическая и экономическая системы, свой типический человек и менталитет, отличные от Киевского периода. Но как и почему эти изменения произошли? Почему в Киевской Руси правителей называли великими князьями, а в Московской царями-термином, которому в иностранных языках не подобрали аналога; почему «вдруг» сотни людей уходили в монахи, почему основывались десятки новых монастырей, почему многих русских подвижников начали почитать святыми - не понять, не вжившись в прошлое, не постигнув его идей. Какое место в данной эволюции занимает XV в.? Если мы рассмотрим положение Русского государства в конце XIV и в начале XVI вв., разница будет заметная.
Итак, к концу XIV в. восточные земли Древней Руси находились в зависимости от Орды, причем к тому времени они не были объединены: Тверское, Рязанское и Нижегородско-Суздальское княжества (последнее недолго) были независимы от княжества Владимирского, а Новгородская республика сохраняла фактическую самостоятельность. А к началу XVI в. Московская Русь-суверенное государство, занимающее более половины всей Киевской Руси, с активной внешней политикой, в состав которого уже начали входить земли Литвы и зависеть некоторые земли Орды.
К концу XIV в. правители названных русских княжеств носили титулы великих князей и по этикету были равны между собой. К началу XVI в. правитель Руси задолго до официального принятия титула называет себя царем. Его власть приобретает сакральный характер и частично распространяется на церковь.
В конце XIV в. существовало несколько православных государств, хотя их положение год от года ухудшалось под натиском турок. А к началу XVI в. Русь -единственное значительное независимое православное государство.
К концу XIV в. Русская митрополия входила в состав Константинопольского диоцеза, ее глава утверждался в Византии. К началу XVI в. наша митрополия более полувека самостоятельна, ее глава избирается на Руси.
К концу XIV в. Русская церковь чтила нескольких святых, число которых неуклонно возрастает. В 1547 и 1549 гг. на церковных соборах произойдет крупнейшая в средневековой Руси канонизация, оформившая уникальное явление, названное Г.П. Федотовым' «золотым веком» русской святости.
Во второй половине XIV в. происходит, наконец, оживление культурной жизни Руси после упадка, вызванного Батыевым нашествием. К началу XVI в. мы можем сказать, что позади лучший период русской иконописи, который начался именем Андрея Рублева и завершился именем Дионисия. Резко увеличилось число литературных произведений, Москва стала столицей русского искусства.
В русской литературе после Батыева нашествия преобладала идея искупления грехов и воинского подвига. В первой четверти XVI в. в литературе не нова мысль о Богоизбранности Руси. Страна сравнивается с «Третьим Римом», Москва - с «Новым Константинополем», ее правитель - с наследником византийских василевсов. Переход от осознания греховности (ранее ведь и о гибели Русской земли говорилось) до Богоизбранности грандиозен. Он должен иметь серьезные основания, должен предваряться напряженной работой мысли.
Между всеми названными изменениями лежит XV в. В хронологические рамки диссертации не вошел период первой половины XVI в., в идеологии Московского царства весьма важный. Этот период уже вершина, уже грандиозный итог той работе, что ему предшествовала, и потому задача увидеть эту работу не должна подменяться рассмотрением сложившейся идеологии Московской Руси. Однако в каждой главе по-разному пришлось выйти за нижнюю или верхнюю границу XV в., ибо время историческое, конечно, не совсем то же, что астрономическое. Это связано с необходимостью рассмотреть последние годы этапного правления Ивана III, произведения Иосифа Волоцкого, созданные на рубеже XV-XVI вв., и начальный этап иноческого возрождения - период Сергия Радонежского и митрополита Алексия.
Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Сейчас наша страна находится перед выбором пути своего развития. Если с политикой и экономикой ясности больше, то в идеологии степень совместимости тех или иных идеологических моделей с нашим мировоззрением не всегда учитывается. Впрочем, тема возрождения государственности в Московской Руси за последние два века исследовалась постоянно с самых разных сторон. Но реконструкция мировоззрения этого периода далеко не закончена. В публицистике, некоторых учебниках да и в сугубо научных работах подчас встречается негативное отношение к Московской Руси2. Однако отрицательная оценка любого исторического периода, эдакий «гордый взгляд иноплеменный», -антикультурный акт, вред которого далеко выходит за рамки «чистой» науки. Выделение положительного содержания в непонятном современному человеку мировоззрении прошлого - долг потомков перед предками. Добавляют актуальности и некоторые факты современной политики, что находят аналогии в XV в.: недавняя попытка создания католических епархий в России напоминает политику униатов после Флорентийской унии, раскол в Украинской православной церкви - разделение Русской митрополии в 1415 и 1458 гг.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется тем, что в диссертации впервые рассматриваются истоки коренных положений
1 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 162.
2 Даже у такого выдающегося мыслителя, как Г.П. Федотов, который много исследовал менталитет Киевской и Московской эпох, можно встретить подобное. Равно как у «самого исторического» русского поэта А.К. Толстого в балладах «Змей Тугарин» и «Поток-богатырь», где Московская Русь противопоставляются «золотому веку» Киевской. См. соответственно: Федотов Г.П. Россия и свобода//Г.П. Федотов. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии идеологии Московской Руси за столетие, которые развивались и позже. Новизна также состоит в некоторых частных вопросах: впервые устанавливаются хронологические рамки возникновения идеи русского царя, по-новому рассматриваются титул русских государей (выделяются его варианты) и такой церковно-государственный институт как архиерейский собор с участием великого князя, предлагается авторская классификация монастырского возрождения, исследуется концепция войны за веру. Материалы диссертации могут быть использованы для преподавания истории в вузах (на исторических факультетах - в виде спецкурса) и школе.
Имеющаяся по теме диссертации историография может быть разделена на три группы. Первая - это исследования, посвященные важной проблеме идеологии Московской Руси - зарождению концепции русского царства. Осмысление места русского царя в мире, его полномочий начались еще в средние века в трудах Иосифа Волоцкого и старца Филофея, в «Сказании о князьях Владимирских», в письмах Ивана Грозного и Андрея Курбского и других источниках. Глубокое изучение вопроса методами исторической науки характерно для XIX в., когда были опубликованы основные отечественные источники по теме: официальные документы церемониального характера, послания отдельных исторических деятелей (митрополитов, князей, преподобного Иосифа Волоцкого), посвященные осмыслению идеи царства, ряд важных в идеологическом плане развернутых повестей о важнейших событиях в истории Руси. Наиболее значительными исследованиями, основанными на упомянутых документах, представляются монографии М.А. Дьяконова и В.И. Саввы1. Первый автор определил начальные этапы развития идеи (автокефалия Русской церкви и русской истории и культуры): В 2-х тт. Т. 2. СПб., 1992. С. 277-288; Толстой А.К. Стихотворения. Царь Федор Иоаннович. JL, 1958. С. 210-217, 248-256.
1 Дьяконов М.А. Власть московских государей. Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889; Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских государей. Харьков, 1901. падение Константинополя), отметил роль Иосифа Волоцкого в создании первого законченного учения о русском царе, присоединил к прочим источникам по идее русского царя дипломатические. Второй же больше внимания уделил византийским истокам идеи русского царя, показав сакральный смысл царской идеи в Византии, воплощение его в церковных полномочиях василевсов, а также рассмотрел историю коронаций русских царей, начиная с первой - коронации внука Ивана III Дмитрия. Главные положения, высказанные в названных работах, за редким исключением, оспорены не были. Уточняются лишь частные вопросы в силу новейших источниковедческих изысканий. Отдельным проблемам византийского влияния посвящены важные исследования дореволюционных историков - Е.В. Барсова, К. Попова, А.В. Горского1 и многих других. Примечательна и работа А. Лакиера об истории царского титула2, по сей день являющаяся самой полной по данному вопросу. Новизна трудов исследователей середины и второй половины XX в. Г.В. Вернадского, И.П. Медведева, Г.А. Острогорского и кн. Д. Оболенского3 состояла в привлечении новых византийских источников для воссоздания системы византийских представлений о царе. Источники эти включают как официальные церковные и юридические документы (Кормчая, «Епанагога»), так и описания фактических церемоний, теоретические
1 Барсов Е.В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами. М., 1883; Попов К. Чин священного коронования//БВ. 1896. № 4. с. 59-72; № 5. с. 173-196; Горский А.В. О священнодействии венчания и помазания царей на царство//Прибавления к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 29. М., 1882. С. 117-151.
2 Лакиер А. История титула государей в России//ЖМНП. 1847. Ч. LVI. С.81-156.
3 Вернадский Г.В. Византийские учения о власти царя и патриарха//Сб. ст., посвященный памяти Н.П. Кондакова. Прага, 1926. С. 143-154; Медведев И.П. Империя и суверенитет в средние века (На примере Византии и некоторых сопредельных государств)//Проблемы истории международных отношений. Сб. ст. памяти академика Е.В. Тарле. Л., 1972. С. 412-424; Острогорский Г.А. Эволюция византийского обряда коронования//Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 33-42; Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI-XV вв. XIII Международный конгресс исторических наук. Москва, 16-23 августа 1970 г. Отд. оттиск. М., 1970. работы византийских мыслителей. Изучение этих источников не закончено, византийская концепция царства предстает противоречивой, ряд проблем (например, статус василевсов в структуре церкви) решаются по-разному. Современные историки А.А. Горский, Я.Н. Щапов и В. Водов рассмотрели1 все случаи употребления царского титула в источниках Киевской и Московской Руси. Выявленные статистические закономерности подчеркивают ценность новых обращений к казалось бы хорошо изученным источникам и могут существенно дополнить особенности и эволюцию русских представлений о царе. М. Чернявский, продолжая линию Н.М. Карамзина и «евразийцев» о влиянии ордынского ига на русскую историю, убедительно показал2 на вполне наглядных примерах (иконография, ход коронаций, поминание на литургии) синтез в русском сознании образов хана и василевса — «царей» по тогдашней терминологии. Б.А. Успенский в ряде своих работ3 исследовал идеологические основы царской власти на Руси на базе современного источниковедения, расширил круг вопросов по теме (литургический статус царя, история миропомазания на царство), привлек новый круг источников - западноевропейские дипломатические документы. Это позволило придти к ряду новых выводов по отдельным вопросам проблемы: о влиянии западноевропейского церемониала на православный, об отсутствии миропомазания в церемонии коронации Ивана Грозного, о некоторых особенностях титула русских государей. В целом, проблема истории идеологии русского царства принадлежит к числу широко исследованных. Применительно к
1 Серию статей см.: Мировосприятие и самосознание русского общества. Вып. 2. Царь и царство в русском средневековом общественном сознании. М., 1999; Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002.
2 Чернявский М. Хан или василевс: один из аспектов русской средневековой политической теории//Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. С. 442-456.
3 Успенский Б.А. Литургический статус царя в Русской церкви: приобщение Св. Тайнам (историко-литургический этюд)//Российский Православный университет ап. Иоанна Богослова. Учен, записки. Вып. 2. М., 1996. С. 130-170; Царь п патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998; Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000. событиям XV в. неразработанными вопросами можно назвать, например, точную датировку зарождения идеи русского царя, формирование официального титула, детальное выявление функций царя-василевса, унаследованных московскими государями, степень участия великих князей в архиерейских соборах.
Вторая группа исследований - труды по истории церкви, так или иначе затрагивающие историю иноческого возрождения в Московской Руси. Осмысление этого процесса, начавшегося во второй половине XIV в., было заложено уже в начале XV в. В некоторых источниках (Троицкой летописи и Рогожском летописце, «Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого) были названы родоначальники движения - митрополит Алексий, Дионисий Суздальский, Сергий Радонежский, была сделана первая классификация иноческой школы преподобного Сергия, который был показан подлинно всенародным святым. В период создания миней митрополитом Макарием, Григорием Тулуповым, Иваном Милютиным и святителем Димитрием Ростовским происходила сверка редакций, создавались новые жития, которые, естественно, являются основными источниками по этой теме. Исследование ее в исторической науке проходило по нескольким направлениям, три из которых сложились в XIX в. Во-первых, иноческое возрождение исследовалось в связи с историей колонизации севера. Во-вторых, исследовались литературные особенности житий святых рассматриваемого периода. Третье направление состояло в попытках классифицировать иноческие школы, выявить статистические закономерности путем подсчета числа и видов (пустынных и городских, северных и в центральных районах страны) обителей, роста святости. Эти направления по-своему свидетельствовали о признании уникальности иноческого возрождения в истории Русской церкви. Всем трем направлениям уделил внимание В.О. Ключевский в ряде работ1, особенно в краткой, но исключительно важной речи о Сергии
1 Ключевский В.О. Сочинения в 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М., 1987; Т.
7. Специальные курсы (продолжение). М., 1989; Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988; Значение преподобного Сергия для русского
Радонежском. Ему принадлежит приоритет в изучении агиографии как самостоятельного источника, он отметил духовное влияние Сергия Радонежского на поколение победителей Мамая, считая рост иночества свидетельством национального подъема, скрупулезно исследовал численный рост монастырей, соотношение городских и пустынных обителей, значение Троице-Сергиева монастыря в иноческом возрождении, реконструировал этапы колонизации северных земель, как уединенное поселение отходника перерастало в монастырь с приходами, наконец, выделил этапы формирования относительно нового для Древней Руси агиографического жанра в эпоху митрополитов Киприана и Фотия, Пахомия Серба. Работы исследователей конца XIX в. С.В. Ешевского, И.И. Яхонтова, И.С. Некрасова1 и многих других, кажется, нельзя представить в отрыве от работ В.О. Ключевского. Первый автор, уделив внимание монастырской колонизации Русского севера, высказал мысль о распространении северными монастырями «гражданственности». Второй, почувствовав, что северная часть иноческого возрождения наиболее яркая, более подробно описал ее путем пересказа и анализа житий, с учетом взаимного влияния источников и агиографических заимствований. Третий автор исследовал роль древней агиографии в формировании русского языка, систематизировал ранние редакции древнерусских житий, отметил фактическое почитание подвижников не только до канонизации, но и до написания жития. Существенную роль в исследовании статистических закономерностей «золотого века» русской святости играют труды исследователей канонизации святых2 и количественного роста монастырей1. Л.Н. народа и государства//В.О. Ключевский. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 63-76.
1 Ешевский С.В. Сочинения. Часть III. М., 1870; Яхонтов И.И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881; Некрасов И.С. Зарождение национальной литературы в северной Руси. Ч. 1. Одесса, 1870.
2 Васильев В. История канонизации русских святых. М., 1893; Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903. Данный вопрос
Муравьев и М.В. Толстой2 «нарисовали» своеобразное «генеалогическое древо» русской святости, выделили ветви и направления3. «История Русской церкви» М.В. Толстого4 - редкая для историографии XIX в. попытка рассмотреть историю церкви параллельно с историей святых, которой отводится основное место. То же касается названной работы А.Н. Муравьева, пытавшегося воссоздать духовную реальность жизни святых Русского севера5. Заметим, что церковные историки в основном писали историю церкви «по митрополитам» и ограничивались изложением политических событий.
Новый этап в изучении «золотого века» русской святости связан с упомянутым трудом Г.П. Федотова «Святые Древней Руси». Это пока лучшая систематизация русских святых. Основываясь на всей полноте агиографического материала, что до него никто не делал, Г.П. Федотов рассмотрел эволюцию типов святости, выделил варианты иноческого делания, попытался описать характеры древнерусских святых, более зримо ввести в историю средневековой Руси личность или хотя бы тип древнерусского человека («иосифлянин», «нестяжатель»), как это пытался сделать А.Н. Муравьев. Тот же автор отметил1 недостатки историографии XIX в., за исключением речи В.О. Ключевского, по продолжил современный исследователь А.С. Хорошев. См.: Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации XI-XVI вв. М., 1986.
1 Специальные разделы о росте монастырей см.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. Кн. 3. М., 1995; Кн. 4. Ч. 1. М., 1996; Кн. 4. Ч. 2. М., 1996.
2 Муравьев А.Н. Русская Фиваида на севере. М., 1999 (переиздание); Толстой М.В. Патерик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры или происхождение северовосточного русского иночества из обители преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца. М., 1892.
3 Их можно сравнить с минеей, например, со списком «Собора Радонежских святых». См.: Минея. Июль. Ч. 1. М., 1988. С.339-359.
4 Толстой М.В. История Русской церкви. М., 1991.
5 Из работ последнего времени данное направление продолжает яркое исследование Н.М. Теребихина, см.: Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство северно-русской культуры). Архангельск, 1993. вопросу изучения истории церкви: в ней нет святых, это история быта и учреждений, подобная хору без героев. Жития часто привлекались как источники политической, социально-экономической, языковедческой информации, но реже рассматривались как самоценные объекты исследования. Даже церковные авторы в научных исследованиях и в многочисленных пересказах житий пропускали целые фрагменты, недооценивая ценность источника, старались дать «рациональное» или политизированное объяснение явлениям духовной жизни.
Историки второй половины XX в. наиболее часто обращались к изучению связи иноческого возрождения на Руси с движением исихастов на Православном востоке.2 Из современных исследователей надо выделить лучшего специалиста по данной проблеме И.Ф. Мейендорфа, а также Г.М. Прохорова и Б.М. Клосса3. Двое последних опубликовали много новых редакций житий, исследовали политическую сторону исихазма, старались найти материальные факты влияния Православного востока на монашеское возрождение на Руси путем изучения биографий подвижников. Г.М. Прохоров, учитывая поправки, стал говорить о «второй волне» колонизации Русского севера. Ему принадлежит первенство в детальном прояснении роли Дионисия Суздальского в возрождении монашества, а также в широком привлечении нового вида источников - трудов восточно-православных исихастов и других отцов церкви, которые активно переводились на Руси в XV в. Б.М. Клосс попытался сформировать свой перечень обителей
1 Федотов Г.П. Православие и историческая критика//ВФ. 1990. № 8. С. 146-153.
2 Впрочем, далеко не все, изучавшие данную тему. А.И. Клибанов, например, отрицал связь русских монастырей с исихазмом, не отрицая воздействия последнего на русскую культуру. См.: Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева//Андрей Рублев и его эпоха/Сб. ст. под ред. М.В. Алпатова. М., 1971. С. 62-102.
3 См.: Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в.//ТОДРЛ. Т. 29. Л., 1974. С. 291-305; Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Повесть о Митяе. СПб., 2000; Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998; Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV-XVI веков. М., 2001.
Русской Фиваиды, убрав монастыри, даты основания которых не упомянуты в источниках. Все же степень разработки данной проблемы следует признать недостаточной. Даже по последнему направлению: активное привлечение переводных источников не всегда приводит к определенным выводам, тот же самый «исихазм» не предстает четко определимым понятием. Мистическая жизнь не постигается научным путем. Как справедливо отмечал В.В. Бычков1, рассуждая об особенностях православной эстетики, подобные вещи не выводятся в сознание на уровень логики. Многие жития до сих пор не опубликованы. Крайне плохо исследованы чудеса святых, а применительно к XV в. мало изучен вопрос о восприятии древнерусскими людьми новых монастырей как центров святости.
В силу сказанного, в третью группу исследований включены основанные на всем комплексе источников важнейшие общие и специальные работы по истории XV в., к которым вынужден обращаться исследователь любого аспекта данного периода для получения представления о месте интересующей проблемы в общем русле истории, для уяснения всей полноты источников по теме. Современные авторы основываются на новейших достижениях источниковедения, кроме того, необходимо знать и взгляды предшественников. Потому выделим наиболее часто упоминаемые в диссертации исследования. Еще Н.М. Карамзин уделил внимание осмыслению2 эволюции верховной власти московских государей и идеологической эволюции в ее восприятии, отметил и положительно оценил татарское влияние на русскую государственность. А.Е. Пресняков3 исследовал процесс собирания власти в руках московских государей, властных ресурсов которых не могут упускать исследователи царской идеологии. Недавно опубликованные работы Г.В. Вернадского4 по проблеме становления идеологии
1 Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977. С. 43.
2 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V-VIII. Калуга, 1993.
3 Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII-XV столетий. Пг., 1918.
4 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, М., 1997; Россия в средние века. Тверь, М., 1997.
Московской Руси могут быть отрекомендованы как обобщающие для дореволюционной и русской зарубежной «евразийской» историографии. История внешней политики Руси XV в. наиболее подробно изложена у К.В. Базилевича и A.JI. Хорошкевич1. Работа А.Н. Насонова2 об истории татарской политики на Руси интересна заострением внимания на идеологической борьбе, на социальных последствиях Батыева нашествия, авторской оценкой даты окончания ига. Вопросы взаимоотношений с Ордой и освобождения от ее ига обобщили Ю.Г. Алексеев и совсем недавно А.А. Горский3, дав много новых интерпретаций казалось бы хорошо известных событий. История идеологической борьбы в зачастую предвзятых источниках подробно отражена в наиболее полной по данному периоду источниковедческой работе Я.С. Лурье4. Монографии Н.С. Борисова об Иване III и Р.Г. Скрынникова о церкви и государстве на Руси5 обобщают традиционные взгляды на данные проблемы советской историографии с ее строгой привязанностью к источникам. Крупнейшим для исторической науки и для источниковедения событием стал выход в свет монографии Н.В. Синицыной об идее «Третьего Рима»6, где был подведен итог исследованию данной концепции на основе современного источниковедения, выделены истоки (а оии
1 Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV века. М., 1952; Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV-начала XVI в. М., 1980.
2 Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси)//Альманах «Арабески истории». Вып. 3-4. «Русский разлив». Т. 1. М., б.г. С.64-263
3 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991; Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989; Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000.
4 Лурье Я.С. Две истории Руси XV века. Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994.
5 Борисов Н.С. Иван III. М., 2000; Скрынников Р.Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси 1X-XVI1 вв. СПб., 2000.
6 Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-XVII вв.). М., 1998. были в XV в.) идеи. Во многом идейным аспектам посвящены исследования в рамках семинара «От Рима к Третьему Риму»1.
Подводя итоги, отметим, что представленный обзор историографии максимально краткий, по ряду конкретных вопросов он подробнее дан в главах.
Степень изученности тем глав диссертации разная, в целом по теме диссертации исследований нет. Не все события XV в. достаточно изучены2. Например, вопрос об идеологии повестей о военных событиях.Проблема, не смотря на множество исследований отдельных источников, применительно к XV в. мало разработана. Для редкого примера по данной теме можно назвать недавние работы. Эволюции древнерусского сознания от исторического пессимизма к оптимизму после победы над Мамаем посвящены ряд работ М.Н. Громова с соавторами3. Важные замечания о развитии религиозных культов ряда праздников и святых в связи с военными событиями в жизни страны содержатся в работе М.Б. Плюхановой4. И.О. Князький в своей работе «Русь и Степь» подошел5 к вопросу русско-татарских отношений с точки зрения менталитета русского человека прошлого: противостояние с татарами было продолжением противостояния со Степью, ранее
1 Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследование центров идеологии и культуры до XVII в. VI Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 28-30 мая. М., 1997; Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. IX Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 29-31 мая 1989 г. М., 1995; 400-летие учреждения патриаршества в России. IV Centenario delFistituzione del Patriarcato in Russia. От Рима к Третьему Риму. Специальный выпуск 1989 года. Доклады Международной конференции, посвященной 400-летию учреждения патриаршества в России. Москва, 5-6 февраля 1986 г. М., 1997.
2 В историографии нередко московские князья этого периода характеризовались «скопом», хотя, казалось бы, характер правителя - это то, что источники предоставляют обязательно. Самый характерный пример см.: Ключевский В.О. Сочинения. Т. 2. С. 47.
3 Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990; Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб., 2001.
4 Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
5 Князький И.О. Русь и Степь. М., 1996. представленной хазарами, печенегами и половцами, что и отразилось в произведениях о борьбе с Ордой. Все это подтверждает необходимость дальнейшего изучения идейных основ Московской Руси.
Источниковую базу диссертации можно разбить на четыре группы: первые три - основные источники, четвертая - вспомогательные. Наибольшую по объему информацию содержит крупнейший комплекс письменных источников — летописи. В ходе работы над диссертацией рассматривались все летописи, созданные в течение XV в. и около него - немногим до и немногим после1. Для фактического использования наиболее ценны летописи московские и общерусские: Лаврентьевская и Троицкая летописи (в реконструкции М.Д. Приселкова), Рогожский летописец, Симеоновская, Софийская первая двух редакций (до 1418 и до 1508 гг.), Новгородская четвертая летописи, свод 1479 г., ставший основой поздних официальных летописей, а также Никаноровская, Вологодско-Пермская, Ермолинская, Типографская летописи2. В летописях для темы диссертации важны развернутые осмысления крупнейших событий, данные во включенных в летописи повестях, словах, посланиях различных исторических деятелей. Поскольку объектом исследования является идеология, интерес представляет не только выделение достоверной информации о событиях, но всей полноты мнений о событиях, включая жанровые каноны московских книжников. Летописи - основной источник для первой и третьей глав диссертации, так как именно во включенных в летописи произведениях обосновываются претензии
1 Датировку летописей см.: Лурье Я.С. Указ. соч. С. 13-22.
2 Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М., Л., 1950; ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997; Т. 4. Новгородская четвертая летопись. Вып. 2. Л., 1925; Т. 6. Софийские летописи. СПб., 1853; Т. 15. Рогожский летописец. Вып. 1. Пг., 1922; Т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913; Т. 23. Ермолинская летопись. СПб., 1910; Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921; Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М., Л., 1949; Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М., Л., 1959; Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в. М., Л., 1962; Т. 28. Летописный свод 1497 г. правителей Руси на статус царей, описываются военные события. Сюда относятся: основные памятники Куликовского цикла, произведения о Флорентийском соборе1, повести о борьбе с Ордой и покорении Новгорода, послания митрополитов и Вассиана Рыло, описания церемоний. Но и для второй главы диссертации летописи важны - в них содержатся упоминания о крупнейших деятелях монастырского возрождения, основных обителях и, что еще важней, анализ деятельности некоторых из них.
Вторую группу источников составляют жития. Это, прежде всего, источники XV в.2, посвященные святым второй половины XIV-XV вв.: жития преподобных Сергия Радонежского (редакции Епифания Премудрого и Пахомия Серба), Кирилла Белозерского, Димитрия Прилуцкого, Никона Радонежского, Саввы Вишерского, Варлаама Важского, Дионисия Глушицкого, Григория Пелынемского, Зосимы и Савватия Соловецких (редакция Спиридона-Саввы), Ефросина Псковского, святителей митрополита Алексия (две редакции), Стефана Пермского, Евфимия и Ионы Новгородских, Арсения Тверского, Питирима Пермского, Исидора Юрьевского; а также «Сказание о Спасо-Каменном монастыре»3. В диссертации используются неопубликованные жития святых XV
Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). М., Л., 1963; Т. 39. Софийская первая летопись по списку И.Н. Царского. М., 1994.
1 Отметим также не включенные в летописные публикации «Задонщину» и «Слово на латыню». Публикации см., соответственно: Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. С. 380-397; Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI-XV в.). М., 1875. С. 360-395.
2 Датировку см.: Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. С. 17-20, а всех остальных житий см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI вв.). Ч. 1. Л., 1988. С. 237-345.
3 См., соответственно: Житие Сергия Радонежского//Б.М. Клосс Избранные труды. Т. 1. С. 271 -439; Житие Кирилла Белозерского//Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. С. 50-167; Украинская Т.Н. Житие Дмитрия Прилуцкого - памятник вологодской агиографии//Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы и исследования. Л., 1990. С.7-53; Житие преподобного Никона Радонежского//В. Яблонский. Пахомий Серб и его агиографические писания. в., написаппые в XVI в., и жития святых более раннего периода, созданные в XIV-XV вв., из которых выделим «Житие митрополита Петра» редакции митрополита Киприана1. Агиография - основной источник по теме второй главы диссертации. Охарактеризовать подход к ней в данной работе можно так же, как и к летописям - важен сам текст, включая заимствования из других житий, жанровые повторения, чудеса. Помимо фактической стороны иноческого возрождения, в житиях лучше всего удается выделить религиозное восприятие деятельности святых агиографами. Минимальная информация о духовном облике подвижников, их почитании учениками и паломниками, отсутствующая в других источниках, дает максимальную возможность реконструировать эти явления.
В качестве третьей группы важных источников могут быть названы договорные грамоты русских князей и Новгорода между собой2 и с иностранными правительствами, а также инструкции послам, их отчеты3. Следует присоединить
СПб., 1908. С. LXIV-LXXXI; Житие преподобного отца нашего Саввы, иже над Вишерою рекою жившего//Новгородские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. 1899. № 7. С. 449-460; Житие ВарлаамаВажского/ЯТО. 1887. Т. 2. С. 7-47; Житие Дионисия Глушицкого. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 692. Л. 581621; Житие Григория Пелынемскаго//ВМЧ. Сентябрь. Дни 25-30. СПб., 1883. Стб. 2268-2295; Дмитриева Р.П. Житие Зосимы и Савватия Соловецких в редакции Спиридона-Саввы//Книжные центры Древней Руси XI-XVI вв. Разные аспекты исследования. СПб., 1991. С.220-283; Житие преподобного Ефросина Псковского (первоначальная редакция)//ПДП. № 173. СПб., 1902; Кучкин В.А. Из литературного наследия Пахомия Серба//Источники и историография славянского средневековья. Сб. статей и материалов. М., 1967. С. 242-257; Житие Стефана Пермского//Святитель Стефан Пермский. СПб., 1995. С. 50-263; Повесть о Евфимии, архиепископе Новгородском//ПЛ. Вып. 4. СПб., 1862. С. 15-26; Повесть об Ионе, архиепископе Новгородском//ПЛДР. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 350-375; Житие епископа Арсения//Б.М. Клосс. Избранные труды. Т. 2. С. 218245; Шляпкин И.А. Святой Питирим, епископ Пермский//ЖМНП. 1894. Ч. 292. С. 135-145; Житие Исидора Юрьевского//Н.П. Лихачев. Инока Фомы Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче//ПДП. № 168. СПб., 1908. С. 8-9; Сказания Паисия Ярославова//ПС.1861. 4.1. С. 197-216.
1 Житие митрополита Петра//Г.М. Прохоров Указ. соч. С. 415-437.
2 ДЦГ. М., Л., 1950; ГВНП. М., Л., 1949.
3 ПДС. Т. 1. СПб., 1851; РИО. Т. 35. СПб., 1882; РИО. Т. 41. СПб., 1884. сюда послания русских митрополитов и великих князей и их духовные грамоты, грамоты архиерейских соборов русского духовенства и, наконец, послания отдельных лиц, игравших важную роль в истории того времени1. Эти источники, в основном, краткие и потому интересны четкими формулировками, отражающие эволюцию великокняжеского титула и посольского церемониала, внешнеполитические задачи Руси, увеличение числа святых. Послания митрополита Ионы посвящены обоснованию новых полномочий великого князя и, в контексте темы первой главы, могут быть названы первым камнем в фундаменте идеологии Русского царства, куда также относятся «Пасхалия митрополита Зосимы» и послания Иосифа Волоцкого2. Из небольшой группы записок паломников и путешественников3 в диссертации фактически использованы записки игумена Зосимы (1419-1420 гг.) и «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (до 1475 г.), ярко характеризующие личности авторов - типических людей своей эпохи, а также воспоминания побывавших на Руси в XV в. венецианцев И. Барбаро и А. Контарини4, которые интересные некоторыми бесценными наблюдениями непредвзятых очевидцев за жизнью средневековой Руси.
Группу вспомогательных источников составляют акты социально-экономического характера1, а также данные искусствоведения, нумизматики и сфрагистики. В соответствии с темой диссертации, в ней преобладают письменные источники отечественного происхождения.
1 АИ. Т. 1. СПб., 1841; РИБ. Т. 6. СПб., 1908;РФА.Ч. 1.М., 1986; РФА. Ч. 2. М., 1987; РФА.Ч. З.М., 1987.
2 Публикации см.: Тиханюк И.А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы//Исследования по источниковедению истории СССР XIII-XVIII вв. Сб. ст. М., 1986. С. 45-61; Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993; Послания Иосифа Волоцкого. М., JL, 1959. Авторитетный пересказ посланий см.: Хрущев И. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, преподобного игумена Волоцкого. Б.м., 1868.
3 Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. М., 1984.
4 Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей XV в. JL, 1971.
На основе обзора имеющихся исследований и источников следует, что целью диссертации является комплексный анализ развития в идеологии Московской Руси XV в. концепций царства, святости монастырей и иночества, войны за веру. Эта цель предполагает решение следующих задач:
1) Рассмотреть характер употребления слова «царь» по отношению к русским князьям XV в.
2) Выделить новые полномочия московских государей XV в. применительно к представлениям о полномочиях царя.
3) Раскрыть взаимосвязь новых монастырей Московской Руси с ростом святости и изменением ее типологии в XV в.
4) Показать сакрализацию образа родной земли в сознании людей, проявившуюся в отношении к монастырям, основанным святыми.
5) Выявить связь литературного канона войны за веру с изменившимися представлениями о родине и обязанностях ее защитников.
Объектом исследования является православная идеология Московской Руси XV в., формировавшаяся в среде московских книжников, куда традиционно включаются образованные слои того времени. Несомненно, что эта идеология позже разделялась всем народом. Предмет исследования - переосмысленные в названной среде представления о верховном правителе, иночестве и монастырях, о защите родной земли.
Методологической основой исследования является конкретно-исторический подход к освещению поставленных проблем, раскрытие их в свете документально-достоверных свидетельств прошлого и с позиций современности, с соблюдением принципов историзма, объективности, логики и здравого смысла.
1 АСЭИ. Т. 1. М., 1952; Т. 2. М., 1958; Т. 3. М., 1964.
Исследуемые в диссертации проблемы1 изучаются на основе сопоставления и комплексного анализа разных видов источников. Проблемы рассматриваются с учетом их эволюции, статистических закономерностей, всех вариантов употребления важнейших терминов, редакций и списков, взглядов древнерусских авторов, с учетом некоторых стереотипов в историографии.
Структура работы состоит из данного введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. Последняя глава является завершающей, так как новые тенденции в военных повестях Московской Руси взаимосвязаны с сакрализацией образа верховного правителя и ростом святости, ибо статусы правителя и военачальника совпадали, возрастало число русских святых и, следовательно, заступников за Русскую землю.
1 По проблемам методики исследования Русского средневековья считаем необходимым сослаться на взгляды М.Н. Громова, см.: Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философии. М., 1997. С. 112-117.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Развитие концепций царства, святости и войны за веру в трудах московских книжников XV века"
Заключение.
Сформулируем основные итоги данного исследования.
Концепция русского царя развивалась на протяжении всей второй половины XV в. Временем ее зарождения стал период с 1441 по 1461 гг., включающий распад Орды, падение Константинополя, борьбу нашей родины с последствиями Флорентийской унии и установление автокефалии Русской церкви. С нашей точки зрения именно с этого периода начала формироваться концепция русского царства, которая де-факто приближала русских государей к статусу царей. В эпоху Ивана III были развиты намеченные в указанный промежуток времени традиции, связанные с царской идеей, добавились новые.
Важной для концепции царства традицией стало получение русскими государями властных полномочий в структуре церкви, уподобляющих их византийским василевсам: участие великого князя в избрании митрополита (с 1448 г., в XV в. шесть раз), статус великого князя как участника архиерейских соборов, имеющего право их созывать (с собора 1441 г. до конца правления Ивана III в среднем раз в три с половиной года) и, наконец, статус великого князя как защитника православия от иноверцев и еретиков (со времен изгнания Исидора и позже - во времена борьбы с последствиями унии, покорения Новгорода, наказания «жидовствующих», противостояния с Литвой). В последующую эпоху данные традиции сохранялись и эволюционировали в сторону значительного влияния царя на дела института церкви.
Далее, в среде московских книжников еще до Иосифа Волоцкого, в серии посланий конца XV-начала XVI вв. создавшего цельное учение о царстве, начало складываться теоретическое обоснование концепции русского царя. Не всегда прямо употребляя царский титул, московские книжники обосновывали право московского государя на царские полномочия, перечисленные выше. Не всегда заимствуя понятие «царь», заимствовали его содержание. Эти данные получены. при исследовании источников середины и второй половины XV в.: «Повести о Флорентийском соборе», «Слова на латыню», посланий митрополита Ионы в Литву и Новгород, его духовной, соборной грамоты 1459 г., послания Ростовского архиепископа Вассиана Рыло на Угру, посланий Новгородского архиепископа Геннадия о ереси «жидовствующих», «Пасхалии митрополита Зосимы» и некоторых других, например, писем Ивана III дочери в Литву, третьей редакции «Жития Сергия Радонежского» Пахомия Серба, дипломатических документов или описаний церемониала. Прошедшие в конце XV в. в Москве поставление митрополита Симона и коронация Димитрия-внука наследником престола показывали прямую ориентацию на царскую идеологию Византии. Теоретическая работа была продолжена идеологами Московской Руси XVI-XVII вв., а церемонии XV в. с "изменениями сохранялись и далее.
Одновременно в московских источниках титул «царь» начал прямо употребляться к действующим русским государям с 1441/42 г. в религиозном У значении, а в политическом - с 1474 г., когда периодически входил в официальный титул русских правителей в дипломатических отношениях с правителями не совсем суверенных государственных образований. Основой дальнейшего развития титула правителей Руси стал титул Василия II в договоре с Казимиром от 1449 г. По заложенной в XV в. логике этот титул развивался до конца существования монархии в России.
При осмыслении в Москве положения страны на Востоке существовала тенденция уподобления русских князей ордынским ханам («царям»). Происходило своеобразное заимствование русским государем некоторых признаков хана: («царя»), включая и суверенитет. Это было связано с продвижением Руси на татарский Восток от подчинения касимовских ± «царевичей» в середине XV в. до подчинения Казани в конце 80-х гг. того же столетия. Позже, уже в эпоху Ивана Грозного, владение Казанским «царством» служило обоснованием царского титула русских государей. Роль русского царя в мировоззрении подвластных бывшей Орде народов воспринималась как наследие ханов. В воинских повестях Московской Руси XV в. заметна еще одна тенденция: борьба с ханами способствовала сакрализации власти великих князей, ибо власть пергьтх появилась как Божье наказание, и подчинение русским прежних хозяев свидетельствовало об искуплении грехов и Божьей милости.
Процесс рг "та монастырей, начавшийся на Руси во второй половине XIV в. усилиями митрополита Алексия, Сергия Радонежского, Дионисия Суздальского и их сподвижников, привел к тому, что было создано больше обителей, чем за все предшествующие годы. Процесс этот продолжался и далее, в XVI и XVII вв. С нашей точки зрения уже к середине XV в. можно было говорить, что этот уникальный процесс состоялся, так как сложились основные духовные школы, идеологическая преемстгенность учеников, были заложены традиции московской монастырской культуры. Географическая распространенность новых монастырей в XV в. (территории великих княжеств Владимирского и Тверского, Новгородской и Псковской республик и северные районы страны) приводит к мысли, что Русская Фиваида и образование Великорусского централизованного государства - два параллельных процесса. Русская Фиваида была одной из форм национального подъема и духовной консолидации, способствовала идеологическому сближению народа, одновременно с экономической интеграцией русских земель и собиранием власти московскими государями.
Данный процесс оказал влияние на рост и типологию святости. Число святых на Руси по отношению к четырем векам христианства до этого резко выросло еще в XV в. Подобный же рост характерен и для агиографии. Как русский князь заместил василевса, так и русские святые заместили греческих. В XVI в. обе тенденции были развиты с большей силой: этот век дал наибольшее число канонизованных в истории средневековой Руси святых. Половина святых, канонизованных в 1547/49 гг., жили, в основном, в конце XIV-начале XVI вв., многие святые фактически уже почитались, им были написаны жития. Подавляющее большинство среди них составляли преподобные.
Исследование агиографии и ряда других источников позволяет сказать, что новые монастыри, территории которых считались отвоеванными у нечистой силы праведностью основателей, в православном сознании становились островками концентрированной святости, положительной энергии. Их существование формировало специфическую монастырскую культуру Московской Руси, делая обители необходимыми скрепами миропорядка страны, хранилищами святости основателей, которую необходимо чтить, которой можно словно причаститься при паломничестве. Сакрализация территорий монастырей освятили страну, создали новые стереотипы и образцы поведения.
В памятниках Куликовского цикла, которые создавались в течение всего XV в., лучше всего отразилась эволюция сознания старой и новой Руси: канон воинских повестей требовал большей сакрализации, новых, более идеальных, описаний. В том же комплексе произведений преодолен «исторический пессимизм» послемонгольской эпохи и с большой убежденностью выражена вера авторов в покровительство Русской земле Бога, Богородицы и святых. В воинских повестях XV в., особенно в тех, где речь шла о войне с Ордой, ярко проявился новый обобщенный образец поведения русских людей при защите нового освященного отечества. Образец этот заставлял каждого воина Московской Руси быть «христолюбивым», каждого князя «благоверным», каждого священника благословлять войну за Веру и Отечество.
Естественно, что все перечисленные моменты дополняли один другой, изменяя представления о родном государстве и его задачах. В понятие «Русь» включалась территория Киевской Руси, подчиненная Литве, что диктовалось национальным и династическим единством, не забытым еще единством митрополии, восприятием понятий «Русская земля» и «вера православная» как тождественных. Это определило противостояние с Литвой и Польшей, вышедшее за временные рамки Московского царства. Также в понятие Руси стали включаться новые земли, ранее в состав государства не входившие: северные территории и земли бывшей Орды, что выразилось в титулах русского государя - правителя «Югорского» и «Болгарского». Московская Русь стала перерастать Киевскую в своем национальном составе, что отмечалось в «Повести о Флорентийском соборе», вошедшей в летопись 1479 г., и речи митрополита Симона в 1495 г. И, наконец, было еще одно значение слова «Русь» — мир православия, отличный от мира католицизма и ислама, что стало следствием принятия византийского наследства и первой великодержавной задачи - заботы о судьбах православия и православных народов. Моральное падение «греков» и гибель христианских государств удачно совпали с возвышением Руси. В результате произошло смещение в иерархии ценностей: положительные смыслы и принципы «главного православного государства» переместились на Русь (свой царь, достаточное число святых, идея «вышшего» православия). В итоге к концу XV в. на территории Руси было построено православное государство со своей идеологией, многим отличной от идеологии Киевского периода. Эволюция этого государства и его идеологии продолжалась и далее, однако большинство знаковых событий (венчание Ивана Грозного на царство, Макарьевские соборы, присоединение земель Орды, борьба с Литвой за земли бывшей Киевской Руси, идеологическая борьба с католицизмом, учреждение патриаршества, идеи Третьего Рима и Святой Руси) имели предвестья в XV в. Многие события русской истории XVI в. - продолжение и следствия событий XV в. Результаты XV в. - особенности великорусского народа, его менталитета, отделяющие его от других, в том числе и от украинского с белорусским, где не было своего царя, значительного роста монастырей и святости. Это, так сказать, «коренной» век Московской Руси, сравнимый с притчей о закваске, которой, в данном случае, являются государствообразующие духовные основы народа.
Список сокращений при ссылках на источники и литературу.
АИ - Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. АРГ Архивы. - Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV-начала XVII в. АЕ - Археографический ежегодник.
АСЭИ - Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV-начала XVI в.
БВ - Богословский вестник (Сергиев Посад).
ВВ - Византийский временник.
ВИД - Вспомогательные исторические дисциплины.
ВМЧ - Великии Минеи Четии, собранные митрополитом Всероссийским Макарием.
ВФ - Вопросы философии.
ГВНП - Грамоты Великого Новгорода и Пскова.
ДДГ-Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. ЖМНП - Журнал министерства народного просвещения (Санкт-Петербург). ЗГИХМЗ - Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.
ИВ - Исторический вестник (Санкт-Петербург). J13AK - Летопись занятий Археографической комиссии. ОИ - Отечественная история.
ПДП - Памятники древней письменности и искусства. ПЛ - Памятники старинной русской литературы. ПЛДР - Памятники литературы Древней Руси.
ПДС - Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными.
ПО - Православное обозрение (Москва). ПС - Православный собеседник (Казань). ПСРЛ - Полное собрание русских летописей.
ТОДРЛ - Труды отдела древнерусской литературы Института русской литерату; >ы
Пушкинский Дом) РАН.
РГБ - Российская государственная библиотека.
РИБ Т. 6. — Русская историческая библиотека. Памятники древнерусского канонического права.
РИО Т. 35. - Сборник Русского исторического общества. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским (с 1487 по 1533 год).
РИО Т. 41. - Памятники дипломатических сношений Московского государстил с
Крымской и Ногайской ордами и с Турцией.
РФА - Русский феодальный архив XIV-первой трети XVI века.
ТСЛ - Троице-Сергиева Лавра.
Список научной литературыБайковский, Константин Юрьевич, диссертация по теме "Отечественная история"
1. АИ. Т. 1.-СПб., 1841.-552 с.
2. АРГ. Архивы.-М., 1998.-734 с.
3. АСЭИ. Т. 1. М., 1952. - 804 с.
4. АСЭИ. Т. 2. М., 1958. - 728 с.
5. АСЭИ. Т. 3. М., 1964. - 688 с. 7Г
6. Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. JI., 1971.-276с.
7. Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. — М., 1987. — 440 с.
8. ГВНП. М., Л., 1949. - 408 с.
9. ДДГ. М., Л., 1950. - 586 с.
10. Жизнеописания достопамятных людей земли Русской (Х-ХХ вв.). М., 1992. -336 с.11 .Житие Варлаама Важского//ПО. 1887. - Т. 2. - С. 7-47.
11. Житие Григория Пельшемскаго//ВМЧ. Сентябрь. Дни 25-30. СПб., 1883. -Стб. 2268-2295.
12. Житие Исидора Юрьевского//Н.П. Лихачев. Инока Фомы Слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче//ПДП. № 168. СПб., 1908.-С. 8-9.
13. М.Житие Корнилия Комельского//Городок на Московской дороге: Исторнко-краеведческий сборник. Вологда, 1994. - С. 170-200.
14. Житие и страдание святого преподобного Адриана игумена, Пошехонского чудотворца//Ярославские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1873. № 4. - С. 25-31; № 5. - С. 33-42; № 7. - С. 55-61; № 8. - С. 63-70; № 9. -С. 71-78.
15. Житие Павла Обнорского//ВМЧ. Январь. Тетрадь 2. Дни 6-11. М., 1914. -Стб. 509-558.
16. Житие преподобного Даниила, Переяславского чудотворца. Повесть об обретении мощей и чудеса его. М., 1908. - 134 с.
17. Житие преподобного Ефрема Перекомского//Жития святых Российский церкви, также иверских и славянских, и местночтимых подвижников благочестия. Месяц май. СПб., 1865. - С. 323-335.
18. Житие преподобного Ефросина Псковского (первоначальная редакция)//ПДП. № 173.-СПб., 1902.-94 с.
19. Житие преподобного Иосифа Волоколамского, составленное Савсло, епископом Крутицким. — М., 1865. — 76 с.
20. Житие преподобного Трифона Печенгского, просветителя лопарей//ПС. — 1895. -Май.-С. 89-120.
21. Житие преподобного отца нашего Макария, игумена обители Святой Живоначальной Троицы, яже на Желтых водах. — М., 1913. 40 с.
22. Житие преподобного отца нашего Пафнутия, игумена монастыря Пречиет.ля Богородицы, иже в Боровске. Издание Пафнутиево-Боровского монастыря, 1911.-32с.
23. Житие преподобного отца нашего Саввы, иже над Вишерою рекою жившего//Новгородские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. — 1899.-№7.-С. 449-460.
24. Житие Саввы Сторожевского (по старопечатному изданию XVII в.). — М., 1994. -64 с.
25. Житие святого Исайи, епископа Ростовского//ПС. 1858. - Март. - С. 432-450.
26. Изборник. Сб. произведений литературы Древней Руси. — М., 1969. — 800 с.
27. Илларион, митрополит Киевский. Слово о Законе и Благодати//Руссйая идея/Сост. и авт. встуи. статьи М.А. Маслин. — М., 1992. — С. 18-36.
28. Иосиф Волоцкий. Послание иконописцу. — М., 1994. — 334 с.
29. Иосиф Волоцкий. Просветитель. М., 1993. — 384 с.
30. Книга хожений. Записки русских путешественников XI-XV вв. М., \9Ь \.' — 448 с.
31. Курбский A.M. Историл Иоанна Грозного//Сказапня князя Курбского. С. vj., 1842.-С. 3-147.
32. ЛЗАК за 1864 г. Вып. 3. Приложения. СПб., 1865. - С. 29-37.
33. ПДС. Т. 1. СПб., 1851. - 1620 стб.
34. ПЛДР. XIV-середина XV века. М., 1981. - 606 с.
35. ПЛДР. Вторая половина XV века. М., 1982. - 688 с.
36. ПЛДР. Конец XV-первая половина XVI века. М:, 1984. - 768 с.
37. Повесть о Евфимии, архиепископе Новгородско:.://ПЛ. Вып. 4. СПб., 1862. -С. 15-26.
38. Повесть о Борисо-Глебском монастыре, колькпх лет и како бысть е'о начало//Ярославскиеепархиальные ведомости. Ча.ггь неофициальная. 18'. •. — № 3. - С. 17-21.
39. ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. — 496 с.
40. ПСРЛ. Т. 3. Новгородские летописи. СПб., 1841. - 308 с.
41. ПСРЛ. Т. 4. Новгородская четвертая летопись. Вын. 2. Л., 1925. - 536 с.
42. ПСРЛ. Т. 5. Псковские и Софийские летописи. СПб., 1851.-280 с.
43. ПСРЛ. Т. 6. Софийские'летописи. СПб., 1853. - 360 с.
44. ПСРЛ. Т. 11-12. Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1965. - 52( с.
45. ПСРЛ. Т. 15. Рогожский летописец. Вып. 1. Пг., 1922. - 186 стб.
46. ПСРЛ. Т. 16. Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. СГ 0., 1889.-320 с.
47. ПСРЛ. Т. 18. Симеоновская летопись. СПб., 1913.-316 с.
48. ПСРЛ. Т. 22. Русский хронограф редакции 1512 года. Ч. 1.-СП6., 1911.-570 с.
49. ПСРЛ. Т. 23. Ермолинская летопись. СПб., 1910.-244 с.
50. ПСРЛ. Т. 24. Типографская летопись. Пг., 1921.-272 с.
51. ПСРЛ. Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М., Л., 1949. - 464 с.
52. ПСРЛ. Т. 26. Вологодско-Пермская летопись. М., Л., 1959. - 416 с.
53. ПСРЛ. Т. 27. Никаноровская летопись. Сокращенные летописные своды конца XV в.-М., Л., 1962.-418 с.
54. ПСРЛ. Т. 28. Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). М., Л., 1963. - 412 с.
55. ПСРЛ. Т. 37. Устюжские и вологодские летописи. Л., 1982. - 228 с.
56. ПСРЛ. Т. 39. Софийская первая летопись по списку И.Н. Царского. -М., 1994. -208 с.
57. Послания Иосифа Волоцкого. М., Л., 1959. - 392 с.
58. Приселков М.Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М., Л., 1950. - 514 с.
59. РИБ. Т. 6. СПб., 1908. - 1764 стб.
60. РФА. Ч. 1.-М., 1986.-219 с.
61. РФА. Ч. 2. М., 1987. - С. 221-458.
62. РФА. Ч. 3. М., 1987. - С. 459-696.
63. РИО. Т. 35. СПб., 1882. - 870 с.
64. РИО. Т. 41. СПб., 1884. - 558 с.
65. Сказания Паисия Ярославова//ПС. 1861. - 4.1. - С. 197-216.
66. Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. - 424 с.69.«Собрание на лихоимцев» — неизданный памятник русской публицисп:М1 концаXV в.//ТОДРЛ. Т. 21. -М., Л., 1965.-С. 132-146.
67. Судебники XV-XVI веков. М., Л., 1952. - 620 с.
68. Тверская летопись//ПСРЛ. Т. 15. Рогожский летописец. Тверской сборник. — М., 2000.-Стб. 217-540.1. Архивные материалы.
69. Житие Александра Куштского. РГБ. Ф. 310, собрание В.М. Ундольского. № 1105.-19 л.
70. Житие Александра Ошевенского. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 695. - Л. 216-237.
71. Житие Арсения Комельского. РГБ. Ф. 354, Вологодское собрание. № 65. - Л. 22-58.
72. Житие Григория и Кассиана Авнежских. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 635. -Л. 39-110.
73. Житие Дионисия Глушицкого. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 692. - Л. 58!-621.
74. Житие Макария Колязинского. РГБ. Ф. 304, собрание TCJ1. № 682. - Л. 463529.
75. Житие Сергия Обнорского. РГБ. Ф. 310, собрание В.М. Ундольского. № 369. -Л. 102-145.
76. Житие Стефана Махрищского. РГБ. Ф. 304, собрание ТСЛ. № 692. - Л. 707728.1. Литература.
77. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. - 240 с.
78. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989. - 220 с.
79. Базилевич К.В. Внешняя политика русского централизованного государства. Вторая половина XV века. — М., 1952. 544 с.
80. Банковский К.Ю. Василий II и Иван III во главе архиерейских соборов//Наше Отечество. Страницы истории: Сб. науч. ст./МГОУ. Вып. 1. М., 2002. - С. 1623.
81. Байковский К.Ю. Московские государи и церковь во второй половине XV века//Гуманитарные науки на рубеже веков. Материалы Межвузовской научной конференции. Москва, МФЮА, 2001.-М., 2001.-С.10-13.
82. Байковский К.Ю. Кто молился за Василия Темного?//Исторические чтения КГПИ. Вып. 2. Коломна, 2003. - С. 24-30.
83. Байковский К.Ю. Официальный титул русских государей во второй половине XV века//Исторические чтения КГПИ. Вып. 1. Коломна, 2002. - С. 33-39.
84. Байковский К.Ю. Природа в житиях святых Русской Фиваиды//Русское Средневековье. 2000-2001 годы. Источники. М., 2002. - С. 23-39.
85. Барсов Е.В. Древнерусские памятники священного венчания царей на царство в связи с греческими их оригиналами. М., 1883. - 160 с.
86. Барсов Т.В. Константинопольский патриарх и его власть над Русской церковью. СПб., 1878. - 584 с.91 .Безобразов В.П. Византийский царь на московском престоле//ИВ. 1889. - № 5.-С. 305-321.
87. Белоброва О.А. Посольство константинопольского патриарха Филофея к Сергию Радонежскому//Сообщения ЗГИХМЗ. Вып. 2. Загорск, 1958. - С. 1218.
88. Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. - 644 с.
89. Борисов Н.С. И свеча бы не угасла.: Исторический портрет Сергия Радонежского. М., 1990.-301 с.
90. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV-XV веков. М., 1986.-208 с.
91. Булахов М.Г. Московский летописный свод конца XV века как памятник русского литературного языка//Начальный этап формирования русского национального языка. JL, 1961. - С.48-63.
92. Бурсон А.Е. Чин поставления на великое княжение Дмитрия-внука и проб.: ;ма византийского идейно-политического наследия в конце XV-начале XVI в.//ВВ. 1997. - Т.57(82). - С. 110-129.
93. Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977. — 200 с.
94. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII века. -М., 1992. — 637 с.
95. Васильев В. История канонизации русских святых. М., 1893. - 256 с.
96. Вернадский Г.В. Византийские учения о власти царя и патриарха//Сб. ст., посвященный памяти Н.П. Кондакова. Прага, 1926. — С. 143-154.
97. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, М., 1997. - 480 с.
98. Вернадский Г.В. Россия в средние века. — Тверь, М., 1997. — 352 с.
99. Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга СевероВосточной Руси ХН-начала XV веков. М., 1980. - 552 с.
100. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской церкви. М., 1903.-600 с.
101. Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Т. 2. Первая половина тог.:;;. -М., 1997.-920 с.
102. Голубинский Е.Е. История Русской церкви. Т. 2. Вторая половина тол:л. -М., 1997.-616 с.
103. Горский А.А. «Всего еси исполнена земля русская.»: Личности и ментальность русского средневековья. Очерки. М., 2001. - 176 с.
104. Горский А.А. Москьа и Орда. М., 2000. - 214 с.
105. Горский А.А. Московско-ордынский конфликт начала 80-х годов XIV в^-.:а: причины, особенности, результаты//ОИ. 1998. - № 4. - С. 15-24.
106. Горский А.В. О священнодействии венча:п.я и помазания царей па царство//Прибавлени;; к изданию творений святых отцов в русском переводе. Ч. 29.-М., 1882.-С. 117-151.
107. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII веков. М., 1990. -288 с.
108. Громов М.Н., Мильков В.В. Идейные течения древнерусской мысли. — Cl^'5., 2001.-960 с.
109. Громов М.Н. Структура и типология русской средневековой философи:!. — М., 1997.-289 с.
110. Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. - 336 с.
111. Дмитриев Л.А. Житийные повести русского севера как памятн,.:.и литературы XIII-XVII вв. Л., 1973. - 304 с. '
112. Евсеев И.Е. Геннадневская Библия 1499 года//Альфа и омега. 1999. 2(20). - С. 59-79.
113. Егоров А.А. Митрополит Киприан и его время: к вопросу о политическом исихазме/Ютечествепная философская мысль XI-XVII вв. и греческая культура. -Киев, 1991.-С. 219-229.
114. Ешевский С.В. Сочинения. Часть III. -М., 1870. 714 с.
115. Зимин А.А. Витязь на распутье: Феодальная война в России XV в. — М., 1991.-286 с.
116. Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий: (Очерки социально-политической истории). М., 1982. - 333 с.
117. Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. — М., 2002.-944 с.
118. Казакова Н.А. Грамота Ивана III папе Александру VI//AE за 1973 г. — М., 1974. -С.26-28.
119. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. V-VIII. Калуга, 1993. - 576 с.
120. Карташев А.В. Очерки по истории Русской церкви. Т. 1. М., 1992. — 686 с.
121. Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV-первой половины XVI в. М., 1967. - 392 с.
122. Каштанов С.М. Церковная юрисдикция в конце XIV-начале XVI в.//Церкозь, общество и государство в феодальной России. М., 1990. — С. 151-163.
123. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. - 368 с.
124. Клибанов А.И. К характеристике мировоззрения Андрея Рублева//Андр~й Рублев и его эпоха/Сб. ст. под ред. М.В. Алпатова. М., 1974. - С. 62-102.
125. Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского. М., 1998. -568 с.
126. Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV-XVI веков. М., 2001. - 488 с.
127. Клосс Б.М., Назаров В.Д. Рассказы о ликвидации ордынского ига на Руси в летописании конца XV в.//Древнерусское искусство XIV-XV вв. М., 1984. -С. 283-313.
128. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. -М., 1988.-512 с.
129. Ключевский В.О. Значение преподобного Сергия для русского народа и государства//В.О. Ключевский. Исторические портреты. Деятели исторический мысли. М., 1990. - С. 63-76.
130. Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 2. Курс русской истории. Ч. 2. М., 1987.-447 с.
131. Ключевский В.О. Сочипсиия. В 9 т. Т. 7. Специальные курсы (продолжение). М., 1989. - 508 с.lf>l- • .м
132. Князький И.О. Высшая власть в Киевской и Московской Руси//Славяне и их соседи. Имперская идея в странах Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы. Тезисы XIV конференции. М., 1995. — С.61-62.
133. Князький И.О. Русь и Степь. М., 1996. - 134 с.
134. Коноплев Н. Святые Вологодского края. М., 1895. - 132 с.
135. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993. - 431 с.
136. Костомаров Н.И. Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова, Вятки). М., 1994.-544 с.
137. Кудрявцев М.П. Москва Третий Рим. Историко-градостроительное исследование. - М., 1994. - 256 с.
138. Кучкин В.А. Из литературного наследия Пахомия Серба//Источникп и историография славянского средневековья. Сб. статей и материалов. — М., 1967.-С. 242-257.
139. Лакиер А. История титула государей в России//ЖМНП. 1847. - Ч. LVI. -С.81-156.
140. Лихачев Д.С. Вступительное слово, произнесенное на открытии конференции «Монастырская культура: Восток и Запад» 2 июня 1998 года//Монастырская культура: Восток и Запад. СПб., 1999. - С.5-6.
141. Лопарев X. Житие преподобного Стефана Комельского. СПб., 1896. - 24 с.
142. Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах/ЛГруды по знаковым система. Учен, записки Тартуского Гос. унив. Вып. 181. Т. 2.-Тарту, 1965. С. 210-216.
143. Лурье Я.С. Вопрос о великокняжеском титуле в начале феодальной войны XV в.//Россия на путях централизации. Сб. ст. М., 1982. - С. 147-152.
144. Лурье Я.С. Две истории Руси XV века. Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. - 240 с.
145. Лурье Я.С. Летописные известия о победе над Новгородом в 1471 г.У/ВИД. Т.22.-Л., 1991.-С. 144-157.
146. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. Кн. 3. М., 1995. - 704 с.
147. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 1. М., 1996. - 592 с.
148. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской церкви. Кн. 4. Ч. 2. М., 1996. - 440 с.
149. Медведев И.П. Империя и суверенитет в средние века (На примере Византии и некоторых сопредельных государству/Проблемы историимеждународных отношений. Сб. ст. памяти академика Е.В. Тарле. — Л., 1972. — С. 412-424.
150. Мейендорф И.Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в.//ТОДРЛ. Т. 29.—Л., 1974. -С. 291-305.
151. Мещерский Н.А. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод//ВВ. 1953. - Т. 7. - С. 72-86.
152. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1.-М., 1993.-528 с.
153. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2. Ч. 1. —М., 1994. — 416 с.
154. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3. -М., 1995.-480 с.
155. Милютин В.А. О недвижимых имуществах духовенства в России. — М., 1862.-572 с.
156. Минея. Июль. Ч. 1.-М., 1988. С. 339-359.
157. Мир житий. Сборник материалов конференции (Москва, 3-5 октября 2001 г.). М., 2002.-304 с.
158. Мировосприятие и самосознание русского общества. Вып. 2. Царь и царство в русском общественном самосознании. М., 1999. - 180 с.
159. Монашество и монастыри в России. Х-ХХ века: Исторические очерки. М., 2002.-346 с.
160. Муравьев А.Н. Русская Фиваида на севере. М., 1999. - 528 с.
161. Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси)//Альманах «Арабески истории». Вып. 3-4. «Русский разлив». Т. 1. -М., б.г.-С. 64-263.
162. Некрасов И.С. Зарождение национальной литературы в северной Руси. Ч. 1. -Одесса, 1870.-222 с.
163. Оболенский Д. Связи между Византией и Русью в XI-XV вв. XIII Международный конгресс исторических наук. Москва, 16-23 августа 1970 г. Отд. оттиск. М., 1970. - 17 с.
164. Одесский М.П. Москва град святого Петра. Столичный миф в русской литературе XIV-XVII вв.//Москва и «московский текст» русской культуры. Сб. ст.-М., 1998.-С. 9-25.
165. Одесский М.П. Поэтика власти на Древней Руси//Древняя Русь. -2000. -№ 1.-С. 4-10.
166. Острогорский Г. А. Эволюция византийского обряда коронованияУ/Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Сб. ст. в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. - С. 33-42.
167. Павлов А.С. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878. - 210 с.
168. Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. — 336 с.
169. Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян (XI-XV в.). М., 1875. - 418 с.
170. Попов К. Чин священного коронования//БВ. 1896. - № 4. - С. 59-72; № ?. -С. 173-196.
171. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993. -309 с.
172. Преподобный Авраамий Городецкий, Чухломской и Галичский чудотворец, и созданный им Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий монастырь.-М., 1996.- 160 с.
173. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII-XV столетий. Пг., 1918. - 460 с.
174. Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. СПб., 1996. -326 с.
175. Прохоров Г.М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Апва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаиг) в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры с XIV по XVII в./ЛГОДРЛ. Т. 28. Л., 1974.-С. 317-324.
176. Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV-XV веков. -Л., 1987.-296 с.
177. Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. СПб., 2000. - 480 с.
178. Рим, Константинополь, Москва: Сравнительно-историческое исследованле центров идеологии и культуры до XVII в. VI Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 28-30 ма;. -М., 1997.-378 с.
179. Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. IX Международный Семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». Москва, 29-31 мая 1989 г. М., 1995. - 356 с.
180. Савва В.И. Московские цари и византийские василевсы. К вопросу о влиянии Византии на образование идеи царской власти московских госуда.^ л. -Харьков, 1901.-400 с.
181. Савич А.А. Вклады й вкладчики в северно-русских монастырях XV-XVII и. Отд. оттиск из «Учен. Записок Перм. Гос. унив». Вып. 1. Пермь, 1929. - С. 67-96.
182. Савич А.А. Монастырское землевладение на русском севере XIV-XV1I и. Отд. оттиск из «Учен. Записок Перм. Гос. унив». Вып. 2. Пермь, 1930. - С. 153-299.
183. Святитель Стефан Пермский. СПб., 1995. - 280 с.
184. Синицына Н.В. Нестяжательство и русская православная церковь в XIV-XV вв.//Религии мира. История и современность. Ежегодник. М., 1983. - С.76-101.
185. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневеко:,.л концепции (XV-XVII вв.). М., 1998. - 416 с.
186. Скрынников Р.Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX-XV1I вв. -СПб., 2000.-463 с.
187. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI-первая половина XIV в.).-Л., 1987.-496 с.
188. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина X1V-XVI вв.). Ч. 1. Л., 1988. - 520 с.
189. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI вв.). Ч. 2. Л., 1989. - 528 с.
190. Сметанин В.А. Византийское общество XIII-XV вв. (по данным эпистолографии). Свердловск, 1987. - 288 с.
191. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн: 2. Т. 3-4. История России с древнейших времен. М., 1988. - 765 с.
192. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 3. Т. 5-6. История России с древнейших времен. М., 1989. - 783 с.
193. Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877. - 1056 стб.
194. Теребихин Н.М. Сакральная география Русского Севера (Религиозно-мифологическое пространство северно-русской культуры). Архангельск, 1993.-224 с.
195. Тиханюк И.А. «Изложение пасхалии» московского митрополита Зосимы//Исследования по источниковедению истории СССР XIII-XVIII вв. Сб. ст.-М., 1986.-С. 45-61.
196. Тихомиров М.Н. Русская культура X-XVII вв. М., 1968. - 447 с.
197. Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. - 384 с.
198. Толстой А.К. Стихотворения. Царь Федор Иоаннович. Л., 1958. - 620 с.
199. Толстой М.В. История Русской церкви. М., 1991. - 736 с.
200. Толстой М.В. Патерик Свято-Троицкой Сергиевой Лавры или происхождение северо-восточного русского иночества из обители преподобного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца. М., 1892.-54 с.
201. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 2. Три века христианства на Руси (XII-XIV вв.). М., 1998. - 864 с.
202. Троице-Сергиева Лавра. Художественные памятники. М., 1968. - 188 с.
203. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. Новосибирск, 1991. - 112 с.
204. Ужанков А.Н. Эволюция пейзажа в русской литературе XI-первой трети XVIII вв.//Древнерусская литература. Изображение природы и человека. М., 1995.-С. 19-88.
205. Украинская Т.Н. Житие Дмитрия Прилуцкого памятник вологодской агиографии//Древлехранилище Пушкинского Дома. Материалы н исследования. - Л., 1990. - С.7-53.
206. Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. - 608 с.
207. Успенский Б.А. Литургический статус царя в Русской церкви: приобщение Св. Тайнам (историко-литургический этюд)//Российский Православный университет ап. Иоанна Богослова. Учен, записки. Вып. 2. -М., 1996. С. 130-V 170.
208. Успенский Б.А. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000. - 144 с.
209. Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998. - 680 с.
210. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви.-Коломна, 1997. -656 с.
211. Федотов Г.П. Православие и историческая критика//ВФ. 1990. — № 8. — С. 146-153.
212. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. - 269 с.
213. Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). -М., 1991.- 182 с.
214. Федотов Г.П. Россия и свобода//Г.П. Федотов. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х тт. Т. 2. — СПб., 1992.-С. 276-303.
215. Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации XI-XVI вв. — М., 1986.-206 с.
216. Хорошкевич А.Л. Итальянская хроника XV в. о Казани//Казанский Т пединститут. Учен, записки. Из истории Татарии. Сборник 5.-Казань, 1973.1. С. 114-117.
217. Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV-начала XVI в. М., 1980. - 296 с.
218. Хоулетт Р. Свидетельство архиепископа Геннадия о ереси «новгородских еретиков жидовская мудръствующих»//ТОДРЛ. Т. 46. СПб., 1993. - С. 53-73.
219. Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960. - 900 с.
220. Шахматов А.А. О так называемой ростовской летописи. — М., 1904. — 172 с.
221. Шмелев И.С. Богомолье. М., 2000. - С. 3-213.
222. Н?" 232. Шляпкин И.А. Святой Питирим, епископ Пермский//ЖМНП. 1894. - Ч. 292.-С. 135-145.
223. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. - 448 с.1.l184
224. Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. -428 с.
225. Яхонтов И.И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881. - 378 с.