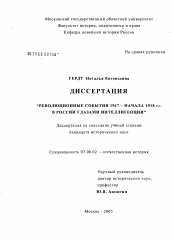автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Революционные события 1917 - начала 1918 гг. в России глазами интеллигенции
Полный текст автореферата диссертации по теме "Революционные события 1917 - начала 1918 гг. в России глазами интеллигенции"
На правах рукописи.
ГЕРДТ Наталья Евгеньевна
Революционные события 1917-начала 1918 гг.
в России глазами интеллигенции.
Специальность 07.00.02 - Отечественная история
Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук
Москва, 2005
Работа выполнена на кафедре отечественной истории России Московского государственного областного университета.
Научный руководитель: доктор исторических наук,
профессор Аксютин Ю.В.
Официальные оппоненты: доктор исторических наук,
профессор Чернобаев A.A.
кандидат исторических наук, доцент Репников A.B.
Ведущая организация: Университет Российской
академии образования.
Защита состоится «_7_» декабря 2005 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 212.155.05 при Московском государственном областном университете по адресу: г. Москва, ул. Энгельса, д. 21 а, ауд. 305.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного областного университета по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 10 а.
Автореферат разослан «_» ноября 2005 года.
Учёный секретарь диссертационного совета кандидат исторических наук, доцент
Е.Б.Никитаева.
ш^гь
2.0 6 .35"
Общая характеристика работы.
Революции, коренным образом меняя курс исторического процесса и ускоряя его темпы, прерывая его постепенность, означая качественный скачок в его развитии, всегда оставляли за собой такой впечатляющий след и такую историческую память, что и столетия спустя привлекают к себе внимание как простых людей, так и исследователей. Даже когда за давностью лет утихают политические споры, то и дело обнаруживаются новые факты и явления, по-новому высвечивающие или отдельные грани, или, порой, саму революцию. Так что в её изучении и осмыслении навряд ли когда-нибудь можно будет поставить точку.
Любой политический переворот вызывает неодинаковые суждения в обществе, раскалывает его на тех, кто ждёт от него чего-то нового, и тех, кто не желает расставаться с привычным. И этот раскол тем сильнее, чем более этот переворот сопровождается заметными социально-экономическими переменами, вызывая их, давая им значительный простор, или, напротив, направлен на то, чтобы ввести их в определённые рамки, а может быть и свернуть.
У каждой революции есть свои объективные и субъективна-? предпосылки. К последним историки, политологи и социояо1к относят деятельность определённых категорий людей, которые, зскрыря' противоречия в развитии экономики, общества и государства, покс зывают, что в этих противоречиях мешает дальнейшему развитию подлежит устранению, а порою и намечают пути их устранения. Со временем пропагандируемые ими идеи овладевают массами и в той или иной мере начинают воплощаться в жизнь - путём ли реформ, если в их необходимости убеждаются и правящие круги, либо путём революции, если верхи до конца сопротивляются назревшим переменам.
В России такая категория людей получила название "интеллигенция". Именно она, особенно та её часть, которая именовалась художественной (поэты, писатели, журналисты, художники, музыканты, критики и т.п.), на протяжении многих десятилетий обличала абсолютизм, выступала защитником народа от притеснений и эксплуатации, требовала скорейших политических, социальных и экономических преобразований. Именно в её среде рождались самые радикальные революционные идеи. Именно из её рядов раздавались призывы к топору.
Не вся интеллигенция противостояла власти. Были Державин, Жуковский, и Тютчев, честно служившие ей. А разве не числился при дворе камер-юнкер Пушкин? Были и такие крупные чиновники, как Грибоедов и Гязттмкоп-ТТТеприн. у котпр^у птиптрди» с прави-
тельством не были такими уж гла з^ИШ^АДИДООДЗДЧМд у служила их
БИБЛИОТЕКА
сатира, ни тогда, ни сейчас ни у кого сомнений не вызывает. Они тоже внесли немалый вклад в подтачивание устоев царизма.
И вот желаемое стало явью, самодержавие пало под натиском рабочих и солдат. Сама интеллигенция наблюдала за переворотом из окон своих квартир. Но она не без основания полагала, что в этом есть и её немалая заслуга.
- Не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила теперь на деле то, что проповедуется русской литературой уже более 100 лет, - в таких словах взгляды русских писателей на свою роль в подготовке свержения самодержавия выразил профессор Петроградского университета С.А. Венгеров при обсуждении ими проекта приветствия в адрес тех, кто эту революцию совершил1.
Но, как это часто бывает в истории, уже первые шаги начавшегося в Феврале 1917 года революционного процесса вызвали у тех же самых литераторов самые различные отклики. И чем дальше развивался этот процесс, тем заметнее становилась разница во взглядах на него. Октябрь 1917 года вызвал в ней новый раскол: одни приветствовали его, другие осуждали, но и среди этих последних не было единства, так как одна часть их стала звать к сопротивлению и пытаться организовать его, а другая посчитала такие действия неконструктивными и по самым разным причинам и поводам сочла для себя возможным пойти на сотрудничество с новой властью.
То, что всё это во многом повторилось спустя три четверти столетия во время и после краха СССР, говорит о необыкновенной актуальности избранной темы.
Объектом данного исследования является российская интеллигенция того времени во всех её ипостасях.
Но при изучении истории интеллигенции сразу возникает вопрос о понятии "интеллигенция". Дискуссии на эту тему ведутся давно.
Термин "интеллигенция" был введён в обиход писателем П.Д. Боборыкиным ещё в 60-е годы XIX века и из русского перешёл в другие языки. Вначале им обозначались вообще образованные люди. Такого понимания интеллигенции придерживался и В.И. Ленин. Словами "интеллигент", "интеллигенция" им переводились "немецкие выражения Literat, Literatentum, обнимающие не только литераторов, а всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker, как говорят англичане) в отличие от представителей физического труда"2. Он считал этих людей классовой прослойкой, обслуживающей интересы тех классов, к которым она примыкала по своему
1 Декларация петроградских писателей. И Русские ведомости. 11 03.17.Xs56. С. 3
2 Ленин В.И Шаг вперед, два шага назад (Кризис в нашей партии). И Его же. Полное собрание сочинений Т. 8. С 309 Примечание 1. '
имущественному положению. Исходя из этого, он и строил политику в её отношении.
Но уже тогда, во время первой русской революции, многие начали рассматривать интеллигенцию в более узком и специфически русском смысле. Р.В. Иванов-Разумник в своей книге "История русской общественной мысли" определял интеллигенцию как социологически - несословную, внеклассовую, а этически - антимещанскую преемственную группу, характеризуемую "творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности"1. Эту трактовку интеллигенции, опирающуюся на народническую "субъективную социологию", марксистская критика нашла идеалистической. Г.В. Плеханов в большой статье ("Идеология мещанина нашего времени") протестовал против подобной трактовки понятий интеллигенции и мещанства, как внесословных и внеклассовых, нротив превращения социологических отношений в этические, отвлечённые от конкретной почвы классовых отношений"2.
По словам H.A. Бердяева, интеллигенция в России, в отличие от интеллектуалов на Западе, всегда была "идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой", образовавшейся из разных социальных классов, сначала по преимуществу из более культурной части дворянства, позже из сыновей священников и диаконов, из мелких чиновников, из мещан и, после освобождения, из крестьян. Она скорее напоминала "монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп"3.
Д.С. Мережковский в "Грядущем Хаме" также отмечал, что "сила русской интеллигенции не в intellectus'e, не в уме, а в сердце и совести". А З.Н. Гиппиус уточняла: "Русская интеллигенция - это класс, или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нём совершалась какая-то культурная работа. Он сыграл свою, очень серьёзную, историческую роль". Ещё одной особенностью этого слоя было то, что разделяли его вовсе не профессиональные интересы. Наоборот, "деятели самых разных поприщ -учёные, адвокаты, врачи, литераторы, поэты - все они так или иначе
1 Иванов-Разумник. История русской общественной мысли Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века. Т. 1.-СПб., 1907. С. 10.
2 Плеханов Г.В. Идеология мешанина нашего времени. // Сочинения Т. XTV. - М., 1925. С. 259 - 344.
'Бердяев Н А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: «Наука»,1990. С.17.
оказывались причастными политике"1. А так как политика, её определение, выработка решений и их реализация в России столетиями были монополизированы царём и его аппаратом, то любое вмешательство в политические дела людей посторонних рассматривалось властями как весьма предосудительное поведение. Уже в силу одного этого, грамотный человек, интересующийся политическими вопросами и проявляющий в этом деле хоть какую-то активность, считался ненадёжным. Само словосочетание "Он политик!" выглядело в нашей стране вплоть до самого последнего времени как выражение подозрения и неодобрения. Вот почему интеллигенция в дореволюционной "была объединена общим политическим, очень важным, отрицанием: отрицанием самодержавного режима"2.
После революции 1905-1907 годов самодержавие вынуждено было пойти на уступки конституционного плана и появился зачаток парламентаризма в виде Государственной Думы с политическими фракциями в ней. Народились и "политическими деятели". Но появление этой специальности ничего, в сущности, не изменило. Даже самый видный "политический деятель" оставался тем же интеллигентом, в том же кругу. Правда, внутри интеллигенции усилились партийные раздоры, но общее неприятие самодержавия осталось. С падением же царизма это самое общее неприятие исчезло, и партийные раздоры, как уже упоминалось выше, превратили некогда единое социальное явление в конгломерат ведущих между собою острую борьбу групп и группировок, выражающих разные, а порою и взаимоисключающие взгляды на идейно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие.
Это дало в дальнейшем возможность большевикам делить интеллигенцию на буржуазную и социалистическую. И хотя и в советское время были такие, кто, вроде философа и филолога А.Ф. Лосева, считал интеллигентами тех, кто "блюдёт интересы человеческого благоденствия" и стремится к "переделыванию несовершенств мира"3, в целом же она продолжала рассматриваться как "общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры"4. Мало чем отличаются и современные определения этого термина5. Вполне приемлемым считает его и автор настоящей диссертации.
Правда, в иностранных языках слово "интеллигенция" сохраняет определённую русскую специфику. Своеобразие русской интелли-
1 Гиппиус 3. История моего дневника. // Е4 же. Петербургский дневник. - М.: "Сов.писатель" и "Олимп", 1991 С. 7.
2 Там же.
3См : Советская культура. 1.01.89.
4 Интеллигенция. // Большая советская энциклопедия Изд. 3-е. Т 10. - М: "Сов энциклопедия", 1972. С. 311.
5См • Социологический энциклопедический словарь. / Под ред. Г.В. Осипова - М • «Ин-фра»-«Норыа», 1998;
генции как феномена национальной русской культуры, не имеющего буквальных аналогов среди "интеллектуалов" Западной Европы, сегодня является общепризнанным (во всех словарях мира слово "интеллигенция" в близком нам смысле употребляется с пометкой "рус." как специфическое образование русской истории, национальной общественной жизни). Так, краткий Оксфордский словарь определяет интеллигенцию как "ту часть народа (в особенности русского), которая стремиться к независимому мышлению"1.
Сегодня такого, не формального (наличие диплома об образовании), а содержательного, подхода, учитывающего специфические особенности мышления и социальной психологии, нравственно-этические и мировоззренческие черты этой группы населения, придерживаются и многие отечественные обществоведы2.
Разнообразие дефиниций "интеллигенция" нельзя объяснить только субъективными склонностями разных авторов или неразработанностью вопроса. Оно обусловлено сложностью, многогранностью и динамичностью этой группы. По-видимому, эти два подхода, две составляющие понятия "интеллигенция" нужно не разводить, а пытаться сочетать, признав двуединую природу интеллигенции, которая представляет собой и социальную, и культурную общность.
От определения понятия интеллигенции зависит и определение её численности. Если включать в неё чиновничество и офицерство, то можно насчитать 1,5 миллиона человек3. Если отказаться принимать в расчёт лиц, профессии которых нельзя отнести к традиционно интеллигентским, то эта цифра уменьшается до 1 млн.4 Есть среди исследователей и мнения о необходимости уменьшить эту цифру до 500 тысяч: её составляли 195 тысяч учителей, 127 тысяч студентов, 33 тысячи врачей (в том числе около 14 тысяч, служивших в то время в армии), по 20 - 30 тысяч адвокатов, инженеров и агрономов, 15 тысяч деятелей литературы и искусства, 10 тысяч научных работников (6 тысяч - научно-педагогический персонал высшей школы и 4 тысячи - работники научно-исследовательских учреждений)5.
История интеллигенции в период кардинальных революционных перемен, её отношение к ним, её взаимоотношения с различными
1 Цит по: Там же.
2 См Николаев H П Выстрел в будущее- Заметки о судьбах интеллигенции и гуманитарном образовании//Вестник высшей школы Сер б История.1989 fis 9 С 20, Розов M А. Рассуждения об интеллигентности, или Пророчество Ваги-Грана//Там же. С 12; Севастьянов А Интеллигенция: что впереди' //Литературная газета 21.09.88; Смоляков Л.Я. Об интеллигенции и интеллигентности // Коммунист. 1988. №16. С.72.
3 См • Ерман Л К Ленин о роли интеллигенции в демократической и социалистической революции, в строительстве социализма и коммунизма. - М., 1970. С. 13.
4 См : Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. - М.: "Наука", 1972. С 69.
5 См ■ Знаменский О H Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль - октябрь 1917г.) - Л.. "Наука", 1988. С. 8-9.
политическими силами и властью и являются предметом данного исследования.
Степень научной разработки проблемы. История российской интеллигенции в переломное для страны время 1917-1918 годов постоянно вызывала интерес у отечественных и зарубежных учёных. Существующая историография проблемы представлена самой разнообразной литературой. Начала она складываться сразу же после революции.
Тему "Интеллигенция и революция" затрагивали в той или иной мере уже современники, а порой и участники тех событий, причём, как те, кто рассматривал Октябрь в качестве дальнейшего продолжения Февраля и активно сотрудничал с советской властью, так и те, кто увидел в большевистском перевороте откат или даже своеобразную контрреволюцию.
В 20-е годы появился ряд работ, в которых с большевистских позиций характеризовалась социальная сущность интеллигенции, её роль и место в революции и строительстве нового общества1. В целом большинство работ первого периода носило публицистический характер. Их главной задачей было дать срочный ответ на актуальные в тот момент вопросы жизни. Ленинская политика по отношению к интеллигенции как носителю специальных знаний и опыта, исходящая из необходимости непременно поставить их на службу социализма, раскрывалась в книгах, статьях и речах тогдашнего наркома просвещения A.B. Луначарского2. Много внимания проблеме отношений между советской властью и интеллигенцией уделял и нарком по военным и морским делам Л.Д. Троцкий. Причём, если на партийных форумах он говорил преимущественно о военных специалистах, то в своей публицистике - о художественной интеллигенции3. О перестройке аппарата, "чтобы в возможно более допустимой степени вовсе обходиться без функций, для которых необходим среднеинтеллигентский состав", писал Ю. Ларин4.
Взаимоотношения интеллигенции и советской власти продолжали рассматриваться и в последующие десятилетия 30-х, 40-х и первой половины 50-х годов. Но так как в "Кратком курсе истории ВКП(б)" интеллигенция оценивалась как "служанка буржуазии" и контрреволюционная сила, то и работы того периода в основном
1 См • Гиринис Е Ленин о специалистах науки и техники - Пг, 1924; Полонский В. Заметки об интеллигенции //Красная новь 1924 № 1; Войтоловский Л Ленин об интеллигенции //Печать и революция 1925 №2, Вольфсон С Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. - М -Л, 1926; Ледер В.Л Специалисты и их роль на производстве. - М, 1926; Толстопятое В. Специалисты в производстве.-Л., 1926;СурковИ Специалисты и рабочие на производстве - М , 1927; Этчин И Партия и специалисты. - М , 1928
2 См • Луначарский А В. Смена вех интеллигентской общественности. // Культура и жизнь. 1922. № 1, Он же Об интеллигенции -М., 1923; Он же. Интеллигенция в прошлом, настоящем и будущем -М, 1924; Он же. Интеллигенция и ей место в социалистическом строительстве // Революция и культура 1927 № 1 и др
3 См Троцкий Л Д. Литература и революция: Статьи, опубликованные в "Правде" в 1923-1924 годах // Вопросы литературы. 1989 № 8. С. 183-228. //Театр. 1989. № 8. С. 82 -102 и др..
4 Ларин Ю. Интеллигенция и совета- хозяйство, буржуазия, госаппарат - М , [б г ] С 74
комментировали положения этой книги и общепринятую на тот момент схему: низы - друзья, середина - колеблющиеся, верхи - враги большевиков, да и эта проблема затрагивалась в самом общем плане, без привлечения конкретного исторического материала. Акцент делался главным образом на саботаже и "вредительстве", другие важные и интересные вопросы оставались в стороне1. Наиболее характерной в этом плане стала появившаяся в 1953 году работа "О роли интеллигенции в советском обществе", автор которой М.А. Процько писал, что "буржуазная интеллигенция" открыто выступила против советской власти, используя свои знания для борьбы против социалистического строительства2.
Заметные изменения в изучении темы интеллигенции и революции стали происходить с середины 50-х годов. Отказ от отдельных элементов сталинской схемы взаимоотношений интеллигенции с советской властью сопровождался складыванием новой концепции истории интеллигенции, которая была общепризнанной до конца 80-х годов. Её суть состояла в том, что интеллигенция была вовлечена в строительство нового социалистического общества и в ходе этого строительства прошла перевоспитание и слилась с новой, рабоче-крестьянской интеллигенцией. При этом историки исходили из ставшего незыблемым принципа соответствия советской системы интересам интеллигенции. Это требовало такого толкования истории интеллигенции, при котором политика партийных и советских органов была сугубо положительной и верной.
Рост источниковой базы для исследований положительно сказался на создании монографических и коллективных трудов, особенно обобщающего характера. В это время увидели свет научные работы таких крупных специалистов в данной области как М.П. Ким ("40 лет советской культуры"), Г.Г. Карпов ("О советской культуре и культурной революции в СССР"), В.Т. Ермаков ("Исторический опыт культурной революции в СССР")3. В то же время все профессиональные группы данного социального слоя рассматривались недифференцированно, художественная интеллигенция ещё не выделялась исследователями в качестве самостоятельной подгруппы4. Ве-
' См • Шлихтер А.Г. Октябрь и наука. - Харьков, 1933; Келлер Б. А. Пролетарская революция и советская интеллигенция - М., 1937; Волин Б. Октябрьская революция и интеллигенция. // Исторический журнал. 1938 № 11; ЛупполИ Интеллигенция и революция //Новый мир 1939 №7
1 Процько МАО роли интеллигенции в советском обществе - М, 1953 С. 39
J См : Карпов Г.Г. О советской культуре и культурной революции в СССР. М.: Госкультпросветиздат, 1954; Ким М П 40 лет советской культуры М • ГосПолитиздат, 1957, Черноупан И С. Ленинские принципы политики партии в области литературы и искусства М.'"Знание", 1958; Ермаков В Т Исторический опыт культурной революции в СССР. М.: "Мысль", 1968. См. Заузолков Ф.Н. Об опыте СССР по сближению умственного и физического труда // Вопросы философии. 1956 № 5 С 32-45; Он же Формирование и рост социалистической интеллигенции в СССР II Коммунист 1958. № 1. С. 52-62; Константинов Ф. Советская интеллигенция // Коммунист. 1959. № 15. С 48-65; Далматов И П Формирование советской социалистической интеллигенции и ев роль в развитии советского общества // Ученые записки МГПИ им В. И. Ленина. T 128. Вып 3. - М., 1957; Федюкин С А. Советская интеллигенция
дущим направлением стало в те годы изучение роли В.И. Ленина в исследуемых процессах. Этому была посвящена, например, монография И.С. Смирнова "Ленин и советская культура. Государственная деятельность Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г. — лето 1918 г.)"1. Выходят первые работы по истории советской интеллигенции, например, "Привлечение буржуазной технической интеллигенции к социалистическому строительству в СССР" С.А. Федюкина2. О советах депутатов трудовой интеллигенции писала Л.И. Смирнова3.
Прежний подход к интеллигенции как некой цельной, монолитной массе, которая по природе своей враждебна новому строю, стал подвергаться критике. Спорными назывались суждения о преимуществе методов принуждения и даже "разгрома", о том, что это было вполне закономерным явлением, санкционированным большевистской партией и советской властью4.
Но по-прежнему интеллигенции отводилась роль объекта, и при этом не учитывались те явления, которые происходили в разных ее отрядах в первые революционные и послереволюционные годы.
Соответственно и внимание исследователей сосредоточивалось в основном на анализе взглядов Ленина на использование "буржуазных" специалистов, на вопросах политики большевиков в отношении интеллигенции и практических результатах этой политики5, в том числе в отдельных профессиональных подразделениях
на новом этапе развития социалистического строительств (1959-1965) // Советская интеллигенция. М • "Мысль", 1968
' См помимо уже названного- Смирнов И С Ленин и советская культура. Государственная деятельность Ленина в области культурного строительства (окт 1917г.-лето 1918).М, 1960.
2 См Федюкин С А Привлечение буржуазной технической интеллигенции к социалистическому строительству в СССР М, 1960
3 См Смирнова Л И О советах депутатов трудовой интеллигенции // Из истории советской интеллигенции / Сб.статей. - М . "Мысль", 1966. С. 197 - 222.
4 См Федюкин С.А Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. - М.: "Наука", 1972 С 17-19.
5 См Ким M П. 40 лет советской культуры - М, 1957, Котов А.Т. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и проблема использования старой интеллигенции. // Ученые записки Белорусского ин-та физкультуры Вып 2 -Минск, 1958, СмирновИ.С. Ленин и советская культура-Государственная деятельность В И.Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 - лето 1918г ). - М. 1960; Генкин Э.Б. О ленинских методах вовлечения интеллигенции в социалистическое строЕггельство // Вопросы истории 1965 №4, Круцко И Е Обоснование В И Лениным политики привлечения буржуазной интеллигенции к социалистическому строительству (1917 - 1920 гг) //Ученые записки Волгоградского гос.пед.ин-та. Вып 22 - Волгоград, 1967; Ревенко В Г В И Ленин об использовании буржуазии как одной из форм классовой борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры. // Труды Моск.высшего техн.уч-ща. Вып. 3. - М., 1968, Хренов Н И Из истории борьбы Коммунистической партии за интеллигенцию в Октябрьской революции // Сб трудов Ульяновского политехи ин-та Т. 6 Вып 1 - Ульяновск, 1968 С 20 - 46; Кейрим-Маркус М Б Государственная комиссия по просвещению (1917 -1920). // История СССР. 1969. № 12; Амелин П.П. Интеллигенция и социализм. - Л, 1970; Волков B.C. Вовлечение буржуазной технической интеллигенции в социалистическое строительство. (Письма В И Ленина как источник изучения проблемы) И Ученые записки кафедр общ.наук Ленинграда История КПСС Вып 10 -Л, 1970; Красникова A.B. Из истории разработки В.ИЛениным политики привлечения буржуазной интеллигенции на службу советской власти. // Вестник Ленинградского ун-та. 1970 № 8 (Серия истории, языка и литературы. Вып,2), Кузнецов Ю С В И Ленин о вовлечении интеллигенции в социалистическое строительство // В.И.Ленин - великий теоретик, организатор и вождь Коммунистической партии и Советского государства - Могилев. 1970; Точеная В П. В.И Ленин об интеллигенции в переходный период от капитализма к социализму // Вестник Моск.гос ун-та 1970. № 2. (Серия истории Вып. 2); Свинцова М.П. В.ИЛенин об ис-
специалистов, как гражданских (например, учителей и врачей, учёных, инженеров, историков)1, так и военных2. А вот сложные процессы, совершавшиеся в среде художественной интеллигенции, по-прежнему освещались недостаточно3. Правда, более глубоко ими занимались историки литературы и искусства. Непосредственное влияние социально-политических событий 1917 года на течение художественной жизни, эволюция жизни художественной среды воссоздана в солидной монографии В.П. Лапшина4.
Расширялись рамки региональных исследований. Наиболее плодотворная работа велась историками Сибири5.
В то же время стали появляться и работы, в которых интеллигенция выступала не только объектом большевистской политики, но и как социальная общность, придерживавшаяся своих политических взглядов и их отстаивавшая6. В этом же ряду стоят работы Л.К. Ер-
пользовании буржуазных специалистов в социалистическом строительстве. // Вопросы стратегии и тактики в трудах В И Ленина послеоктябрьского периода. - М., 1971.
' См Ширяев П. Борьба Коммунистической партии за использование буржуазной производственно-технической интеллигенции в период с 1917 по 1928 год. // Учёные записки Вологодского гос пед ин-та Т 19. -Вологда, 1957; Городецкий Е H К истории ленинского плана научно-технических работ // Из истории революционной и государственной деятельности В.ИЛенина - М., i960; Гуров И Ленин о перевоспитании учительских кадров в первые годы советской власти. (1917 - 1920). // Некоторые вопросы теоретического наследия В И Ленина Труды Моск.гос.пед ин-та имЛенина - М,, i960; Князев Г.А, Кольцов А В Краткий очерк истории Академии наук СССР - M.-JI, 1960; Меерович Б. Из истории борьбы Коммунистической паргии за привлечение учительства на сторону советской власти. // Вопросы истории КПСС и философии Сб статей кафедр общ наук Свердловского гос пед.ин-та. - Свердловск, 1965; Ульяновская В. А. Формирование научной интелли генциивСССРв 1917- 1937 гг - Л, 1965; Московский университет за 50 лет советской власти - M , 1967, Алексеева Г Д Октябрьская революция и историческая наука (1917-1923 гт.) -М„ 1968, КочкобГД идр Академия паук - штаб советской науки - М., 1968; Кольцов А В Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. - Л., 1969, Федотова 3 Ф Роль H К Крупской в политическом воспитании учительства /' Мат-лы 14-й науч конф-ции Дальневосточного ун-та Серия обш.наук. - Владивосток, 1970, ЛотоваЕИ Первые шаги советской власти по привлечению медицинской интеллигенции к социалистическому строительству //Советское здравоохранение 1971 Ks 4, Хренов H И О вовлечении буржуазных специалистов в социалистическое строительство //Сб трудов Ульяновского политехи ин^га Т 6 Вып. 2 -Ульяновск, 1970
2 См Винокуров A.B. Проблемы использования военных специалистов в Красной армии (1917- 1920гг.) //Из истории борьбы Коммунистической партии за победу буржуазно-демократической и социалистической революции и построение социализма в СССР. - M, 1968; Власов И.И В ИЛенин и строительство Красной армии -M, 1968; Иовлев A M Разработка и осуществление ленинской политики в отношении специалистов старой армии (1917 - 1920 гг ) // Вопросы истории КПСС 1968. № 4; Кораблев Ю И. В.И Ленин и создание Красной армии -М, 1970.
1 См • Демидов H И Некоторые вопросы борьбы партии за привлечение литературно-творческих сил на сторону советской власти (1917-1925 гг.). //Труды кафедр обш.иаук Московского инженерно-строиг.ин^га №28 -M, 1957; Ратнер Я.В. Из истории советского театра (1917 - 19190. // История СССР. 1962. № 2; Зосимский В Профессиональные союзы театральных работников в период Великой Октябрьской революции и гражданской войны (1917-1921 гт.) // Учвные записки Высшей школы профдвижения ВЦСПС Вып. З.-М., 1968; Красникова А В. В.И Ленин и А.М.Горький в 1917 -1918 гг. (Из истории взаимоотношений Коммунистической партии с интеллигенцией в первый год советской власти) II Ученые записки Института истории партии Ж КПСС. T. 1.-Л, 1970.
4 См.- Лашин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. - М.: "Советский художник", 1983.-496 с.
5 См Соскин В Л Ленин, революция, интеллигенция. - Новосибирск, 1973; Его же. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и утверждение советской власти: 1917-лето 1918.-Новосибирск, 1985.-254 е.; Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. Новосибирск, 1978.
6 См • Быков В Ф Медицинские работники в Октябрьской революции. // Труды Северо-Осетинского мед.ин-та Вып 8 4 2 -Оржоникидзе, 1958, Пасюков Ф В. Медицинские работники Балтики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции // Труды ин-та орг-ции здравоохранения и истории медицины им Семашко. Вып 5. - M., 1959; Соскин В.Л. Политические позиции сибирской интеллигенции
мана. На основе всероссийской переписи населения конца 19 века он определил численность интеллигенции и количество специалистов-интеллигентов в разных областях деятельности, рассмотрел положение различных отрядов интеллигенции и уровень их материального состояния1. Данными, приведенными в его трудах, историки пользуются до сих пор.
Тогда же появилась специфическая литература, из которой можно было кое-что узнать о позиции по этим вопросам, занимавшейся зарубежными учёными2. Читая опровержения утвердившейся на Западе точки зрения, "будто вся интеллигенция не приняла советскую власть и боролась против неё, что большевики старую интеллигенцию разгромили, лучшую её часть заставили покинуть родину, а оставшихся лишили гражданских прав"3, интересующийся читатель мог найти в отечественной литературе много фактов, говоривших ему о том, что "вымыслы реакционных буржуазных учёных и публицистов о "Голгофе" русской интеллигенции" отнюдь не вымыслы. И выходило, что между критикуемыми теперь работами советских авторов (например, Котова 1958 года и 1967 года) и исследованием изменений в советском образовании Каунтса (1966 год) разница не в содержании, не в фактах и даже не в выводах, а в их оценке, выраженной в соответствующей терминологии4.
Мало того, советский читатель (а это был главным образом интеллигент) не без интереса узнавал, что "буржуазной науке вообще свойственно переоценивать роль интеллигенции в жизни общества, особенно на переломных этапах", что, по мнению многих историков и социологов Запада, "революционной инициативой" обладают вовсе не классы (будь то буржуазия в эпоху своего восхождения или пролетариат в эпоху империализма как последней стадии капитализма), а лишь интеллигенция. И откуда ещё можно было познакомиться с высказываниями американского учёного Л. Эдвардса, отводившего интеллигенции ключевую роль как в сохранении, так и в подрыве существующего порядка вещей?5
в период Октябрьской социалистической революции. //Известия Сибирского отделения АН СССР 1967 № 11 (Серия общественных наук. Вып. 3).
1 См Ерман Л К Интеллигенция в первой русской революции. - М, 1968.
2 См ' Краморенко Л Н Против фальсификации некоторых принципов деятельности КПСС по формированию технической интеллигенции (1917- 1937 гг.). //Ученые записки Ленинград гос.педин-та Т 424.Вып 1 -Л, 1969.
3 Федюкин С.А Советская власть и буржуазные специалисты. - М, 1965. С. 20.
4 "Огромное большинство интеллигенции, лиц свободных профессий и технических специалистов в те ранние годы было настроено враждебно", - писал Каунтс и делал вывод, что, "если бы интеллигенцию не удалось подчинить суровой дисциплине, она представляла бы опасность для революции с еб жесткими доктринами и заранее установленными целями" (Там же С. 21.)
5 "До тех пор, - утверждает он, - пока интеллигенция выполняет свою традиционную роль, оправдывая или защищая унаследованные институты, они будут существовать, даже несмотря на недовольство народных масс Но когда люди идей начинают проявлять недовольство, негодуя по поводу собственного положения или прислушиваясь к голосу совести, то это угрожает основам общества. В сущности, - делает вывод, - Л Эдварде, "первым и важным симптомом революции является изменение убеждений интеллигенции"" (Федюкин С А Советская власть и буржуазные специалисты - М., 1965. С. 21.)
Большой вклад в разработку проблемы внёс С.А. Федюкин. Он первым подверг критике господствующую схему, согласно которой интеллигенция при восприятии ею революции делилась на три группы, в зависимости от принадлежности к определенному классу. В своих работах он высказал мнение, что "политический водораздел проходил не между группами интеллигенции, а внутри этих групп"1 и что сторонники и противники советской власти имелись во всех трех группах и их отношение к революции не зависело только от социально-классовой принадлежности. Непосредственное соотнесение иерархического положения отдельных групп интеллигенции с их политической реакцией на революцию представлялось ему слишком прямолинейным и однозначным, ибо "не учитывает индивидуализма" интеллигентов". Этот вывод имел большое значение для преодоления прямолинейных догматических утверждений о трехслойном делении интеллигенции, а это открывало новые возможности для изучения процесса дифференциации интеллигенции, который был и сложным и противоречивым. Как и другие историки того периода, подвергая сомнению тезис о враждебности восприятия интеллигенцией революции, Федюкин в то же время подверг сомнению "излишне расширенное толкование понятия контрреволюционности интеллигенции". Он же первым сделал вывод, что саботаж интеллигенции не был повсеместным и длительным2.
Возник и вопрос о самом понятии "саботаж". Выяснилось, что следует различать активный саботаж, когда интеллигенция выступала против большевиков, и пассивный, когда она, не сочувствуя идеям революции и не принимая советской власти, продолжала выполнять свои профессиональные обязанности. Проблема изучения этого "нейтралитета" также была поставлена некоторыми учеными3.
Среди методов, применявшихся в борьбе за подчинение интеллигенции советской власти, P.O. Карапетян обращал внимание не только на подавление её сопротивления, но и стремление лишить её средств к существованию4. К этой теме стали обращаться и другие историки5.
Важным в проблеме "Интеллигенция и революция" является вопрос о критериях дифференциации интеллигенции в отношении Октябрьской революции. Этот вопрос был поставлен JI.A. Пинеги-ной. Не отрицая решающего значения социально-экономических критериев, она отметила, что внутри групп интеллигенции процесс размежевания шел в основном на основании субъективных факто-
1 См. Федюкин С. А Советская власть и буржуазные специалисты. - М., 1965 С. 26.
2 Федюкин С А Октябрьская революция и интеллигенция.//История СССР -1977. - №5 - С 77.
3 См : Галин С А Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской власти (1917-1925) - M., 1990.
4 См.: Карапетян P.O. Становление и развитие интеллигенции как социального слоя. - М., 1974. - С. 68-69.
5 См: Добрусхин И.Е Об участии непролетарской интеллигенции в строительстве социализма // Научный коммунизм - 1974. - №6. - С. 50-59.
ров1. К такому же выводу о преобладании критериев морального порядка, т.е. субъективных, при размежевании интеллигенции, пришёл и Федюкин. В вышедшем в 1985 году сборник статей советских ученых, исследовавших проблемы интеллигенции, он при анализе положения интеллигенции после Октября решающую роль отводил факторам морального порядка и указывал на необходимость исследования социальной психологии интеллигенции, а М.Г. Вандаков-ская показала позиции российских партий в вопросе о роли и месте интеллигенции в общественно-политической жизни2. Ещё раньше к специальному изучению этой проблемы обратился B.C. Волков3.
Кроме этого, наряду с мировоззренческими чертами, характерными для всей интеллигенции, как то демократизм, гуманизм, реформизм, имеются черты, свойственные для отдельных ее отрядов. Следовательно, есть необходимость учета особенностей специалистов различных профессиональных групп, которые связаны со склонностью осмысливать общественные явления через призму своего профессионального опыта.
Отношение русской "непролетарской" интеллигенции к революционному процессу, эволюцию её политических позиций от Февраля к Октябрю, социально-психологическое состояние и общественные настроения, уровень организованности в условиях нараставшего массового движения и обострения политической борьбы на протяжении этих грозовых 9 месяцев показывает в своей монографии О.Н. Знаменский4. От всех предыдущих его работа отличается привлечением огромного фактического материала, прежде всего воспоминаний и дневников самых различных представителей интеллигенции, изданных к тому времени за рубежом (Ю.В. Ломоносова, например) или хранившихся в архиве Академии наук СССР (И.М. Гревса, С.Ф. Ольденбурга, В.А. Стеклова) и в отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (учителя С.П. Каблукова, геолога Д.И. Мушкетова, дочери писателя K.M. Станюковича, Д.В. Философова и др.). Но нарисованная в результате впечатляющая и объективная картина находилась в некотором несоответствии с применявшейся автором традиционной методологией. Огромное количество ленинских цитат (свыше 100 на 344 страниц текста), которые далеко не всегда объясняли смысл изложенного и выглядели своего рода аргументом, не только мало что добавляло к смыслу этой картины, но порою ему противоречило.
1 См • Пинегина Л.А К вопросу о политическом размежевании буржуазной интеллигенции в период Октябрьской революции (1917-1918). // Вестник МГУ. Серия историч. 1974. №2. С.З -19
2 См Интеллигенция и революция XX век - М., 1985
3 См • Волков В С Ленинский анализ социальной психологии интеллигенции как составная часть научного обоснования политики партии по отношению к старым специалистам после победы Великого Октября // Роль интеллигенции в построении и дальнейшем строительстве социалистического общества. - Л, 1978. Вып 2 С 3 -11.
4 См • Знаменский О Н. Интеллигенция накануне Великого Октября. - Л., 1988
Между тем, утвердившейся к тому времени в советской исторической науке концепция, в соответствии с которой изучение судеб старой, дореволюционной интеллигенции сводилось в основном к "борьбе за интеллигенцию, за перевоспитание ее в духе идей социализма", стала подвергаться критике в конце 80-х годов. Отмечалось, что сама тематика исследований настраивала на изучение истории интеллигенции не как субъекта, а как объекта истории, что не давало возможности рассмотреть сложные процессы в самой интеллигенции. При этом дискриминация старой интеллигенции со стороны советской власти и факты ее сопротивления оставались в стороне. Игнорировалась и важность изучения конкретных взглядов отдельного человека, его индивидуального сознания. Напоминалось, что история интеллигенции - это история движения человеческой мысли и культуры, которое концентрирует всю духовную энергию народа и в силу этого делает интеллигенцию носителем общечеловеческого начала и гуманистических идеалов'.
Конец 80-х и начало 90-х годов вообще можно считать своеобразным рубежом в развитии отечественной историографии. История тогда стала непременной составной частью развернувшейся в обществе острой идеологической полемики. А так как субъектом и объектом этой полемики выступала главным образом интеллигенция, её не могли не интересовать и проблемы истории общественной мысли, и её собственное недавнее прошлое.
В эти годы переиздается или публикуется впервые литература, в прошлом недоступная, - например, сборник "Вехи", вышедший еще в 1909 г. и вызвавший тогда дискуссию, так как авторы по-новому пытались рассмотреть вопросы о сущности интеллигенции, ее роли и месте в революции и обществе, иногда отказываясь от своих прежних позиций. Продолжением стал сборник "Из глубины", напечатанный в 1918 г. Авторы его попытались подняться над конкретными политическими событиями и проанализировать причины и последствия революции через призму истории интеллигенции. Но советская историография вычеркнула их труды из рассмотрения проблем интеллигенции. Теперь же стали говорить о том, что назрела потребность в осмыслении всего интеллектуального богатства, созданного многими поколениями русской интеллигенции, и выход их произведений стал закономерен.
Парадокс отечественной историографии советской культуры эпохи "перестройки" состоял в том, что возросший и устойчивый интерес читающей части населения к прошлому стал удовлетворяться преимущественно публицистикой, мемуарной литературой, художественными произведениями, а не исследованиями профессиональных историков. Произошёл серьёзный разрыв между резко возрос-
1 См : Смоляков Л.Я Об интеллигенции и интеллигентности. // Коммунист. 1988. №16. С. 75.
шим интересом нашего народа к истории и способностью историков-профессионалов удовлетворить этот спрос. Некоторые ученые находили подобную ситуацию совершенно естественным промежуточным этапом, предшествующим серьезному научному изучению вопросов истории культуры недавнего прошлого1. Как показала практика, данная точка зрения была абсолютно справедливой. Переиздание "Несвоевременных мыслей" М. Горького и издание писем В. Короленко к наркомпросу Луначарскому подвигла критика Л. Аннинского выступить на - страницах журнала "Дружба народов" со статьёй "Наши старики", чтобы показать читателю не только актуальность высказанных ими критических соображений, но и высветить тот урок достоинства, который "дают нам наши старики, наши великие старики, дорого оплатившие своё право давать нам уроки"2.
Но этот мощный поток публицистических статей и эссе имел и свои негативные черты. Прежде всего, это - чрезмерно субъективный подход к рассматриваемым проблемам, персонификация истории, эксплуатация одних и тех же сюжетов, несамостоятельность мышления многих авторов, влияние "западной" историографии.
Возрождение интереса к проблемам интеллигенции привело в 90-е годы к тому, что значение и место в истории отечества российской интеллигенции, её прошлое и настоящее стало одной из наиболее разрабатываемых научных проблем. За последние десять лет оно превратилась в объект интенсивного изучения не только историками, но и философами, социологами, культурологами и филологами. Состоялось свыше 30 интеллигентоведческих конференций различного уровня: региональных, всероссийских, международных3.
Причём явно наблюдалось перемещение центров её изучения на периферию. Заметно активизируется научная работа в Кемерово и Иванове. В марте-апреле 1991 года там были проведены крупные конференции по проблемам места и роли интеллигенции в стране. В 1992 г. и 1995 г. эта тема получила дальнейшее развитие на второй и третьей конференциях по данной проблеме в Ельце и Пензе4. При кафедре истории и культуры России Ивановского государственного университета был создан межвузовский центр РФ "Политическая культура интеллигенции: её место и роль в истории отечества", много и плодотворно работающий по сей день5. В Уральском государст-
Сахаров А Н Новая политизация истории или научный плюрализм' О некоторых тенденциях в мировой исто-
риографии истории России XX века // Новая и новейшая история. 1993 № 6. С. 87-94. Аннинский Л. Наши старики. // Дружба народов. 1989. № 5. С. 246.
' См ' Меметов В С , Будник Г А , Садина С С Интеллигентоведение- из опыта становления вузовского научно-методического курса // Интеллигентоведение: проблемы становления нового вузовского курса: Материалы межгосудар заоч. научно-методич конф. Июнь 1999. - Иваново, 2000. С. 3.
4 Шмидт С О Вступительное слово // Российская провинция ХУШ-ХХ вв : реалии культурной жизни Кн 1 Пенза, 1995. С. 10-24.
5 См • Меметов В.С, Данилов А А Интеллигенция России: Уроки истории в современность (Попытка историографического анализа проблемы) // Интеллигенция России: Уроки истории и современность' Межвузов сб на-уч.трудов. - Иваново: ИвГУ, 1996. С. 4-5.
венном университете тогда же был организован научный центр "XX век в судьбах интеллигенции"1. Конференции по проблемам интел-лигентоведения стали регулярным событием в этих исследовательских учреждениях. В последующие годы научные форумы по аналогичной тематике прошли также в Екатеринбурге, Казани, Костроме, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Самаре, Саранске, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Улан-Удэ, Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве .
Возрастание интереса к истории отечественной интеллигенции сопровождалось интенсивным процессом переосмысления и переоценки её места и роли в обществе, в том числе во время революции. В 1996 году на конференции в Иванове об "интеллигентоведении" говорилось уже как о самостоятельной отрасли научного знания3. К концу 90-х годов Ивановский межвузовский центр прочно зарекомендовал себя местом сосредоточения научной и научно-методической работы по различным аспектам интеллигентоведения. На конец сентября 2002 года им было организовано и проведено 13 республиканских и международных конференций с публикацией тезисов. Издано шесть межвузовских сборников научных статей и три монографии. Общий объём печатной продукции превышает триста печатных листов4. С января 2001 г. издаётся общероссийский научный журнал "Интеллигенция и мир". Главным результатом научно-исследовательской деятельности Центра стало комплексное междисциплинарное изучение интеллигенции российской провинции как социокультурного феномена в контексте её генезиса и исторического развития.
Таким образом подводя итог обзору исторической литературе по данной теме, можно сделать вывод, что вопросы, касающиеся отно-
1 См Кондрашева М.И, Главацкий М Е Научные конференции по исследованию проблем интеллигентоведения как историографический факт // Культура и интеллигенция России в переломные эпохи (XX в )■ Тез докл Всероссийской науч. конф. Омск, 24-25 ноября 1993 г. Омск: ОмГУ, 1993. С. 35.
2 См, например: Российская провинция и мировая культура Ярославль, 1993; Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем Самара, 1994; Российская провинция: история, культура, наука. Саранск, 1998, Российская провинция XVUI-XX вв.' реалии культурной жизни. Пенза, 1995; Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развития культуры народа. Кострома, 1994, Меметов В. С, Данилов А. А Интеллигенция России: Уроки истории и современность. (Попытка историографического анализа проблемы) // Интеллигенция России: Уроки истории и современность: Межвузов, сб науч.тр Иваново. ИвГУ, 1996 С. 3-15; Общественно-политическая жизнь российской провинции: XX век: Краткие тезисы докладов и сообщений к предстоящей межвуз. науч. конф. Тамбов, 1993; Поиск новых подходов в изучении интеллигенции: Проблемы теории, методологии, источниковедения и историографии' Тез докл межгосудар. науч.-теорет конф Иваново, 1993; История российской интеллигенции- Мат. тез. науч конф.'В2ч М, 1995; Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тез. докл межгосудар науч.-теорет. конф. Иваново, 1995; Провинциальная культура и культура провинции. Кострома, 1995; Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции'Межвузов респ. сб науч тр Иваново, 1996; Некоторые современные вопросы анализа российской интеллигенции: Межвузов, сб. науч. тр. Иваново: ИвГУ, 1997.
См.- Меметов В С. К первым итогам становления "интеллигентоведения" как самостоятельной отрасли научного знания. // Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции' Межвузов респ сб науч тр. - Иваново, 1996. С 3-14.
4 См ■ Интеллигенция современной России: Духов, процессы, исторические традиции и идеалы' Тез. докл ХШ междунар. научно-теорет. конф. 26-28 сенг. 2002 г. Иваново: ИвГУ, 2002. С. 6.
шений интеллигенции с большевиками после Октября решены в целом неплохо, хотя и тут есть над чем поработать исследователям, но вот история отношений интеллигенции и власти между Февралём и Октябрём, наконец, история самой интеллигенции в этот период остаются вне поля зрения историков. Её затрагивают в той или ной мере главным образом исследователи в области литературы, искусства, науки, подготавливающие к изданию и комментирующие художественные и научные произведения, а также документы, принадлежащие тому или иному деятелю культуры и науки1.
Исследование того, как революционные события 1917 и начала 1918 годов воспринимались интеллигенцией, как она сама смотрела на себя и оценивала свою роль в революционизирующемся обществе, какие основные направления внешней и внутренней политики Временного и Советского правительств вызывали особые разногласия в её среде, её отношение в целом с властью в этот период и является целью данной диссертационной работы.
Достижение поставленной цели, в свою очередь, предполагает решение следующих задач:
1) раскрыть процесс изменения отношения интеллигенции к Временному правительству и его политике (эйфория от наступившей свободы, рефлексия на двоевластие, вопросы о войне и земле, кратковременное увлечение Керенским и последующее разочарование в нём, драма "корниловского мятежа");
2) выявить всё разнообразие оценок ею деятельности большевиков и Совета народных комиссаров во главе с Лениным, определить её отношение к начавшимся социалистическим преобразованиям и ленинской программе использования интеллигенции,
3) очертить формы сопротивления (как активного, так и пассивного) и сотрудничества;
4) опираясь на суждения различных деятелей науки, техники и культуры о причинах, ходе и последствии революции 1917 года, проанализировать осмысление ими итогов, к которым начала приходить интеллигенция в конце 1917 - начале 1918 гг.;
5) сделать собственные обобщающие выводы и сформулировать предложения для дальнейшего изучения темы.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Определение спектра общественно-политических настроений интеллигенции и выявление отдельных его сегментов в зависимости от взглядов как на сам ход революционного процесса, так и на от-
1 См, например- Бабореко А Бунин Жизнеописание - М • "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2004. - 457 е.; Варламов А Красные и алые паруса. (А.С.Грин и русская революция) // Подъйм (Воронеж) 2005 № 2. С. 191 - 226; Варламов А. Александр Грин. - М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005 - 452 с ; Куняев Ст, Куняев Срг. Сергей Есенин. - М • "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005. - 595 с.
дельные его аспекты (отношение к власти, к вопросам о войне и земле, о защите культурных ценностей).
2. Выявленные и обоснованные этапы эволюции взглядов интеллигенции на причины, ход и последствия революции 1917 года.
3. Тенденции политического размежевания среди интеллигенции между Февралём и Октябрём, их конкретное содержание.
4. Соотношение мировоззренческих и сугубо практических мотивов при определении своего отношения к установлению власти советов.
Источниковая база исследования.
В соответствии с намеченным кругом задач был выявлен большой массив источников, анализ которых использован для достижения поставленной цели. Среди них оказались как давно известные, но по-новому рассмотренные, так и совсем недавно введённые в научный оборот. Главное место среди них занимают документы личного происхождения, позволяющие изучить взгляды многих интеллигентов на революцию вообще и отдельные явления и события, её сопровождавшие в частности.
Это, прежде всего письма и дневниковые записи. В то время обмен письмами между родственниками, друзьями и просто знакомыми были общераспространённым явлением. Многие интеллигенты вели личные дневники, подробно записывая в них всё, что видели и слышали, порою давая свою оценку тем или иным событиям и лицам. Эти письма и записи являются ценнейшим источником.
В дневнике для историка важно всё - и каждая строчка, содержащая отзвуки революционных событий, "самоотчёты" писавшего, а порой и неожиданное, досадное для исследователя умолчание, которое, однако, тоже становится своего рода историческим фактом, требующим внимательного учёта. Сказанное в значительной степени относится и к эпистолярному наследию.
Интересные подробности и, главное оценки, можно почерпнуть в опубликованных в самое различное время, но особенно в последние годы, письмах и дневниковых записях рядовых и не рядовых участниках и свидетелях событий тех лет. Среди них особенно следует выделить кадетского журналиста В. Амфитеатрова-Кадашева', ведущего обозревателя и фельетониста газеты "Новое время" М.О. Меньшикова2, историков С.Б. Веселовского и Ю.В. Готье3, поэтессы 3. Гиппиус4. На последних хотелось особо остановиться. В предисловии к своей "Синей книге" ("История моего дневника") Гиппиус
1 См • Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника. // Минувшее Исторический альманах. Т. 20 - М , 1995. С. 442 и др.
г См : Меньшиков М О. Дневник 1918 года. II Российский архив. (История отечества в свидетельствах и документах ХУШ-ХХ вв ). Выпуск IV. - М: "Трите" - "Российский архив", 1993. С. 11 - 222.
3См: Веселовский С.Б. Дневники 1915-1923,1944 годов. // Вопросы истории. - 2000. - №; Готье Ю В. Мои заметки. -М.: Терра", 1997.
4См Гиппиус3. Дневники.Т. 1 -М.1999.
отмечала, что личная жизнь, положение её и Мережковского, их среда были благоприятны для ведения подобных записей. "Мы принадлежали к тому широкому кругу русской "интеллигенции", которую, справедливо или нет, называли "совестью и разумом" России. Она же - и это уж конечно справедливо - была "словом" и "голосом" России, немой, притайно-молчащей - самодержавной"1. Жили они в Петрограде, где именно зарождались и развивались революционные события. Но в отличие, допустим от Горького, имевшего квартиру на Кронверкском проспекте (Петроградская сторона), Мережковские жили около самого Таврического дворца, в коем заседали Государственная Дума, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное Собрание. По сути одно только исследование того, как они реагировали на революционные события, происходившие тогда в стране, и как оценивали роль в них отдельных политиков и литераторов, достойно стать предметом отдельного диссертационного исследования.
То же самое можно сказать и о таких деятелях науки и искусства, как академик В.И. Вернадский2, правовед Н.В. Устрялов3, поэты А. Блок4 и В. Брюсов5, писатели JI. Андреев6, И. Бунин , В. Короленко8, М. Кузьмин9, М. Пришвин10, А. Ремизов11 и В. Розанов12, критик Р. Иванов-Разумник13, художник А. Бенуа14, рядовые обыватели из бывших генералов A.B. Жиркевич15 и Ф.Я. Ростковский1, каждый из
1 См Гиппиус 3 История моего дневника // Её же Петербургский дневник - М "Сов писатель" и "Олимп", 1991 С. 6-7.
2 Вернадский В И Дневники 1917 - 1921 -Киев "Наукова думка", 1991.-269с
3 Устрялов Н Н Былое - Революция 1917 г (1890-е - 1919 гт) Воспоминания и дневниковые записи -М, 2000
4 Блок А Письма к жене // Литературное наследство Т. 89. - М: "Наука", 1978; Блок А. Дневники. - М.,1989, Блок А А, Белый А Диалог поэтов революции - М., 1990 (переписка, в основном до 1916 года).
5 Брюсов В Я Неизданное и несобранное / Сост и комментарии В Молодякова - М "Ключ" и "Книга бизнес", 1998.-332 с.
6 Андреев Л Б О-в • Дневники (1914-1919), Письма (1917-1919), Статьи и интервью (1919), Воспоминания современников (1918-1919) / Вступстатья, составление и примечания РДэвиса и БХеллмана - М- СПб "АШепешп-Феникс", 1994. С. 31 -32
7 Бунин И А. Лишь слову жизнь дана... / Сост., вступл., примеч. и имен,указ. О.Н.Михайлова - М.. "Сов Россия" (серия "Русские дневники"). 1990 - 368 с.
' Короленко В Дневник. Письма. 1917-1921 / Сост, подготовка текста, коммент В И.Лосева - М "Сов.писзтель", 2001. - 544 с.
5 Из дневников М.А.Кузьмина // Литературное наследство Т 92 - Александр Блок- Новые материалы и исследования Кн 2 -М.: "Наука", 1981.
10 Пришвин М М Дневники Кн.1- 1914 - 1917 - М.- "Моек рабочий", 1991; Пришвин М М Цвет и крест Неизданные произведения. / Сост, вступ., коммаент. В.А Фатеева. - СПб. "Росток" (серия "Неизвестный XX век"), 2004,
"Ремизов А М Взвихренная Русь /Публицистика и дневники 1917 года //Его же Собрание сочинений, по дг "Пушкинским домом". Т. 5. - М., 2000. - 687 с.
12 Розанов В.В Апокалипсис нашего времени. // Его же Мимолетное. Собрание сочинений под общей ред А Н Николюкина - М • "Республика", 1994; С 413 - 472; Розанов В В Черный огонь. 1917 год // Его же Мимолетное Собрание Сочинений под общей ред А Н Николюкина. - М ■ "Республика", 1994 С 337-412
13 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. / Подготовка текста, вступ.статья и комментарии А В Лаврова и Дж.Мальмстада. - СПБ.- "А&епеит-Феиикс", 1998. - 736 с
14 Бенуа А Н Мой дневник-1916 - 1917 - 1918. / Подготовка текста и комментарии Н И Александровой и др -М: "Русский путь" (серия "Наше недавнее", вып. 10), 2003.
15 Симбирский дневник генерала А В. Жиркевича 1917 г. // Волга. 1992. № 6/7..
которых оставил большой массив документов в виде обширных дневников и писем, а часто и публицистических статей. Вопросы, волновавшие их, связаны с главной темой новейшей русской истории, с темой, которая определила духовную ситуацию в России в течение всего столетия, - народ и интеллигенция.
К сожалению, такие интересные для раскрытия темы материалы, как дневниковые записи, только в последнее время становятся доступными для российского читателя и исследователя2. А в изданных ранее содержались значительные купюры, относящиеся как раз к 1917 и 1918 годам3. Много ещё любопытного хранится в архивах. Но, к сожалению, такие богатейшие личные фонды, которые имеются в архиве Российской академии наук или в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), а также в рукописных отделах Государственной публичной библиотеки в Москве и Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, трудно доступны для провинциального исследователя. В архивах и музеях Казани, Ульяновска, Самары и Саратова ничего такого, относящегося к исследуемому времени, нет. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФе) хранятся дневниковые записи известной беллетристки и публицистки кадетки А. Тырковой (фонд 629) и бывшего редактора монархической газеты "Московские вести" Л. Тихомирова (фонд 634). Первые из них мне удалось отыскать лично, вторые оказались в моём распоряжении благодаря любезности историка A.B. Репникова, готовящего их к публикации. В этом же архиве мною были просмотрены, к сожалению, очень маленькие и содержащие крайне отрывочные сведения, фонды таких профессионально-общественных организаций, как союзы инженеров (фонд 5548), учителей (фонд 5490) и землемеров (фонд 5519).
Во вторую по значимости группу источников входят публицистические произведения того времени - статьи, заметки, отклики (в том числе стихотворные) на злобу дня. Здесь тоже имелись определённые трудности по сбору материала: столичной прессы в провинциальных архивах, библиотеках и музеях не так уж и много, а в местных газетах (таких, например, как симбирская "Заря") нужного для раскрытия темы материала обнаружить не удалось. Среди того, что всё же было мною выявлено, следует выделить то, что было написано, кроме уже упоминавшихся литераторов, М. Горьким (и в не малой степени заново опубликовано в последнее время)4, М. Осорги-ным и Г. Чулковым, а также видными учёными, вроде Н. Бердяева,
1 Ростовский Ф Я. Дневник для записывания . (1917-й глазами отставного генерала). - М.: "Россюи", 2001. -495 с.
2 О таких документах, очень широко использованных О.Н.Знаменским, уже говорилось выше
1 См , например: Из дневников М А.Кузьмина. // Литературное наследство. Т. 92. - Александр Блок: новые материалы и исследования. Кн. 2. - М.: "Наука", 1981. С. 162.
4 Горький М. Несвоевременные мысли. - М., 1989; Горький и русская журналистика начала XX века' Неизданная переписка. II Литературное наследство. Т. 95. - М.: "Наука", 1988.
П. Гензеля (специалиста по финансам) и П. Сурмина (Устрялова). Их регулярные публикации в средствах массовой информации (газетах "Новое время", "Речь", "Русские ведомости", "Воля народа", "Дело народа", "Знамя труда", "Правда" и журналах "Клич", "Новый сатирикон" и "Народоправство") были заметным явлением в тогдашней общественной жизни. И все они в той или иной мере использованы в диссертации.
Весьма ценным источником, без коего немыслимо объективное суждение об эпохе и о взаимоотношениях между интеллигенцией и властью, является творческое наследие видных политических деятелей той эпохи, в том числе таких как вождь большевиков В.И. Ленина. В данном исследовании несколько страниц посвящёно анализу, новому прочтению его большой полемической статьи "Удержат ли большевики государственную власть?", в которой он излагал свои соображения о том, как победивший пролетариат будет строить свои отношения со специалистами1.
Третью группу образует газетная информация, не принадлежащая перу маститых публицистов, часто анонимная, но содержащая ценные сведения о тех или иных событиях и об участии в них отдельных представителей интеллигенции. Причём немалое количество такого рода сведений обнаружено автором не в органах партийных или деловых, претендующих на солидность (таких, как "Биржевые ведомости", "Коммерасант", "Русское слово"), но и в так называемой "жёлтой" прессе, рассчитанной на простого обывателя (например, "Московские ведомости" или "Московский листок").
Четвёртую группу формируют мемуарные свидетельства современников. Таких воспоминаний о революционных днях 1917 года в распоряжении исследователя уже очень много2. Они ценны более поздними размышлениями о пережитом, но в то же время страдают тем недостатком, который вообще свойственен такого рода литературе: избирательностью памяти и склонностью к приукрашиванию, а то и откровенному преувеличению своей роли в упоминаемых событиях. Поэтому их изучение требует особого подхода, учёта временной дистанции, мировоззренческих позиций (и их изменений), а также профессиональных особенностей автора. Но в данном исследовании отдано предпочтение всё же дневниковым записям и письмам именно того времени. Их преимущество хорошо выразила та же Гиппиус: "Многое теперь, по воспоминанию, я просто не могла бы написать; я уж сама в это почти не верю, оно мне кажется слишком фантастичным"3.
1 См • Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? //Поли, собр соч.Т. 34. С. 302 и др
2 См, например: Гиппиус 3. Живые лица Воспоминания. Т. 2. - Тбилиси, 1991; Злобин В. Тяжёлая душа -Беркли и Лос-Анджелос, 19980; Ясинский H.H. Роман моей жизни Книга воспоминаний. - M, 1926.
1 См • Гиппиус 3. История моего дневника. // Ее же. Петербургский дневник - M ■ "Сов писатель" и "Олимп", 1991. С. 15.
Таким образом, все указанные источники, дополняя друг друга и составляя в комплексе репрезентативную базу исследования, позволяют всесторонне рассмотреть и проанализировать восприятие интеллигенцией революционных событий 1917 года.
Географические рамки исследования определяются территорией тогдашнего Российского государства. Естественно, что основные события, определявшие ход и исход революции, происходили в Петрограде и Москве, в которых, пребывала тогда добрая половина интеллигенции и подавляющая масса самой её активной части. Но слал в столичные газеты из Полтавщины свои статьи В.Г. Короленко, некоторое время пребывали на родине близ Ельца Орловской губернии И. Бунин и М. Пришвин, а в Кисловодске отдыхала чета Мережковских, наблюдал за жизнью губернского Симбирска отставной генерал A.B. Жиркевич.
Хронологические рамки, естественно, ограничиваются темой исследования: с начала революции и (конец февраля 1917 года) до некоторого её момента, символами которого стали, с одной стороны, распространение советской власти на всю страну, а с другой - Брестский мир (начало марта 1918 года). Хотя следует оговориться, что сама логика исследования иногда заставляла автора выходить за эти рамки, как верхние, так и нижние.
Методологическая основа диссертации.
Сложные, многоплановые аспекты исследуемой темы предопределили сложный поиск подходов, принципов и методов для решения задач и достижения цели.
При определении подходов к изучению проблемы автор учитывал:
а) имевшие место взгляды как основных политических фигурантов того времени, которые и потом играли роль несомненных авторитетов в отечественной и эмигрантской историографии, её отдельных школ и направлений (государственной, либеральной, народнической, марксистской, марксистско-ленинской);
б) такие устоявшиеся в историографии подходы, как формаци-онный (классовый), цивилизационный, социокультурный и др.;
в) изменение во взглядах историков под влиянием, как политических и идеологических мотивов, так и достигнутых результатов исследований (например, Г. Иоффе или А. Ненароков);
г) современный уровень развития отечественной историографии и его основные направления: консервативное (традиционное), дифференцированное (альтернативное)и радикально-критическое;
д) появление авторских коллективов по комплексному анализу сложных проблем отечественной истории.
Авторский подход заключается, главным образом, в определении совокупности таких методов, приёмов, которые позволили бы, исходя из накопленного историографией материала и наличной источни-
ковой базы, достичь цели и решить поставленные задачи. Предпочтение отдавалось историзму, объективности, многофакторному подходу (в том числе, классовому) к анализу исторического процесса, характерных для него явлений и наполнявших его фактов. При написании работы были использованы хронологический и проблемный методы, позволившие проследить определённую последовательность в развитии событий, выделить два их основных этапа и выделить главные проблемы, взгляды на разрешение которых разделяли интеллигенцию. При рассмотрении самих же этих проблем применялся историко-генетический метод, позволивший выявить истоки того или иного отношения к ним и проследить закономерности в углублении или изменении различных точек зрения. Немалая роль в работе принадлежала таким общенаучным методам, как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также сравнение.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые комплексно исследованы взгляды российской интеллигенции на революцию 1917 года, проанализирована их эволюция и дифференциация, определены тенденции развития этого процесса; выявлены причины неудачи попыток организовать интеллигенцию в качестве самостоятельного субъекта политической, общественной и профессиональной деятельности; показано, что, вопреки расхожему мнению, не буржуазия и помещики, а именно интеллигенция первой встала на путь сопротивления большевистскому режиму; указано на выводы, к которым начали приходить в то время отдельные представители (в том числе такой любопытный вывод, что социальная сущность революции была не столько антибуржуазной, сколько антиинтеллигентской); исследована систематизированы и обобщены источники и историография темы; введён в научный оборот малоисследованный материал (публицистика того времени, во многом ранее не доступная исследователям, а также опубликованные в последние 15 лет дневники, письма и воспоминания), сам по себе представляющий значительный интерес для исторической науки; даны иные, чем прежде, оценки и комментарии тем известным высказываниям тех или иных лиц, которые раньше давались отрывочно или в отрыве от исторического контекста; наконец, намечены основные направления дальнейшего изучения этой темы.
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что она:
- представляет собою научно обоснованное обобщение и систематизацию исторического опыта российской интеллигенции в революцию 1917 года;
- определяет место и роль интеллигенции в революционных событиях того бурного времени;
- существенно дополняет наши представления как об истории революции, так и об истории интеллигенции;
- обосновывает пути дальнейшего изучения этих проблем.
Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена на кафедре новейшей истории России Московского государственного университета. Ключевые её положения нашли отражения в статьях, опубликованных в сборниках "Наше отечество" ("Февраль 1917 года глазами литераторов" в последнем выпуске и "Октябрь 1917 года глазами интеллигентов" в предпоследнем выпуске), а также в готовящемся к публикации сборнике студенческих и аспирантских работ факультета истории, политологии и права МГОУ.
Основное содержание работы.
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка источников и литературы, а также именного указателя и иллюстративных приложений.
Во введении обосновывается актуальность, объект и предмет, цель и задачи, научная новизна исследования, даётся обзор историографии и характеризуется источниковая база.
В первой главе - «Временное правительство - "Да ведь это всё те же мы, те же интеллигенты! "» - речь идёт об оценке интеллигенцией свержения самодержавия и первых двух месяцах дея гсль-ности Временного правительства, то есть его первого состаза.
Название её первого параграфа - «Дни "светлой, как влюбленность". свободы. Первые опасения и сомнения» - отражает совокупность исследуемых в нём чувств, которые испытывала интеллигенция во время Февральской революции. Для подавляющего её большинства она стала нечто долгожданным, к чему она давно стремилась и, мало того, по мере своих сил и возможностей готовила народ. А неудачный для России ход мировой войны не только усиливал её оппозиционность, но и рождал определённые опасения насчёт того, что в царском окружении свили себе гнездо не просто авантюристы, а настоящие изменники и предатели.
Другое дело, что избавление от этих «тёмных сил» виделось ею желательным как результат не столько нажима снизу, сколько разного рода верхушечных комбинаций. Даже намеченная левыми (вопреки запрету правительства) демонстрация рабочих и студентов в день открытия очередной сессии Государственной Думы 14 февраля 1917 года, хотя и вызывала сочувствие, но обнаруживала и беспокойство, как поведут себя народные массы, вырвавшись на улицу. Геолог Д.И. Мушкетов сообщал в своём дневнике о такой «популярной» мере предосторожности, как наполнение водой ванн «на случай порчи водопровода» \
' Цит.по: Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль - октябрь 1917 г) - Л.: «Наука», 1988. С. 39.
Революционного переворота в ближайшее время ожидали немногие, даже в левых кругах. На совещании представителей социалистических партий и групп у М. Горького, где обсуждалось настроение в рабочих массах и других слоях населения, никто не сообщил ничего такого, что заставляло бы ожидать скорого взрыва революции, никто не высказывал никаких таких ожиданий. И единственным, кто дал хоть какие-то сведения относительно подобных перспектив, был хозяин квартиры: он сообщил об оппозиционных настроениях в военных кругах, выражавших готовность «защищать» Государственную Думу, если царизм объявит о её роспуске
Но началось всё с выступления петроградских рабочих, на почве голода бросивших работу и вышедших на улицу, в чём, а также в нерешительных действиях по прекращению беспорядков, кое-кто заподозрил даже провокацию, предпринятую министром внутренних дел Протопоповым с целью найти предлог для объявления союзникам о невозможности дальнейшего ведения войны Россией и о начале сепаратных мирных переговоров. Первое, о чём, например, подумал в те начальные дни смуты писатель М. Пришвин, было: «Бисмарк понимал Россию как гиганта на глиняных ногах, ударишь по ногам - и всё рассыплется. Что это? Попал в гиганта самый большой снаряд Вильгельма, или это настоящая революция?» 1
Такого рода сомнения улетучивались по мере расширения движения и присоединения войск к демонстрантам, но заменялись тревогой по поводу отсутствия связи между этим движением и думской либеральной оппозицией, среди которой трудно было заметить хотя бы даже созерцательное сочувствие. Как свидетельствовала 3. Гиппиус, депутаты шипели: "Какие безумцы! Нужно с армией! Надо подождать. Теперь всё для войны! Пораженцы!" Но так как на восставших улицах их никто не слышал, то ей казалось, что с каждым нарастающим мгновением члены Государственной Думы «как будто всё меньше делаются нужны», в то время как, считала она, они были нужны для того, чтобы сделать законным переход от старой власти к новой. Её обеспокоенность тем, что «"интеллигенция" продолжает быть за бортом», усиливалась ещё и от того, что «идёт где-то "совет рабочих депутатов" (1905 год?), вырабатываются будто бы лозунги» 3.
Победу восставших 27 февраля 1917 года JI. Андреев посчитал одним из величайших и радостных дней для России 4. А вот у А. Ремизова было совершенно другое чувство: «Полная безвестность. Полная неуверенность. И ожидание всего что хотите» 5. И, наконец,
1 Ерманский О.А. Из перепетого: (1887-1921).-М.-Л., 1927. С 136-137.
2 Пришвин M M. Дневники. Кн. 2.1918 -1919. / Подг.текста и коммент. Л.А Рязановой и др. - М.: «Моск.рабочий», 1994. С. 29.
3 Гиппиус 3 Дневники. T. 1... С. 452.
4 См.: Андреев Л. S.O.S. Дневник (1914-1919)... С. 30.
' Ремизов А М. Взвихренная Русь мой дневник 1917 г. // Его же. Собрание сочинений / ИРЛ РАН «Пушкинский дом». Гл.ред. А.М.Грачвва Т. 5. - M.: «Русская книга», 2000. С. 425 - 426.
Гиппиус озабочена одним только: «Сейчас Дума не во власти ли войск, - солдат и рабочих? Уже не во власти ли?»1 Фиксируя тревожные и пока не вполне ясные слухи из Петрограда, профессор истории Московского университета С.Б. Веселовский записывал: «Словом, достукались, а что из этого выйдет, невозможно предвидеть. Судя по ничтожеству и трусости правительства, не удивительно, что оно сразу уступило. Но кому? Такой же ничтожной интеллигенции, деморализованным солдатам и ушкуйникам. В Земском союзе радость и торжество по поводу "конца царской России". Конец-то конец, но не будет ли это концом независимости русского государства и народа вообще?» 2
Нерешительность и медлительность Временного комитета Государственной Думы вызывала недовольство. Даже академик В.А. Стеклов, ещё три дня назад, изгнавший из своего университетского кабинета студентов, призывавших к забастовке, теперь записывал: «Скверно! Думское правительство заседает в Думе и что-то ждёт, верно, согласия царя на своё низложение! Глупо. Надо было бы скорее организовать власть. Найти хорошего военного министра и министра внутренних дел, юстиции и т.д.» 3. Но проблема оказалась не в том, чтобы найти хороших министров, а в том, чтобы согласовать их программу с Советом рабочих и солдатских депутатов, которому только и доверял восставший гарнизон.
Радость от наступившей невиданной, молниеносной революции отравлялась наступившим двоевластием. Побывавшего в Таврическом дворце, JI. Андреева тревожило не столько то, что «торжественный, кровавый, жертвенный и небывалый в истории порыв увенчался двумя ничтожными головами Родзянки и Чхеидзе», сколько новое действующее лицо - пулемёт: «Если бритва опасна в руках сумасшедшего, то чего можно наделать с пулемётом». А так как «сверхумных много, а просто умных не видно и не слышно», и «все с теориями», то с ужасом приходила мысль о том, что грядут дни Коммуны, что повторится «вся её история» 4.
Обеспокоенность, чем всё это закончится, не обошла и приват-доцента Московского университета Н.В. Устрялова. В ночь с 1 на 2 марта он задавался вопросом: «Что же дальше? Завершилась ли революция? Тогда она - едва ли не самая блистательная из всех мировых революций. Или не кончилась?.. Боже, Ты избавил Россию от Протопоповых. Теперь избавь её от "товарищей"! Спаси нас от нового деспотизма! <...> Есть тревожные опасения, что левые элементы используют переворот в пользу старых своих лозунгов» 5.
"Там же. С. 458-459.
2 Веселовский С.Б. Страницы из дневника... С. 18
3 Цит.по- Знаменский О H Интеллигенция накануне Великого Октября... С 85.
4 Андреев Л. S.O.S. Дневник (1914 - 1919)... С. 30.
'УстряловНВ Былое-Революция 1917 г (1890-е-1919гг) Воспоминания и дневниковые записи. - M , 2000. С. 135.
Получив сообщение по телефону, что соглашение между Временным комитетом ГД и Исполнительным комитетом СРиСД достигнуто и что сформирован кабинет министров, Гиппиус посчитала нужным заметить лишь следующее бросившееся ей в глаза противоречие: «Революционный кабинет не содержит в себе ни одного революционера. кроме Керенского. <...> Как личности - все честные люди, но не крупные, решительно. Милюков - умный, но я абсолютно не представляю себе, во что превратится его ум в атмосфере революции. Как он будет шагать по этой горящей, ему ненавистной, почве? Да он и не виноват будет, если сразу споткнётся»
Лёгкость, с какой рухнул старый режим, поражала. Даже такой видный идеолог «монархической государственности», как Л.А. Тихомиров признавал, что «переворот произведен замечательно ловко и стройно» и что «бесконечно громадное большинство народа - за переворот, объясняя это тем, что видно всем уже надоело быть в страхе за судьбы России: «Династия, видимо, сгнила до корня. Какое тут Самодержавие, если народу внушили отвращение к нему - действиями самого же Царя» 2.
А вот на художника А.Н. Бенуа та всеобщая лёгкость, та беспечность, с которыми воспринимался сам факт падения столь грандиозной и внушительной монархии, произвела дурное впечатление: «Во всяком случае, изумительно и до предельной степени жутко, что столько крови было пролито, столько жертв заклали во имя "священного принципа монархии", а ныне его сбросили, как старую, ненужную ветошь. Сбросили - и как будто забыли?! Впрочем, если сегодня никто не плачет по монархам, то уже завтра наверное поплачут, и даже те, которые сейчас напялили себе огромные красные банты и чистосердечно мнят себя революционерами» 3. Сам же Бенуа был глубоко встревожен «всем и за всех»: «У меня противное чувство, что мы куда-то катимся с головокружительной быстротой!», он не знал: то ли радоваться такой быстрой перемене, то ли опасаться хаоса, из которого не выбраться: «Происходит, шутка сказать, экзамен русскому народу! "Альтернатива колоссального размаха!" Или народ обнаружит свою пресловутую, на все лады прославленную мудрость, и тогда он сумеет не только уберечь свою культуру, но даст ей ещё решительный толчок, или в нём возьмёт верх начало разрушительное - "Грядущий Хам" - и тогда сначала хаос, а там и возвращение в казарму, к Ивану Грозному, к Аракчееву, а то и просто - к Николаю И». Перспективы же этого экзамена окружены тайной, «которую мы распознать не в силах: ни я, ни все мы, интеллигенты вместе взятые». А за этой тайной скрывается не только буду-
1 Гиппиус 3 Дневники Т. 1.... С. 471.
г Тихомиров Л А Дневник // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд 634 (Тихомиров) Опись 1 Дело 27. Лист 118.
3 Бенуа А.Н Мой дневник.. С. 136
щее «наших узко русских дел, но и судьбы всего мира!» И в такие дни, как те, что переживали тогда русские, с неистовой силой появлялся соблазн какого-то безотлагательного выхода из этой неопределённости. «Тайна мучительно приковывает к себе внимание. Лик русского народа то улыбается восхитительной улыбкой, то корчит такую пьяную и подлую рожу, что только и хочется в неё плюнуть и навеки забыть о таком ужасе!»1
Из изложенного в данном параграфе делается вывод о том, что российская интеллигенция в лице лучших своих представителей в , желании политических перемен сеявшая семена недоверия в народе к монархической власти, когда эти перемены, наконец, стали наступать, приветствовала в подавляющем своём большинстве переворот. • Но от революционных методов, обеспечивших победу, она была далеко не в восторге, ибо плоды этой победы пришлось делить с теми, кого она считала не только не способными должным образом решать проблемы демократизации, социально-экономической модернизации и внешней политики (войны и мира), но не чуждыми разрушительных инстинктов и чувств вражды ко всем людям, ведущим другой образ жизни.
В следующем параграфе прослеживается рост разногласий и разочарований в среде интеллигенции, связанных главным образом с тем, как решалась проблема власти в стране. Прежняя общая оппозиционность по отношению к царизму сменилась отличными друг 01 друга либеральными и социалистическими точками зрения.
Так, Гиппиус, озабоченная слухами о трениях между Временного правительством и СРиСД по поводу времени созыва Учредительного Собрания - немедля или после войны - полагала, что доверие последнего к Керенскому, вошедшему в кабинет, «положительно спасает дело». Именно в нём она видела потенцию моста, соединения крайностей и преображения их во что-то третье, единственно нужное сейчас. «Ведь вот: между эволюнионно-творческим и революционно-разрушительным - пропасть в данный момент. И если не будет наводки мостов и не пойдут по мостам обе наши теперешние сильные неподвижности, претворяясь друг в друга, создавая третью силу, революционно-творческую. - Россия (да и обе неподвижности) свалятся в эту пропасть»2.
Интеллигентов, далёких от политики больше волновала судьба культуры, того духовного, образовательного света, какой в ней уже имелся. «Будущий историк, совершившегося переворота должен с чрезвычайным вниманием отметить этот мартовский испуг за культурные сокровища, за церковь, за религию вообще, за христианство вообще, за литературу вообще, за поэзию, науку, академии, университеты», - записывал писатель В.В. Розанов. Ведь для рабочих и для
1 Бенуа А.Н. Мой дневник... С. 131 -132.
2 Гиппиус3. Дневники. Т. 1... С. 476.
солдат, был уверен он, всё это есть величина, именуемая в математических вычислениях пренебрегаемой, которая просто откидывается, как совершенно ничтожная и не могущая повлиять на результат математических выкладок. «В самом деле, что такое для солдат, -для чистых солдат, - и для рабочих, - опять же чистых рабочих, а не для мастеров и начальников частей рабочей организации, - все вопросы и все заботы об академиях, о школах, о каком бы то ни было вообще образовании? И если страна попала в их управление, то не действительно ли Россия - корабль в буре без руля и машин?»'
М. Горький пытался сорганизовать таких озабоченных судьбами культуры людей и вместе с Бенуа, Шаляпиным, Петровым-Водкиным и Добужинским отправились навстречу с министрами. Из этой затеи ничего не вышло, хотя её горячо поддержал Керенский. Сказалась и особая позиция СРиСД, и неприязнь многих представителей творческой интеллигенции к известной всем близости Горького к большевикам, и нежелание действовать коллективно, и творческие разногласия, и взаимное недоверие, и групповщина. На оценке тех или иных событий и личностей сказывалось влияние окружающих. Та же Гиппиус самокритично замечала, что «бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей (и пристально заниматься их обсуждением)». Её смущало, что он «на этом берегу», то есть среди сторонников ВП, «ни о чём, кроме "опасностей революции"», не слышно2. И она задавалась вопросом, верно ли, что все в её доме лишь ими и заняты? Муж, Дмитрий Мережковский, только и говорит, что о Ленине: «Именно от Ленина он ждёт самого худого». Кадет A.B. Карташёв проклинает социалистов. Философов озабочен исключительно положением на фронте и войной. А она невольно уступает им, тоже говорит и о власти, которая вершится на «митинге», и о Тришке-Ленине. «Честное, слово, не "с заячьим сердцем и огненным любопытством", как Карташёв, следила я за революцией. У меня был тяжёлый скепсис (он и теперь со мной, только не хочу я его примата), а карташёвское слово "балет" мне было оскорбительно»3.
Мережковские, как и Белый и Брюсов, приветствовали революцию, видя в ней катаклизм, который вызовет к жизни «революционно-разрушительные» и «революционно-созидательные» силы, необходимые для будущей России - нового государства, основанного на свободе, равенстве и братстве. Февральская революция, надеялись эти русские писатели, освободит человеческую личность и создаст «новое религиозное сознание», подавленное до сих пор самодержавием и православной церковью. И эти чувства разделяла чуть ли не вся интеллигенция. «Завидуем теперь страшно вам, какие грандиоз-
1 Розанов В .В черный огонь. 1917 год... С. 348 - 349.
г Там же. С 484.
3 Там же. С. 484 - 485.
ные события произошли перед вашими глазами», - писал 8 марта брату архитектору в Петроград живописец Евгений Лансере1.
Но никуда не делись и пессимисты. Ремизов сетовал на то, что Государственная Дума, раньше бывшая в подчинении царя и бюрократии жульнической, теперь находится в подчинении СРД и недалёких людей: «Тогда было рабство и теперь тоже. Но теперь рабство худшее. <...> Только вера в силу народа русского, давшего Толстого и Достоевского, спасает меня от полного отчаяния. Ничего не могу писать» 2.
Но все эти сомнения пока что не выносились на широкую публику. В газетах и на общественных собраниях, напротив, демонстрировался оптимизм. Представители Литературного фонда Всероссийского общества писателей, сотрудничающих в петроградских ежемесячных журналах и ежедневных газетах, собравшись для восстановления Союза русских писателей, сочли необходимым предварительно выяснить свои взгляды на роль русской литературы в подготовке Февральской революции и обратиться с приветствием к её деятелям. Представляя проект декларации С.А. Венгеров высказал мысль о том, что не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила теперь на деле то, что проповедуется русской литературой уже более 100 лет. В принятой декларации говорилось: «Не могут не быть переполненными в эти дни радостью безмерной и энтузиазмом безграничным сердца писателей русских при виде величайшего торжества свободы, при созерцании чудеснейшего из всех известных во всемирной истории переворотов». Писателями приветствовались все творцы этого переворота: Государственная Дума, «стойко оставшаяся на своём посту»; петроградские рабочие, «самоотверженно пошедшие под пулемёты в горячей решимости положить жизнь свою за ниспровержение деспотического строя»; петроградские полки, «благодаря которым кровавая баня, уготованная русской свободе, превратилась в величайшее её торжество»; Временное правительство, «сумевшее в единении с Советом рабочих и солдатских депутатов объединить страну и ввести грозный девятый вал в русло государственности»3.
В то же время, несмотря на казалось бы всеобщее (начиная от правительства и кончая крайней оппозицией) признание беречь и развивать науку, культуру и вообще интеллектуальную силу, сама эта интеллектуальная сила не только не ощущала заботы о себе со стороны других классов, но, напротив, всё более и более предавалась мрачным предчувствиям.
Слово "буржуй", из презрительного литературного смысла перешедшее в категорию слов политически опорочивающих, политиче-
' Цит по- Лапшин В П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году .. С. 68
2 Ремизов A.M. Взвихренная Русь... С. 430 - 431.
3 Декларация петроградских писателей. // Русские ведомости. 11.03 17.№ 56. С. 3.
ски указывающих, как на какого-то врага народа, всё чаще теперь применялось простолюдином к человеку, отличающимся от него одеждой и культурой речи. Постоянно возрастающая активность низов уже не всегда находила себе применение в русле, очерченным меньшевистско-эсеровскими руководителями советов. Рабочие и солдаты всё более охотно слушали большевиков и склонны были следовать их призывам. А под "ленинскими действиями" значительная часть столичной и провинциальной интеллигенции подразумевала непременные погромы, направленные против людей "богатых", ну и, конечно, "образованных", тех, кто в шляпах и, не дай бог, в пенсне.
Осознавая себя работником, разбивающим оковы духа, учёный, инженер, врач особенно явственно понял, что в представлении мужика он - барин. А что необходимо сделать именно сейчас, чтобы преодолеть это исконное недоверие, сорвать с народной души скептицизм невежества, он не знал и потому ещё более терялся. И в обыденной речи, и в печати появилось выражение "испуганные интеллигенты" ("и.и.", как модно тогда стало сокращать двух- и более сложные названия до заглавных букв). Так именовали не только аморфную массу, которая всё чаще давала о себе знать по самым различным поводам, например, сокращение числа трамвайных остановок в Москве в целях увеличения скорости движения. Испуг, даже страх перед расширяющейся анархией и усиливающимся безвластием стал характерной чертой если пока ещё не абсолютного большинства людей умственного труда, то довольно значительной и постоянно увеличивающейся её части. И этот страх парализовал волю, заставляя на начавшихся выборах в органы местного самоуправления голосовать часто не по политическим предпочтениям (например, за кадетов), а "вместе с народом" (за эсеров).
В этих условиях часть интеллигенции стала подумывать о том, как покончить с безвластием и анархией, и искать среди популярных политиков и военных, обладающих талантом и волей властвовать, умеющим рассчитывать по пальцам механику правления и способным решительно, без колебания заставить народ повиноваться.
Одновременно на противоположном фланге давали о себе знать люди, склонные к революционному мессианизму, утверждавшие, что в силу ряда обстоятельств Россия встала в первые ряды борцов с социальной несправедливостью и несёт миру свет освобождения.
Политические предпочтения и расхождения в конце концов вели к разрыву личных связей, прежние дружеские отношения сменялись неприязнью и враждебностью.
Во второй главе - «Коренные вопросы революции и отношение к ним интеллигенции» - прослеживается отношение интеллигенции к тем проблемам, которые поставила революция перед обществом и
политическими силами и от решения которых зависел тот или иной её исход.
В первом параграфе - «Война: противоречие между неприятием ее в низах и патриотизмом у людей умственного труда» - рассматриваются различные проявления этой коллизии.
Свержение самодержавия было воспринято либеральной, чиновничьей и значительной частью военной интеллигенции как шанс для коренного изменения хода мировой войны. В то же время социалистически ориентированная интеллигенция, изначально настроенная против войны, теперь стала на позиции революционного оборончества (за скорейший и "достойный" конец войны, за изменение её "лика"). Эта позиция была в марте 1917 года озвучена гораздо громче, чем все прочие, и даже казалась одно время превалирующей. Она нашла своё воплощение в обращении Петроградского СРиСД с призывом приступить к переговорам о мире на условиях "без аннексий и контрибуций", которые спустя десять дней вынуждено было на словах подтвердить и Временное правительство. Но одновременно, используя появившиеся легальные возможности, сначала робко, а потом всё громче и решительнее стали раздаваться голоса в пользу немедленного мира, принадлежавшие левым социал-демократам (большевикам, но не только им).
Выдающиеся представители российской литературы не устава ти повторять, что война всегда - величайшее зло, проклятие и ужас истории, пережиток варварства, недостойный, позорный для просвещённого человечества. Для России же она, отмечалось ими - зло двойное, тройное, ибо не даёт укрепить ещё нетвёрдые основания свободы, пересоздать весь строй жизни на новых, свободных началах, догнать передовые страны на всех поприщах экономики, организации труда, народного образования. Горький, несмотря на весь свой скепсис, надеялся при этом на силу "здравого смысла солдат", оговариваясь, правда, что, если такое случится, то "это будет нечто небывалое, великое, почти чудесное", и что "это даст человеку право гордиться собою". Короленко же и Брюсов в поисках ответа на вопрос, как этого добиться, рассматривали геополитические и экономические условия, в которых наверняка окажется Россия, если согласится прекратить войну на любых предложенных ей условиях, и приходили к выводу, что цена такого мира будет чрезмерной, что территориальные, экономические и прочие жертвы, которые за ним непременно последуют и которые будут ощущаться много десятилетий спустя, гораздо тяжелее тех, что страна и народ вынуждены приносить сейчас ради того, чтобы ещё полгода-год путём напряжения всех усилий не поддаться слабости, устоять и вместе с союзниками дождаться такого момента, когда на приомпями» ттття вгеу мир вынуждена будет согласиться Германия.
РОС НАЦИОНАЛЬНА" 1 БИБЛИОТЕКА ' СПтрфург
Но такое понимание "меньшего зла" было чуждо подавляющему большинству солдат, рабочих, простого народа. Ещё более чуждым им оказались попытки просветить их с сугубо патриотических позиций, предпринятые, было, Лигой русской культуры во главе со Струве.
В среде интеллигенции стало остро ощущаться противоречие между её национальным чувством, патриотизмом и полным неприятием войны у низов. Это наглядно проявилось во время апрельского кризиса, когда борьба внутренняя, и без того отягощавшая войну внешнюю, приняла вооружённый характер и по разные стороны баррикад этой трёхдневной гражданской войны на улицах Петрограда оказались интеллигенты, с одной стороны, и рабочие с солдатами, с другой.
Для интеллигенции всё яснее становилось, что солдаты не только устали проливать кровь не известно за что, но и не усидят на фронте, бросят окопы, если прослышат, что дома собираются делить землю.
Во втором параграфе - «Земельный передел: экономическая сообразность и социальная необходимость» - анализируется ещё одна характерная для того времени коллизия, заключавшаяся в том, что уверенность значительной части интеллигенции если не во вредности, то в бесперспективности «чёрного передела» подрывалась пониманием (и даже сочувствием) в неизбежности осуществления стремления подавляющего населения страны - крестьянства - восстановить историческую справедливость.
Публичные дискуссии специалистов и политиков по аграрному вопросу здесь рассматриваются только на примере всероссийских съездов землемеров и Лиги аграрных реформ. Почти ничего по данной проблеме нельзя обнаружить в дневниковых записях, письмах и воспоминаниях тех интеллигентов (например, Бенуа или Розанов), которые проводили летние месяцы 1917 года за городом в качестве дачников или гостей.
Другое дело - высказывания тех лиц, которые были дворянами, а потому и земельными собственниками, таких как отставной генерал Ф.Я. Ростковский. И пусть эта собственность у Бунина или Пришвина была небольшой, но она использовалась ими не только в рекреационных целях, но и в хозяйственных, а потому они могли наглядно сравнить агротехнический уровень и экономическую эффективность того, что они делали на своих хуторах, с земледелием в соседских крестьянских общинах, и потому с болью в сердце фиксировали, как этот «чёрный передел» начал осуществляться, в какие захватные формы он выливался и к каким печальным результатам приводил.
Тот же Бунин отмечал колоссальное отрицательное влияние, которое оказывает на сельский мир социалистическая пропаганда. «Зная превосходно мужика, - утверждал он, - думаю, что теперешнее
подхалимство перед ним приведёт к самым пагубным последствиям: голова закружится, если уже не закружилась, - и проснутся все бесы жадности, зависти, ненависти, коих в нашем богоносце - легион»1.
Признавая стремление крестьянской массы захватить частновладельческую землю и разделить её между собой, Пришвин тем не менее в своей корреспонденции, напечатанной газетой «Новая жизнь», утверждал, что «вообще крестьяне теперь стоят в понимании реальных государственных интересов неизмеримо выше, чем помещики». Так ли он считал на самом деле? Весьма сомнительно. Во всяком случае, свою корреспонденцию он заканчивает изложением сна, в коем «человек какой-то весьма страшного вида, по фамилии Сиро-махин», даёт ему леденцовую конфетку, от которой по телу пробегает электрическая дрожь, и говорит: «В скором времени обещаю вам Всероссийскую Сиромаху» и, показывав верёвку, грозит: «Всех перевешаю!»2
А в дневниковых его записях фиксируется, как агитатор-солдат кричит в споре с ним: «Товарищи, - не доверяйте интеллигентам, людям образованным. Пусть он и не помещик, а земля ему не нужна: он вас своим образованием кругом обведёт!» И мужики подхватывают: «Известно, обведёт!»3 Они видели в помещике (и перенесли на него) внутреннего немца, а он его видел в них, в этом солдате-ленинце. «Я потому и чувствую себя военнопленным у этою внутреннего немца"4.
Присутствовавший на Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов Блок писал матери о своём разговоре там с солдатом-преображенцем, в том числе, конечно, о земле, «о помещиках Ряжского уезда, как барин у крестьянина жену купил, как помещичьи черкесы загоняли скотину за потраву, о чересполосице, хлебе и прочем»5. За своими предками - владельцами поместья в Клинском уезде - он вроде бы ничего такого не знал. Но сам летом этого года, наверное впервые в своей жизни, там не был. Случайно ли? Думается, что нет. Да и сам этот пересказ разговора с солдатом-преображенцем вероятнее всего был одним из аргументов в его споре с близкими о ходе и перспективах революции.
Композитор C.B. Рахманинов признавался тогда же, что «всё окружающее» лишает его способности работать, а захват крестьянами его тамбовского имения, в которое он вложил огромные средства, заработанные им в заграничных (главным образом американских) га-
' Амфитеатров-Каяашев В. Страницы га дневника... С. 455.
2 Пришвин М М Цвет и крест Неизданные произведения / Сост, вступ., коммаент В А Фатеева - СПб ■ "Росток" (серия "Неизвестный XX век"), 2004. С. 65-67.
3 ПришвинМ.М Дневники. Кн.1: 1914- 1917...С. 276.
4 Там же. С. 298
5 Цит по: Литературное наследство. Т 89 - Александр Блок: Письма к жене - М.: "Наука", 1978. С. 377. Примечание.
стролей, вызвал у него такой упадок духа, что он стал хлопотать о разрешении выехать за границу1.
Суммируя свои безотрадные впечатления о пребывании у себя в имени "Новое Загранье" и общении с окрестными крестьянами в Сушигорецкой волости Весьегонского уезда Тверской губернии, профессор Готье писал: «Более чем когда-либо я убеждаюсь, что русская деревня есть царство анархии. Когда она спокойна, то жить хорошо; когда она приходит в кинетическое состояние, то - спасайся, кто может»2. Причём об этом приходилось задумываться всё чаще и чаще. Так, Бунин фиксировал в своём дневнике слухи о том, будто «на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков» и даже «на сходке толковали об "Архаламеевской ночи" - будто должна быть откуда-то телеграмма - перебить всех "буржуев"» .
Так проблема земли, стремление крестьян устранить историческую несправедливость вступало в противоречие не только с чувством интеллигента-собственника, но и с его пониманием экономической нецелесообразности предстоящего чёрного передела, не говоря уже о том, что в отношении к ней всё больше проявлялась «классовая» ненависть мужиков к «буржуям», к людям, живущим иначе и лучше чем они.
Глава 3-я - «В поисках альтернативы распаду. Где взять Наполеона?» - посвящена мучительным поискам интеллигенции возможного выхода из усиливающегося социально-экономического и политического кризиса летом 1917 года.
И в первом её параграфе - «Спасение в наступлении? Культ Керенского» - прослеживается как в либеральных и революционно-оборонческих кругах зрело понимание того, что только успешное наступление на фронте способно поднять патриотические настроения в народе и укрепить в нём авторитет власти, а также как стремительно росла популярность нового военного министра Керенского.
Он совершал агитационные поездки на фронт, а печать широко освещала его выступления там. Не видя «отчётливых действий "обеими руками"», Гиппиус тем не менее полагала, что говорит он о войне прекрасно: «Во всяком случае он имеет право говорить о войне, за войну - именно потому, что он против войны (как таковой). Он был "пораженцем" - по глупой терминологии "побединцев"»4.
26 мая Керенский приехал в Москву и вместе с другими министрами-социалистами выступил в Большом театре. Его ждали там с обостренным интересом и нетерпением. Никакая входная плата (митинг был с благотворительно-просветительной целью) не казалась
1 Рахманинов C.B. Письма. -M., 1955 С. 482.
: Там же. С. 20.
3 Бунин И.А. Лишь слову жизнь дана... / Сост., вступл., примеч. и имен.указ. О.Н.Мнхайлова. - М.: "Сов.Россия" (серия "Русские дневники"), 1990. С.83.
4Гиппиус3.H. Дневники. Воспоминания. Мемуары... С. 147.
чрезмерно высокою и не могла остановить желающих его услышать. Барышники, умудрившиеся раздобыть несколько билетов, брали за ложу тысячи рублей. «Влекло, - как объясняла даже кадетская пресса, - главным образом желание увидеть и услышать того, кто с первых дней революции встал в центре русского внимания, среди всех смен в общественном настроении сохранил это центральное место и теперь вознесён на самую вершину всероссийской популярности». Места для публикации образцов его красноречия не жалели. Вот как, например, выглядело в газетной передаче его обращение к пессимистам: «Не смейте осуждать тех, которые там, на фронте, падают духом, вы, сидящие здесь среди всякого довольства! Они там - голодные, холодные, они уже годы не знают семейного уюта. Вам ли их осуждать? Они имеют право сказать: если страна действительно хочет, чтобы мы отстояли её и свободу, пусть же она покажет это не словами, а делом!.. Так пусть же тыл стряхнёт с себя уныние и апатию, пусть перестанет сосредоточивать всё своё внимание на тёмных явлениях русской революции. И пусть каждый отдаст на спасение родины всё, что у него есть лучшего: богач - своё золото, богатый духом - своё дух, зажжёт его как светильник. Исполните свой долг, и тогда правда, свобода, Россия будут, будут спасены!» А затем описывалось, как «вся зала зажглась его энтузиазмом и загремеля восторженной овацией», как на трибуну, с которой сыпались суровые укоры и пламенные призывы, посыпались цветы '.
Когда Керенский на следующий день он побывал в Александровском военном училище, один из юнкеров, приветствуя его, выразит уверенность, что москвичи, гордящиеся памятником Минину и Пожарскому, будут также гордиться и памятником Керенскому, и заявил, что его товарищи просят назвать их выпуск его именем2.
12 июня под редакцией А.И. Куприна и П. Пилского вышла однодневная газета «Александру Фёдоровичу Керенскому - Свободная Россия». Центральное место в ней заняла статья Куприна «Сердце народное», посвящённая личности и исторической роли Керенского, о котором в частности говорилось, что он безошибочно чувствует биение народного сердца России и сам является таким сердцем3. Подобные чувства разделяли и некоторые молодые художники и поэты, мечтавшие о новых формах в искусстве. Так Зданевич, блуждая с Аннековым и Маяковским по Петрограду, говорил, что надо бы издать сборник, посвященный Керенскому, «как первому вождю футуристического государства»4.
1 На митинге в Большом театре. // Русские ведомости. 27.05.17. № 118. С. 4
2 А Ф Керенский в Москве: Выпуск прапорщиков. // Русские ведомости. 28 05.17. № 119 С 5
3 См ' Сегал Д «Сумерки свободы»- О некоторых темах русской ежедневной печати 1917- 1918 гг // Минувшее' Исторический альманах. 3. -М.: «Прогресс»-«Феникс», 1991. С. 150.
4 Анненков Ю Дневник моих встреч. Цикл трагедий T 1 -М.' «Художественная литература», 1991 С 184
А вот Гиппиус, изначально делавшая на Керенского ставку, теперь несколько поохладела к нему: «Я убеждена, что он понимает момент, знает, что именно это нужно: "взять на себя и дать им", но... я далеко не убеждена, что он: 1) сможет взять на себя и 2) что, если бы смог взять, - тяжесть не раздавила бы слабых плеч. Не сможет потому уже, что хотя и понимает, - но и в нём сидит то же впитанное отвращение к власти, к её непременно внешним, обязательно насильническим приёмам. Не сможет. Остановится. Испугается»1.
Эти строки написаны 18 июня - именно в этот день, когда русские войска начали наступление на Юго-Западном фронте, а в Петрограде состоялась массовая демонстрация, формально устроенная в честь Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов, а фактически прошедшая под большевистскими лозунгами. Приветствуя «начало наступления нашей свободной армии, доказавшей всему миру мощь своего народного духа и беззаветную любовь к родине», стали собирать пожертвования для образования фонда оказания помощи семьям павших героев и инвалидам «полков 18 июня». По 1.000 рублей дали князь В.Трубецкой и Николай Чупров. «Для начала» 580 рублей были собраны среди служащих Московского купеческого банка2.
Иные «приветствия» раздавались со страниц большевистской печати. «Нам в бой идти приказано: / "За землю станьте честно!" / За землю! Чью? Не сказано. / - Помещичью, известно!» - писал Д. Бедный. - «Нам в бой идти приказано: / "Да здравствует свобода!" / Свобода! Чья? Не сказано. / - А только - не народа!» Такие стихи получали довольно большое распространение и оказывали заметное влияние на солдатскую массу. Недаром в одной из петроградских газет тех дней утверждалось, что в 16 строках песни «Приказано, да правды не сказано», содержится «весь яд той большевистской проповеди, которая разложила столько частей нашей армии»3.
Петроградские события 3-4 июля произвели гнетущее впечатление на многих интеллигентов, даже лево настроенных. После этого решил «никаким убеждениям Горького не уступать и бесповоротно выйти из "Новой жизни", вернуться в своё "независимое одиночество"» Бенуа4. Сам Горький публично признавался, что никогда не испытывал «такого удручающего, убийственного впечатления»5. Что же касается криков о роли ленинцев в этих событиях, он писал: «Я не намерен оправдывать авантюристов, мне ненавистны и противны люди, возбуждающие тёмные инстинкты масс, какие бы имена эти
' Гиппиус3Н. Дневники. Воспоминания. Мемуары... С. 150.
2 Московские вести: Отклики на наступление. // Русские ведомости. 22.06.17. № 140. С. 4
3 Цит.по' Бразуль И. Демьян Бедный - M : «Молодая гвардия» (серия «Жизнь замечательных людей»), 1967. С 146.
4 Бенуа Ail. Мой дневник... С. 194.
5 Горький M Несвоевременные мысли. // Новая жизнь. 14.07.17.// Его же. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре. - M.: «Ингерконтахта, 1990. С. 67.
люди не носили и как бы не были солидны в прошлом их заслуги перед Россией»1.
Итак, к середине лета 1917 года скептические настроения среди людей умственного труда продолжали усиливаться. Одни из них видели причины неминуемого краха в своеобразной истории России, в её социально-экономической отсталости, в ментальности её населения. Другие считали, что главная беда не в этом, а в намеренной эксплуатации этих слабостей и особенностей вернувшимися из эмиграции революционными фанатиками, пытающихся привести недовольные низы из пассивно-бунтовского состояния в активно-бунтовское, а также в слабости и неспособности власти справиться с создавшимся крайне опасным положением.
В этих условиях российская интеллигенция в значительной своей части, испытывая беспокойство и даже страх за своё и страны будущее, поставила на Керенского, как на человека, популярного в народе и способного энергию этого освободившегося народа направить в русло военных усилий и добиться определённых успехов на фронте, чтобы затем, опираясь на патриотический подъём, и сплотить общество вокруг правительства и предотвратить угрозу анархии и распада государства.
Но надежды на это оказались несостоятельными. Всё очевиднее становилось многим, что Керенский на роль Наполеона не годипся, что пламенным словом массу не проймёшь, что тут нужна «метла», то бишь не краснобай-демагог, а боевой генерал, способный не только отдавать приказы, причём непопулярные, но и проводить их в жизнь, применять оружие не только против врага внешнего, но и «внутреннего», не испугается этого.
Во втором параграфе - «Обращение к силе» - в центре внимания находится разочарование значительной части интеллигенции в Керенском и переориентирование её на применение самых жёстких методов в деле наведения порядка.
Ещё месяц назад литературный критик К.И. Чуковский недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска и власть. Ему казалось, что Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. «Но нет-с, история своего никому не подарит, - с удовлетворением, если не со злорадством, записывал он 10 июля. - Вдруг, одним мановением руки, она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть и дала её умеренным социалистам; у социалистов отнимет и передаст кадетам - не позднее, чем через 3 недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический прогресс»2.
1 Горький М. Несвоевременные мысли. // Новая жизнь. 14.07.17. // Его же. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре - М.- «Интеркоигакт», 1990. С. 67.
1 Чуковский К И Дневник 1901 - 1969. Т. 1 / Подготовка текста и коммеэт Е.Ц Чуковской - М Олма-пресс (серия «Эпохи и судьбы»), 2003. С. 91.
Между тем с фронта стали поступать известия о провале наступления и массовом бегстве солдат с передовой линии.
«Они не хотят воевать, они могут воевать только из-под палки, -писал из Минска «шлиссельбуржец» В.О. Лихтенштадт. - Они хотят домой, "на родину", а родина для них - своя деревня, волость, уезд, в лучшем случае губерния. "До нас далеко, немец не дойдёт", - говорит один пермяк. "Россия" для них пустой звук. И мы говорим на разных языках с ними». Кроме палки, полагал этот агитатор, посланный месяц назад на фронт Петроградским советом, на этих людей действует ещё гипноз, «и если б гипнотизёров было больше, можно бы на время оттянуть развал». Но оттуда взять их? «Их должен был дать "город", революционный город, который один может мобилизовать распылённую, индивидуалистическую, средневековую по психологии "деревню"». Но город - это прежде всего рабочая масса, мало чем отличающаяся от крестьянской по отношению к войне. Да и «интеллигенция (не вся, но значительная часть) до сих пор психологически не может выйти из подполья, из тюрьмы, не может стать на государственную точку зрения». Она «трезвеет скорее, но её так мало». Особенно её не хватает на периферии. «Тем более, что правое крыло её, кадеты и К0, вычеркнули себя из работников. Это большая потеря»1.
Постоянно размышляя над тем, почему сметён событиями цвет русской деловой интеллигенции, профессор Готье приходил к выводу, что это следствие разинского и пугачёвского характера, который приобретает всякое русское политическое движение: «Разрушительные лозунги, которыми фанатики и провокаторы полвека поднимали народ против преступного и глупого правительства, не могли дать иных результатов, когда сто миллионов взбешенных собак, сидевших на цепи, были спущены. Все люди, культурно более высокие, чем народная темнота, и сбитые совершенно с толку полуинтеллигенты, независимо от того, есть у них деньги или же они такие же трудовые бедняки, как 99 % русского народа, были объявлены врагами народа - буржуями; к ним такое же отношение, как прежде к барам»2. Весьма интересными и актуально звучащими представляются размышления этого историка о таком необычайно уродливом явлении, как отсутствие русского патриотизма, и о наличии среди чисто русских людей - «людей, страстно желающих поражения России». Но что поразительно, так это то, что он в это время сам, проклиная руководителей из «социалистов», не исключая из них ни Керенского, ни Церетели («хотя они, несомненно, лучше других»), склонялся к мнению, что для отрезвления мало одной катастрофы: «Нельзя делать революцию и вести войну одновременно, надо от чего-то отка-
' «К тебе и о тебе мое последнее слово». Письма В О.Лихтенштадта к М.М.Тушинской. // Минувшее. Исторический альманах. 20 - М - СПб: «АДепешш и «Феникс», 1996. С. 139
2 Готье Ю.В Мои заметки... С. 18.
заться; так как революция выше России, то, значит, надо выходить из войны, губить Россию и спасать революцию»1.
Противоположного мнения придерживался П.Б. Струве. Чтобы «в дни великого томления и великого соблазна» всеми силами способствовать переходу от революции космополитической к «революции патриотической, народной, верной союзникам, гордо блюдущей честь и гордое имя нации» и тем самым преодолению кризиса «идеи народничества и государственного сотрудничества русской души», он основал Лигу русской культуры, видя её основную задачу в призыве к «мобилизации патриотического духа»2. Лига открыла свои отделения в Москве и Нижнем Новгороде. Но никого из значительных представителей литературы и искусства ей в свои ряды привлечь не удалось.
По мнению генерала Жиркевича, как существует Россия, армия её не покрывала себя таким позором: «От двух рот немцев бегут целые дивизии... А Керенский и С0 продолжают испражняться воззваниями, призывами, увещеваниями» . Его необыкновенно раздражало то, несмотря на нехватку средств на войну, миллионы рублей брошены на пропаганду нового главы Временного правительства. «Не могу видеть этой противной рожи Керенского, торчащей в окнах магазинчиков, киосках»4. Ужасным считал И.А. Бунин то, что русский в такое небывалое время «не выделил из себя никого, управляется Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т.д.!»5
Пришвину выход из этой беды виделся в том, чтобы, как на фронте, пулемётами останавливать бегущих: «Неизбежна диктатура самая жестокая, и её ждут почти с наслаждением. <...> Почти сладострастно ожидает матушка Русь, когда, наконец, начнут её сечь»6. Идеологическое обеспечение грядущей военной диктатуры со стороны кадетов, их прямая поддержка генерала Корнилова давно и широко известны. Автор же настоящей работы обращает особое внимание на попытки одного из главных разработчиков корниловской программы Б.В. Савинкова привлечь к её поддержке народнически ориентированную интеллигенцию в лице Мережковских, всё более и более разочаровывавшихся в своём прежнем кумире. «Керенский точно лишился всякого понимания, - соглашалась Гиппиус с Савинковым. - Он никогда не был умён, но, кажется, и гениальная интуиция покинула его, когда прошли праздничные, медовые дни прекраснодушия и наступили суровые (ой, какие суровые!) будни. И опьянел он... не от власти, а от "успеха" в смысле шаляпинском. А тут ещё,
1 Готье Ю.В Мои заметки. С 15-16
1 Борьба за русскую культуру- Н Свободное слово. 2.09.17. № 27.
3 Симбирский дневник генерала А.В Жиркевича 1917 г //Волга. 1992. № 6/7. С. 107.
4 Симбирский дневник генерала А.В Жиркевича 1917 г//Волга. 1992. № 6/7. С 107.
3 Бунин И А. Лишь слову жизнь дала... С.84
6 Пришвин М.М. Цвет и крест. Неизданные произведения.. С. 344.
вероятно, и чувство, что "идёт книзу"»1.
«Кажется, одна из самых вредных фигур - Керенский, - замечал и Бунин. - И направо и налево. А его произвели в герои»2. «Какая бедность у Керенского, и пустота у Авксентьева, - комментировал 15 августа А.М. Ремизов речи в Государственном совещании. - Россию забыли. <...> Да, Гриша убиенный нашёл бы слова»3.
28 августа экстренные выпуски газет сообщили об антиправительственном выступлении генерала Корнилова. Солидаризуясь с этим его шагом, но в то же время не испытывая особой надежды на его победу, Н.Устрялов записывал в своём дневнике: «Дай Бог, чтобы в нём Россия нашла своего Наполеона Бонапарта. Но что-то мало верится. Он непопулярен в войсках»4. Сомнения эти вскоре оправдались. В течение трёх дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась, но для Гиппиус главное стало явно уже через 2-3 часа: «Лопнул нарыв вражды Керенского к Корнилову (не обратно)». В том, что нападающая сторона - Керенский, - у неё сомнения не было, так же как то, что в этом конфликте «перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара»5.
После того как выступление Корнилова потерпело несомненное и безвозвратное поражение, Готье с горечью замечал: «Вместо того чтобы ждать, пока Керенский и К° со всеми ангелами падут как зрелый плод, неумные, но решительные генералы, младенчески неопытные в политике и ранее всегда пренебрежительно относившиеся к политике, выступили вождями предприятия, не имевшего под собой почвы. В результате Керенский укрепится и произойдёт сдвиг влево, а может быть начнётся и террор слева»6. С тем, что «Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков», была согласна и Гиппиус: «Кончен бал. Они уже не "поднимают голову", они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги. Во весь рост» . Пришвин же в этом конфликте, приведшем Россию на край пропасти, не видел виноватыми ни Керенского, ни Корнилова: «Один хотел спасти Россию, опираясь на демократию, которая вся в трещинах, и провалился в трещину, другой сказал: "Я спасу Россию!" - и запутался в сетях, всюду расставленных на случай появления чуда и возникновения неожиданного "я"»8.
В третьем параграфе - «Демократический паллиатив - не выход» - говорится об отношении подавляющего числа интеллигенции к попыткам Временного правительства воспрепятствовать грядущей
1 ГиппиусЗ.Н. Дневники.Воспоминания. Мемуары... С. 159.
2 Бунин И.А. Лишь слову жизнь дана.... С.85
'Ремизов А.М Дневник 1917- 1921 гг.//Егоже Собрание сочинений. Т 5 . С 471.
4 Устрялов Н. Былое - Революция 1917 г. (1890-е -1919 гг.) Воспоминания и дневниковые записи. - М.. 2000 С. 140,142.
' Гиппиус 3 Н Запись от 31.08 17.//Ее же Дневники.. С. 180-181
6 Готье Ю.В Мои заметки .. С. 32 - 33
'Гиппиус З.Н Запись от 31 08 17.//Ее же Дневники... С. 186.
'ПришвинМ Посещение фараона (Из дневника).//Воля народа. 17.11.17. № 175.С 2
катастрофе путём созыва Демократического совещания и создания некоего подобия предпарламента.
Крах движения, получившего название «корниловщина», вызвал заметные перемены в соотношении политических сил. Маятник резко колебнулся влево. Это не могло не усилить тревоги и неуверенности в настроении большинства интеллигенции. 2 сентября Бальмонт публикует в газете «Утро России» стихи, вызвавшие бурную полемику. В последней строфе им провозглашалось: «Этим летом - уни-женье нашей воли, / этим летом - расточенье наших сил. / Этим летом - я один в пустынной доле, / этим летом - я Россию разлюбил»1.
В журнале «Народоправство» Н. Бердяев сетовал на то, что мало кто решается в эти кошмарные дни свободно и независимо выражать свои мысли в слове, что печать находится в тисках и ей приходится держаться условной лжи, навязанной господствующими силами. Слишком многие русские писатели оказались придавленными уличными криками о "буржуазности" всех образованных, всех творцов культуры. «У них не оказалось достаточной силы сопротивления перед разбушевавшейся стихией, они растерялись и сами начали произносить слова, не истекающие из глубины их существа. У слишком многих русских писателей не оказалось собственной идеи, которую они призваны вносить в жизнь народную, они ищут идеи у того самого народа, который находится во тьме и нуждается в свете» 2
Несмотря на то, что «настоящая живая Россия всюду проклинает» большевиков, Пришвин признавал, что «всё-таки по всей России жизнь совершается под их давлением», и пытался разобраться в том, в чём же их сила. Её он видел в их идейности, в величайшем напряжение воли, которое позволяет им подниматься высоко-высоко и с презрением смотреть на гибель тысяч своих же родных людей, на опустошение родной страны. Для обыкновенных сынов родной страны всё сейчас происходящее в ней не революция, а домашняя смута, но большевик придерживается особой веры, будто «наша революция есть факт мировой» и потому считает себя новым строителем всей мировой жизни, и его вера, как вера Наполеона в некое мировое единство, воплощена не в личность, а в интернационал. Поэтому его не страшит потеря, даже полная гибель страны. «Энтузиазм большевика идёт мимо обороны, и горе тем, кто противопоставит этому энтузиазму интернационала энтузиазм обороны: это мещане, которые материальность ставят своей конечной целью»3.
Длившиеся весь сентябрь дискуссии о том, каким должно быть правительство в преддверии назначенных на 12 ноября выборов в Учредительное Собрание - однородно социалистическим или коалиционным, - Гиппиус комментировала так: «Сохранившие остаток ра-
1 Утро России 2 09 17.
1 Бердяев II О свободе и достоинстве слова //Народоправие 1917 №11 С 7.
3 Пришвин М.М Дневники. Кн.1:1914 - 1917... С. 367
зума и зрения видят, как всё это кончится. Все - вплоть до "Дня" -грезят о штыке ("да будет он благословён"), но - поздно! Поздно!» Когда именно будет резня, пальба, восстание, погром в Петербурге, она ещё не знала, но что это будет, не сомневалась .
«Нельзя молчать!» - так озаглавил Горький свою статью в «Новой жизни» от 18 октября по поводу подобных ожиданий и слухов. Он считал уместным спросить: «Неужели есть авантюристы, которые видя упадок революционной энергии сознательной части пролетариата, думают возбудить эту энергию путём обильного кровопускания?» И предлагал молчащему ЦК большевиков опровергнуть эти слухи: «Он должен сделать это, если он действительно является сильным и свободно действующим политическим органом, способным управлять массами, а не безвольной игрушкой настроений одичавшей толпы, не орудием в руках бесстыднейших авантюристов или обезумевших фанатиков»2.
«Антибуржуазная» (а тех условиях - так уж выходило - антиинтеллигентская) направленность грядущего переворота внушала ужас и парализовала остатки политической воли к сопротивлению одних, но и заставлял других предпринять определённые действия, направленные или на предотвращение приближающейся бури или же, напротив, на то, чтобы попытаться использовать её энергию в своих личных целях.
Сознавая, что в большевизме есть идейная сила, хоть и чувствуя её только как дикую и разрушающую силу, некоторые из «высоколо-бых» интеллигентов задумывались над тем, что ей противопоставить. Но оказывалось, что нечего: не было понимания и сочувствия со стороны народа, не было и достаточной воли, чтобы можно было противопоставить её величайшему напряжению воли большевиков, которое позволяло им идти на величайшие жертвы (жизни собственной и других) ради того, что они считали своей высшей целью. А среди тех, кто не только считал необходимым преградить большевикам дорогу к власти, но и обладал для этого достаточной волей (это были в первую очередь офицеры), почти никто не хотел защищать Керенского и возглавляемое им Временное правительство. «В эту секунду нет стана, в котором надо быть, - констатировала 24 октября Гиппиус. - И я определённо вне этой унизительной... "борьбы". Это пока что не революция и не контрреволюция, это просто - "блевотина войны"»3.
В последней, четвёртой главе - «Тот самый «грядущий Хам» или новый мессия?» - исследуется отношение различных кругов интеллигенции к Октябрьскому восстанию и установлению советской
1 Гиппиус 3 Н. Запись от 30.09 17. ИЫ же Дневники... С. 203.
1 Горький М Нельзя молчать! // Новая жизнь. 18.10.17. № 156 // Его же. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре.(1917 - 1918 гг).. С. 75 - 76. 5 Гиппиус З.Н. Запись от 30.09.17. // Ее же Дневники... С. 213 - 214.
'" '* •, ' J
власти. *'
Изложив в первом параграфе ленинскую программу использования интеллигенции, диссертантка ставит вопрос, действительно ли Ленин надеялся на то, что активное сопротивление окажут лишь верхушки служащих. Для неё нет сомнения в его решимости не только сломить какое бы то ни было сопротивление, но и заставить работать на новую власть как капиталистов, так и интеллигенцию, служащих. Она отмечает также, что, говоря о «буржуазной интеллигенции», вождь большевиков имел в виду лишь её служилую часть («инженеры, агрономы, техники, научно-образованные специалисты всякого рода»). Между тем абсолютно нельзя себе представить, чтобы он не знал, какую роль в революционном движении России играла и продолжает играть та часть интеллигенция, которая не служила ни в государственном, ни в народнохозяйственном аппарате, а причислялась к людям свободных профессий, находила применение своим способностям в литературе, театре, живописи, музыке, наконец, в адвокатуре. Именно эти люди в решающей мере формировали общественное мнение, игнорирование которого так дорого обошлось царизму. Но в статье Ленина «Удержат ли большевики государственную власть?»- ни слова! Почему же?
Оговорившись, что ответ на этот вопрос может быть дан только в рамках предположения, автор данного исследования указывает на то, что в такие поворотные в мировой истории моменты, вроде того, что тогда переживала Россия, конечное слово принадлежала всколыхнувшимся к небывалой активности низам, настроенным сугубо антибуржуазно, то есть антиинтеллигентски, и никакое «общественное мнение» ему не было указом. Мало того, умело манипулируя этими низами, их можно было направить против этого самого «общественного мнения», чтобы разгромить его и подчинить себе. Но такую печальную для себя перспективу хорошо представляла и интеллигенция. Считая себя выразителем коренных интересов народа и колоссально много сделав для поднятия его культурного, да и материального уровня, она в то же время остро ощущала свою социальную самость и уж ни в коем случае не причисляла себя к тем, кто находится «в полупролетарском или полупролетарском положении». Начиная с 1905 года немалая её часть с испугом взирала на то, как неграмотные, тёмные массы, поднимаясь к активной жизни, обрушивают накопленные ими за века горы ненависти не только на эксплуататорские классы, но и на интеллигенцию. Вот почему она в большинстве своём так страшилась «грядущего Хама», который, как отмечалось уже выше, олицетворялся в её глазах в образе Ленина. И видеть его вершителем судеб страны ей явно не хотелось. В этом, по мнению автора, и заключается объяснение тому, почему подавляющая часть людей умственного труда отрицательно встретила большевистский переворот.
Смутные чувства, охватившие многих представителей средних слоёв в момент падения Временного правительства в ночь с 25 на 26 октября 1917 года, довольно точно отразил писатель Леонид Андреев. У него болела голова, давало знать о себе сердце, так что приходила мысль: «А пожалуй, неплохо, если убьют, хороший конец. Слишком много мучений будет и для тела и для души, если победят большевики. И почти невозможно вообразить, что это значит: победа этих людей, их власть, их правление»1. Убедившись 27 октября в том, что большевики всё-таки стали правительством России, властью, он предпочёл с женой и сыном на время уехать в деревню (в Териоки, то есть в Финляндию, вскоре отделившуюся от России), откуда писал в Москву: «Бессмысленное, не воображаемое даже воображением, становится единственно реальным и сущим... Они будут управлять Академией наук, университетами, издавать законы, они, безграмотные. Ясно, что этого не может быть, но это есть, существует, это факт! И я ничего не могу понять... Конечно, это скоро кончится - но когда, но как? Этого в истории ещё не бывало... Восстание тьмы против знания, глупости против ума»2.
И вполне понятна реакция чиновников при появлении в их ведомствах народных комиссаров. «Замечательно, что этих министров (то есть народных комиссаров - авт.) в соответствующих министерствах не принимают и не признают, - записывал 27 октября отставной генерал Ф.Я. Ростковский. - Все центральные учреждения и главные управления приостановили работы»3.
Затрагивая такой мало исследованный вопрос, как попытка интеллигенции организовать сопротивление новой власти, причём не только вооружённым путём (так называемая белая гвардия, состоявшая главным образом из юнкеров и студентов), но и путём массового неповиновения (чиновники министерств и городские служащие, учителя и врачи), получившего название «саботаж», автор особо подчёркивает, что именно интеллигенция, а не буржуазия и помещики, как до сих пор считается, на первых порах составляла главную силу в лагере противников народных комиссаров. Чувством и разумом выступая против решения спора оружием, боясь ещё худших последствий «кровавого подавления большевистской авантюры», Лихтенштадт приходил 29 октября к выводу, что «единственно правильный метод - это полная изоляция большевизма, лишение его той атмосферы государственно-общественного сотрудничества и сочувствия, без которой он должен задохнуться»4.
31 октября в газете «Воля народа» напечатана очередная заметка из дневника Пришвина «Убивец!». Таковым автор считал вождя
' Андреев Л. Я О Б ■ Дневники (1914-1919). Письма (1917 - 1919)... С. 31 - 32.
г Там же С. 196.
3 Ростковский Ф.Я. Дневник для записывания... С.319.
4 Минувшее Исторический альманах [Вып.]20. - М,- СПб ■ «АШепешп» и «Феникс», 1996. С 148 -149
большевиков. «С первого же дня его выступления мы почувствовали, что это вор. "Вор! " - первые сказали чиновники. Государственные учреждения перестали работать, и все увидели, что это не министр, а вор, голый вор. С этого момента все эти сочинённые классовые перегородки упали, все партии закричали: "Убивец!"»1
Угрозой голодной смерти (забастовщиков увольняли со службы и лишали права на пенсию, выселяли из казё1нных квартир), арестами наиболее активных и обещаниями заманчивых перспектив большевикам удалось покончить с саботажем. Но сопротивление оружием слова не прекращалось ещё некоторое время, пока летом 1918 года не были закрыты все неофициальные газеты.
Сопротивление интеллигенции было обречено на поражение и в силу идейно-политической раздробленности и организационной слабости, и в силу проявленной большевиками безоглядной решимости и воли в завоевании и укреплении власти, и в силу отсутствия должной поддержки со стороны буржуазии, и, наконец, в силу того, что обожествляемый интеллигенцией народ видел в ней не пример для подражания, а нечто враждебное себе.
Во втором параграфе - «Штрейкбрехеры или певцы революции7» - речь идёт о той части интеллигенции, которая предпочла пойти, в силу самых различных причин, на деловое сотрудничество с новой властью, оставаясь при этом на своих прежних идейно-политических (либеральных, народнических или меньшевистских) позициях ити даже (в лице некоторых своих представителей, причём очень видных) искренне, с открытой душой приветствовали её.
С 26 по 28 октября был безвыходно в Смольном Иваяов-Разумник, примыкавший к левым эсерам2. Вспоминая два года спустя эти «трудные - но радостные - дни и месяцы», он писал Белому: «Только в вас и ещё в Блоке нашёл я поддержку, сочувствие, единомыслие»3. К этой группе примыкал и С. Есенин, который также не без гордости вспоминал позже, что «был всецело на стороне Октября, но принимал всё по-своему, с крестьянским уклоном»4. Принимать или не принимать? Такого вопроса не было для Маяковского: «Моя революция!» - говорил он5.
Любопытно и то, что никто из упоминавшихся выше поэтов и литераторов, пребывавших в дни переворота в Смольном, не предложил своих услуг «Правде». Почему? Ответ напрашивается сам собой. Даже наиболее радикальным из них, сочувствовавшим и даже разделявшим идеи мировой революции, большевистская партия казались чуждой им если не политически, то социокультурно: там, ибо
1 Пришвин М М Цвет и крест. Неизвестные произведения 1906 - 1924 голов.. С 107
2 Цит по- Литературное наследство Т 92 - Александр Блок- Новые материалы и исследования Кн 2 - М «Наука», 1981 С 377.
3 Там же
4 Есенин С Собрание сочинений. Т 5 -М,1962 С. 22.
5 Маяковский В В. Собрание сочинений в 13 томах Т 1 - М., 1955. С. 25.
в ней, в отличие от всех других политических партий, не «пахло» интеллигенцией. Её там было очень и очень мало. К тому же среди них не так уж и много насчитывалось таких, кто не был бы заражён характерными для подполья и эмиграции фанатизмом и сектантством, делящим всех людей на своих «праведников» и чужих «грешников», а также спайкой «своих» железной дисциплиной и послушанием вождю. Для того же «горлана и главаря» Маяковского такая «компания» не очень-то подходила. А вот Блоку и Есенину более симпатичными казались эсеры левого толка.
Некоторые представители художественной интеллигенции полагали, что революция облегчит им творчество в поиске новых форм. Таким был, например, Всеволод Мейерхольд. Много лет спустя руководитель Камерного театра А.Я. Таиров признавался: «Как мы рассуждали? Революция разрушает старые формы жизни. А мы разрушаем старые формы искусства. Следовательно, мы - революционеры и можем идти с революцией»1.
Но были в среде интеллигенции и люди, вовсе не разделявшие взглядов большевиков и левых эсеров, но согласные идти на сотрудничество с ними ради дела. Этим делом могло быть и сохранение исторических и художественных ценностей. Уже 26 октября Бенуа консультировал комиссаров ВРК о тех мерах, которые необходимо принять для охраны имущества в Зимнем дворце2. Не все знавшие и дружившие с ним, одобрили его сотрудничество с наркомом по просвещению Луначарским. Так, график Г.С. Верейский писал ему: «Я не стану говорить об общих муках, общих у меня в данный момент с миллионами людей, у к-рых переворачивается душа от того неслыханного торжества насилия, обмана и лжи, что принесла с собой победа большевиков. <...> С вами я хочу сейчас говорить о другом. Меня мучает вопрос о том, как отнеслись вы, Александр Николаевич, к большевистскому погрому с самого его начала? Я знаю, что вы питали симпатии к большевикам. Но разве может быть вопрос о тех или иных политических симпатиях там, где возможно лишь одно отношение - "по человечеству"?»3
Курьёзным было и для профессора Готье «встречать среди большевически настроенных людей большие и крупные умы - или, по крайней мере, людей, которые такими считались - вроде Тимирязева»4.
Не легко приходилось тем, кто шёл на сотрудничество с новой властью. Они подвергались бойкоту в кругу ранее им близких людей. Например, на заседании общества беллетристов «Среда» один из 60 присутствовавших, Орлов, указывая на Серафимовича сказал:
1 Цит.по' Лапшин В П Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году С 209
1 См.: Известия ВЦИК. 7.11.17.
3 Цит по' Там же С 213-214
4 Готье Ю.В Мои заметки... С. 50.
«Он принял на себя заведование литературно-художественным отделом в московских "Известиях СРиСД". Тем самым он присоединился к теперешним захватчикам власти, и места ему среди нас не должно быть». Его поддержал Евгений Чириков: «Хотя он мой бывший товарищ по работе в «Знании», я не могу подать ему руки»1.
8 декабря в газете «Вечерний звон» появился литературный фельетон Антона Крайнего (псевдоним 3. Гиппиус), в котором Блок вместе с Белым, Бенуа, Горьким и другими деятелями литературы и искусства, проявляющими ту или иную степень лояльности по отношению к новому режиму, а также Л.Андреев, отстраняющийся от политики, отнесены к разряду «не людей», то есть тех, кто не умеет делать выбор, не способен на жертву ради выбора: «Наши русские современные писатели и художники, вообще всякие "искусственники", все - "варвары" и "не люди ещё"»2.
20 февраля в левоэсеровской газете «Знамя труда» печатается стихотворение А. Блока «Скифы». Некоторые его строчки тогда, когда немцы и австро-венгры, объявив о прекращении перемирия, двинулись вглубь страны, не встречая никакого сопротивления, воспринимались как утопическая программа реальных действий: «Мы широко по дебрям и лесам / перед Европою пригожей / расступимся' Мы обернёмся к вам / своею азиатской рожей! / Идите все, идите на Урал! / Мы очищаем место бою / стальных машин, где дышит интеграл, / с монгольской дикою ордою!» В химерических видениях поэта сквозило представление о каком-то грандиозном «возмездии», которое постигнет Европу, ополчившуюся на «музыку» русской революции, о катастрофе, ожидающей западную цивилизацию, если она останется глуха к призыву: «В последний раз - опомнись, старый мир! / На братский пир труда и мира, / в последний раз на светлый братский пир / сзывает варварская лира!»3 Сам Блок 21 февраля так комментировал это стихотворение и ситуацию в стране: «Больше уже никакой "реальной политики". Остаётся "летать"»4. Любопытно, что и многие большевистские и левоэсеровские политики находились в те дни в этом опьянено-тревожном настроении полёта.
3 марта в той же газете» печатается поэма А. Блока «Двенадцать». Она принадлежит к тому удивительному роду художественных произведений, которые столь же хрестоматийно известны, сколь и неоднозначно оценивается до сего времени. Её анализу и истолкованию, а также ожесточённой полемике вокруг неё в диссертации посвящено несколько страниц.
В третьем параграфе - «"За что?" Мучительные вопросы и по-
' Известия Московского совета рабочих и солдатских депутатов 6 12 17
2 Крайний А Литературный фельетон II Вечерний звон 8 12 17 №30 С 3 (Цитпо Литературное наследство
Т 92 Кн 5. - М., 1993. С. 752. Публ В.И.Якубовича). ' Блок А Скифы
4 Цит по Турков А Александр Блок - М • «Молодая гвардия» (серия «Жизнь замечательных людей», вып 15), 1969. С 291.
иски ответа на них» - исследуются попытки интеллигенции осмыслить, почему столь желанная ею революция приняла такие неприемлемые для неё формы и содержание.
Одним из первых пытался найти на этот вопрос Василий Розанов. Обосновавшись осенью 1917 года в Сергиевом Посаде, он начал писать и печатать там за свой счёт отдельными выпусками «Апокалипсис нашего времени». И уже в первом из них, который он стал рассылать подписчикам к концу ноября, вся вина за то, что «Русь слиняла в два дня, самое большее - в три» и что от неё не осталось ничего («остался подлый народ»), возлагалась им на интеллигенцию, а точнее - на писателей, на литературу: «В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленом, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить - чтобы народ хотя бы научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косьбы сделать ("вывозим косы из Австрии" - география). Народ жил совершенно первобытно с Петра Великого. А литература занималась только, "как они любили" и "о чём разговаривали"». И вот результат: в России нет ни одного аптекарского магазина, сделанного и торгуемого русским человеком, не знает он, как извлекать йод из морских трав, не умеет даже намазать горчицы разведённой на бумаге с закреплением её «крепости» и «духа»1. Кое-что из здесь им изложенного он слышал, наведываясь в Москву к своим друзьям С.Н. Булгакову, H.A. Бердяеву, М.О. Гершензону, слушая их лекции в Религиозно-философском обществе. Полгода спустя такого рода мысли и выводы были более чётко и развёрнуто сформулированы теми же Бердяевым и Булгаковым в сборнике «Из глубины», но приоритет их озвучивания несомненно принадлежал Розанову.
Параллельно с этим Н. Устрялов стал склоняться к признанию того, что большевистская стадия русской революции «истинно народна», стихийна, что в ней проявились подлинность и закономерности, свойственные народному бунту, в чём ему виделась опасность и непредсказуемость дальнейшего развития революции. 26 ноября в газете «Утро России» напечатана его статья «Русский бунт», в которой, отмечалось, что вождь пролетариата Ленин «братается с мужиком» и страсть к разрушению объединяет их, что советские вожди со всеми своими нелепыми и безграмотными декретами «подлинно народны» именно потому, что в Смольном обосновалось немало «наших национальных типов», известных из русской литературы, что именно они - Молчалины, Хлестаковы, Рудины, Верховенские, Смердяковы - «выдвинулись на авансцену русской жизни». Да, сам большевизм порождён русской интеллигенцией, но бессознательно подхвачен русским народом, который, сбросив с него идейную интернационалистическую оболочку, с радостью оценил «его разруши-
1 Розанов В.В Апокалипсис. Вып. № 1. // Его же. Мимолетное. Собрание сочинений под обшей ред. А.Н.Николюкина. - М: «Республика», 1994. С 414-417.
тельный пафос». (Эту мысль о «национальных типах», выдвинувшихся в результате революции на авансцену русской жизни, полгода спустя почти дословно повторит тот же Бердяев). В большевизме «как в фокусе сконцентрировались пороки русской души, послужившие источником и основой нынешней катастрофы». Но природа этой души, по мнению Устрялова, двойственна, и в ней присутствуют не только разрушительные, но и созидательные начала. Поэтому борьба с большевистской властью есть борьба с бунтарской, анархической частью русской души той её другой части, которая создала Великую Россию и способна предотвратить её разрушение, преодолеть «исконно русский хаос». Эта борьба отражает дилемму: или путь анархического бунта или путь великого государства1.
Самое страшное, что есть в происходящей революции. Короленко видел в том, что «психология всех русских людей - это организм без костяка, мягкотелый и неустойчивый», в отсутствии «устойчивой, крепкой, светящей свыше временных неудач и успехов» веры. «Для нас "нет греха" в участии в любой преуспевающей в данное время лжи. Мы готовы вкусить от идоложертвенного мяса с любым торжествующим насильником». Не все это делают с обнажённой низостью, но многие это всё-таки делают из соображений бескорыстно практических, т.е. всё-таки малодушных и психологически-корыстных. «И оттого наша интеллигенция, вместо того, чтобы мужественно и до конца сказать правду "владыке народу", когда он явно заблуждается и даёт увлечь себя на путь лжи и бесчестья, - прикрывает отступление сравнениями и софизмами и изменяет истине». Быть может, самой типичной в этом смысле являлась, по мнению Короленко, "модернистская" фигура Луначарского: «Он сам закричал от ужаса после московского большевистского погромного подвига... Он даже вышел из состава правительства. Но это тоже было бесскелетно. Вернулся опять и пожимает руку перебежчика-Ясинского и... вкушает с ним "идоложертвенное мясо" без дальнейших оглядок в сторону проснувшейся на мгновение совести... Да, русская душа какая-то бесскелетная»2.
В журнале «Народоправство» от 7 декабря историк права H.H. Алексеев делился таким «лукавым» политическим прозрением, часто возникающем у него в последнее время. Ему начинало казаться, что большевистский режим в своей первооснове «есть более органическая вещь, чем нам это в ослеплении нашем кажется», что в большевистской "хирургии" революция как будто нашла некоторую форму бытия, более прочную и длительную, чем Временное правительство и «прочие более или менее хитроумные изобретения». Автор находил поистине трогательной веру, с какой принимает тёмный народ русский большевистскую хирургию: «Поговорите с любым солдати-
1 Устрялов Н Русский бунт //Утро России 26 11 17
2 Короленко В. Дневник. Письма. 1917-1921... С.48-49.
ком, но потемнее, из пермяков, из настоящих "древлян". Он глубоко верит, что нынешний режим есть режим заправский, в котором правда-истина соединилась с правдой-справдливостью, и люди честные стоят у власти, - не то, что те, половинные социалисты, какие раньше правили». Поэтому большевизм, высказывал неожиданное для многих суждение Алексеев, пожалуй, прочнее, чем думают некоторые. В доказательство этого предположения он ссылался на состав недавней московской демонстрации в поддержку Учредительного Собрания: «Самые настоящие "цензовики", не ниже четырёхклассного городского училища. А все остальные - имя им миллион - они с народными комиссарами и с настоящей "народной властью"». Касаясь же утверждений, что народ обманули, ввели в заблуждение, он писал: «Конечно, обманули, но есть обман и обман. Большевистский обман на руку самым дурным чувствам и инстинктам русского народа. На этих инстинктах, конечно, не построишь государства, однако на них довольно продолжительное время может держаться политическое бытие революционной эпохи». Какой же может быть эта продолжительность? Алексеев давал такой ответ: «Большевистская хирургия в её временном бытии может кончиться или тогда, когда воры перережут друг друга, или тогда, когда "цензовики" сумеют противопоставить большевизму физическую силу. Но в плане "нуме-нальном" большевизм кончится тогда, когда вся Россия получит образование не ниже городского училища и превратится в государство тех "цензовиков", представители которых дефилировали по Тверской 3-го декабря»1.
Некоторой новизной по сравнению с другими кадетскими и эсе-ро-меньшевистскими публицистами, стремлением уйти от упрощённого толкования происходящих в России событий отличались размышления о большевизме и русской интеллигенции, изложенные Устряловым в опубликованной 24 декабря статье «В рождественскую ночь». Свидетельствуя о весьма серьёзной переоценке им своих прежних толкований и оценок, эти размышления во многом были созвучны идеям будущего сменовеховства. Если пару месяцев назад то, что совершили рабочие и солдаты Петрограда, казалось ему шуткой исторического календаря и революцией отнюдь не политической, а сугубо биологической, то теперь он видел перед собою настоящую, подлинную русскую революцию, развернувшуюся во всю ширь. «Нужно пройти через большевизм. Нужно испытать все искушения этой тяжёлой кары». Конечно, «хаос в душе народа» - «древний, подлинный» - должен быть изжит, прёодолён. Но интеллигенция должна почувствовать «нравственную ответственность за случившееся», за разрушение русского государства, ибо большевистская власть «не с неба слетела, а органически из жизни выросла», а
1 Алексеев Н.Н Современный кризис.//Народоправство. 1917.№ 17. С. 13.
Ленин и Троцкий - «подлинные русские интеллигенты». Да, их программа - «бред..., но ведь нужно же признать что это - бред больной родины, больной России». Несмотря на очевидные разрушительные последствия революции, Устрялов обращал внимание на её огромный созидательный потенциал. «Реализуется известный комплекс идей, пусть ошибочных, пусть ложных, пусть диких, но всё же издавна присущих нашему национальному самосознанию... Идёт процесс отбора крепких, жизнеспособных, здоровых идей». И когда в обществе произойдёт большая переоценка ценностей, а интеллигенция отречётся от многих увлечений и привычек, и, умудрённая опытом горя и крови, «пересмотрит свою историю и покается», тогда вслед за эпохой разрушения наступит творческая эпоха и в муках возродится «новая Россия, новая нация, новая культура», а эта последняя, «закалённая революционным пламенем, <...> будет достойна великого народа»1.
Своего рода эсхатологическое оправдание происходящего можно увидеть в «Песнях смутного времени» Вяч. Иванова, опубликованных журналом «Народоправство» 25 декабря: «Может быть, это смутное время / очищает распутное племя? / Может быть, эти лютые дни - / человечней пред Богом они, / чем былое с его благочинной / и нечестья и злобы личиной? / Землю саваном крыли сугробы; / красовались, повапленны, гробы; / растопилась снегов белизна, / и размыла погосты весна: / и всплывает, - не в омутах ада ль? - / в пою-водье стремительном падаль... / Если ярость одержит сердца / и че видишь Христова лица / в человеке за мглой Вельзевула, - / не весна ли подполья пахнула? / не Судьи ль разомкнула труба / замурованных душ погреба?» 2
Среди подобного рода публикаций того периода, когда советская власть триумфально шествовала по стране, весьма примечательно стихотворение «За что?» В.Брюсова, преисполненное горестным размышлением об обрушившихся на интеллигенцию гонениях и о том, по какой причине их приходится терпеть. «"За что?" - стенали в Мицраиме / евреи, руки ввысь воздев... / Но с каждым днём неумолимей / порабощал их Божий гнев. / "За что? Грех наших своеволий / казнишь иль за отцов-детей?" / И длился вопль года, доколе / не встал Воитель-Моисей. / И тот же стон над нами ныне / стоит: "За что?" - Ответа нет... / Но, может быть, и к нам в пустыне / с Синая прогремит ответ. / "За что? - За то, что вы терпели, / дрожа, насилие и гнёт; / не научили - к высшей цели / стремиться свой родной народ; / что под бичом самодержавья / вы пригибались пять веков; / пред миром, не стыдясь бесславья, / сносили прозвища рабов; / что не сомкнулись вы в едином / порыве - за свободу пасть, / а победив, с чутьём звериным / свою, в добыче, рвали часть: / за ужас долгого
1 Устрялов Н.В В рождественскую ночь.//Утро России 25 12 17 С 1. ! Иванов Вяч Песни смутного времени. П //Народоправство 1917 №18 С 2
позора, / за дни презренья к малым сим, / за грех безволья и раздора - / сегодня целый край казним! / Бьёт срок - сплотиться, чтобы новый / вождь, тот, пред коим где-нибудь / теперь пылает куст терновый, / обрёл готовых в трудный путь"»1.
19 января в газете «Знамя труда» печатается статья А. Блока «Интеллигенция и революция». Специально оговорившись, что тема эта, занимающая его уже десять лет, никогда не рассматривалась им ни с социологической, ни с политической стороны, а, занимала его, «если так можно выразиться», своей музыкальной формой, причём в таком противопоставлении: волею истории интеллигенция (понятие, по его убеждению, антимузыкальное) вступила в отношения борьбы с народом, народной душой, стихией (каждое из этих понятий не исчерпывает всего музыкального смысла слова «Россия»), поэт говорил об обязанности художника «видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которую гремит "разорванный ветром воздух"». Что же задумано? «Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью». (Ну чем, заметим в скобках, не желание Разумника убежать от Мещанина, забежав далеко вперёд?) Но Блок называет это революцией, «когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, раскрывают сковывающие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов». Она сродни природе, и горе тем, кто думает найти в ней исполнение только своих желаний, как бы высоки и благородны они ни были. «Революция, как грозный вихрь, как снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное, она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своём водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но это - её частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того оглушительного гула, который издаёт поток. Гул этот, всё равно, всегда - о великом» .
Блок, как известно, не был марксистом. Оправдывая большевизм как полйтическое течение, наиболее верно, по его мнению, выражающее «музыку революции», он в тоже время симпатизировал скорее не большевикам, а их тогдашним союзникам - левым эсерам. Они в его глазах были ближе к разбушевавшейся народной стихии, чем склонные к рассудочности Ленин и его сторонники. Не чужды были ему и некоторые идеи левых эсеров, позаимствованные ими у Ницше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он задавался вопросом: «Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всём? который разочаровался в жизни, живёт
'Брюсов В За что' //Мысль. 15 01.18 №3 //Его же Негаданное и несобранное .С 67-68. Характерно, что при первой публикации этого стихотворения в 1928 году вдова Брюсова, как она позже признавалась, по цензурным соображениям отнесла его к 1915 году. (См.: Там же С. 287.Комментарий)
2 Блок А. Россия и интеллигенция. // Знамя труда. 1.02. (19.01) 18.
у неё "на подаянии", "из милости"? который думает, что жить "не особенно хорошо, но и не очень плохо", ибо "всё идёт своим путём", путём... эволюционным?» И повторял, что тем, кто так думает, и жить не стоит. «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: всё или ничего; ждать нежданного; верить - не в "то, чего нет на свете", а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет, и долго не будет». При таком максимализме что может значить какая-то «учредилка»? И что значат в этих условиях вопли по поводу требований народа «долой суды»? Почему дырявят древний собор, валят столетние парки, грабят в барских усадьбах? По поводу усадеб у него был такой ответ: «Потому что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа». При этом он подчёркивал, что знает, что говорит. «Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое - отвечаем мы? Мы - звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать "лучшие"»1. Особая моральная ценность этих слов состояла в том, что их писал не доктринёр, чуждый прелести старых усадеб и потому равнодушный к их гибели, а человек, безумно любивший и материнское Шахматово и менделеевское Боблово, не считавший себя помещиком, знавший, что с именами его предков в памяти окрестного люда не могло быть связано никаких отрицательных воспоминаний о жестокости, насилии, несправедливости и глубоко раненный постигшим разгромом этих двух усадеб.
Свою статью Блок заканчивал двумя выводами. Прежде всего, стыдно сейчас ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать на Россией, над которой пролетает циклон. И потом, если уж говорить о писателях, то их обязанность, полагал он, состоит в том, чтобы «слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавым рёве и звоне мирового оркестра». И, повторив упрёк в том, что «русской интеллигенции точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки», призвал: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте Революцию»2.
Своего рода оппонентами Блока в статьях «Разгромленная интеллигенция» и «Духовный и материальный труд в русской революции», посвящённых памяти Кокошкина и Шингарёва и опубликованных в № 21/22 журнала «Народоправство» от 21 января, выступили священник Сергей Соловьёв и философ Николая Бердяев.
Констатируя, что «народ и интеллигенция стеной стали друг против друга», Соловьёв выражал надежу на то, что, пройдя сквозь очистительный огонь страданий, русская интеллигенция станет более вдумчивой, сознает свои исторические грехи перед народом,
1 Там же
2 Там же
сознает неполноту своего материалистического мировоззрения. «Перед ней неизбежно встанут вопросы: почему из порыва свободы вырос новый, неслыханный деспотизм, кулачное право? почему, когда убито было тело Распутина, его торжествующий дух - дух мужичонки-хлыста - окончательно овладел Россией? отчего бунт и анархия привели Россию к рабству, а дисциплина и лояльность европейских народов верным, хотя и медленным, путём ведёт их к свободе? От углубления в эти вопросы, от разрешения их в духе Христа, - зависит многое»1.
Бердяев, в свою очередь, призывал видеть основной конфликт русской революции не там, где он обычно видится, не в столкновении классов трудящихся с классами имущих, не в борьбе пролетариата с буржуазией, а прежде всего в столкновении жизненных интересов и в противоположности жизнеощущений между представителями труда материального и труда духовного: «Это очень глубокий конфликт труда количественного с трудом качественным, это -трагическое для России столкновение "народа" с "культурой". Народ восстал против дела Петра и Пушкина». Причины такого характера «нашей несчастной революции» виделись ему очень глубоко в прошлом. Русский «социализм» являлся для Бердяева лишь западноевропейским наименованием для русской отсталости и русского бунтарства. В России, стране по преимуществу мужицкой, культурно отсталой и недисциплинированной, в тот исторический час, когда с народной стихии спали все внешние сдержки и оковы, а внутренние духовныя скрепы и связи расшатались, столкнулись прежде всего мир умственного, образовательного, духовного ценза с миром количественной массы, не обладающей такого рода цензом. В этом конфликте начало качественное пало жертвой количественного начала. Восстание мира «социалистического» против мира «буржуазного», по его мнению, вовсе не означало «борьбу организующего труда противъ исключительного господства капитала, противъ власти имущих». Это - момент второстепенный: солдатская масса, делающая революцию, неспособна к положительной организации труда, она дезорганизует труд и создаёт царство лени и безделья. Гораздо существенней и характерней в русской революции «восстание необразованных против образованных, некультурных против культурных, невежественных против знающих, количественного, материальнаго труда против труда же, но качественного, духовного», которому, нужно всегда помнить, принадлежит производительная инициатива, «руководительство в хозяйственной жизни страны». Вот почему, делался им вывод, русская революция «оказалась не прогрессивной и не творческой, а реакционной, дающей явное преобладание
'СоловьввС Разгромленная интеллигенция //Народоправство 1918 №21/22
элементам тьмы над элементами света»1.
Повторяя, что «"народ" в разливе и торжестве большевизма прежде всего восстал против "интеллигенции"», и признавая в этом своеобразное возмездие за тот нигилистический яд, которым «интеллигенция» отравила «народ», Бердяев в то же время отмечал, что есть в этом также страшная иллюзия и самообман. «В действительности "народ" является орудием в руках кучки демагогов, он остаётся в состоянии рабском, так как не имеет освобождающаго света. Жертвой же народной злобы, раздуваемой демагогами для властвования над "народом", падает прежде всего наиболее культурный слой нашей интеллигенци, наименее повинный в распространении нигилистическаго яда». В сущности одна часть интеллигенции, «преимущественно наехавшая из-за границы, наиболее чуждая народу, но самая демагогическая по своим приёмам», изгоняет другую её часть, «более деловую, ближе стоявшую к народной жизни и не прибегающую к бессовестной демагогии»2.
Где же выход? Бердяеву он видился в том, чтобы, когда после оргии наступит тяжёлое отрезвление, заняться одухотворением представителей материальнаго труда, без чего нельзя восстановить значение труда духовного. «Без духовного оздоровления не возможно и экономическое развитие нации. Ныне же обездушенная русская революция совершает реакционное и мракобесное злодеяние. Против этой «шигалёвщины» должны восстать все духовныя силы России»3.
3/16 февраля в правоэсеровской газете «Воля страны» Пришвин опубликовал статью «Большевик из "Балаганчика" (Ответ Александру Блоку)». Начиналась статья с констатации того факта, что выходить на борьбу во имя человеческой личности против насильников невозможно: чан стихии кипит. Блок обвинялся автором в том, что он «с чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана» и «приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции, потому что нам терять нечего: мы самые настоящие пролетарии». Этот призыв видится ему легкомысленным: «Разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет "пролетарием", нужно последнее отдать, наше слово, чего мы не можем отдать и не в нашей это власти?»4
Узнавая за органической концепцией культуры, связывающей дух со стихией, знакомое стремление русского интеллигента к слиянию с народом, Пришвин тем не менее отвергал блоковский революционный романтизм. Пафос поэта, услышавшего в разрушительном
' Бердяев Н. Духовный и материальный труд а русской революции //Народоправство 1918 № 21/22 С 3
2 Там же С 5
' Там же. С. 6
4 Пришвин М Большевик из «Балаганчика» (Ответ Александру Блоку) //Воля страны 1602.18
движении стихии музыку, был для него неприемлем. Он увидел дистанцию между пророчествующим голосом Блока, принявшего революцию за подлинное преображение мира, и реальностью, и услышал в этом голосе нотки «кающегося барина», от почвы оторванного, а потому смахивающего на балаганного большевика. Протестуя против стремления эстетически оправдать революцию, Пришвин показывал, что «дух музыки», то есть эстетическая форма, в которую Блок облёк революцию, не соответствует внелитературному, внеху-дожественному контексту бытия.
Полемика вокруг высказанных Блоком мыслей не исчерпывала содержание идейных поисков, характерных для начала 1918 года.
На своего рода самоистязание походило покаяние бывшего мо-нархиста-нововременца Меньшикова: «Ты оказался не выше здоровой клетки в чахоточном теле - видит гибель и уйти от неё не может. Вот оценка твоей родины и тебя вместе с ней. Надоело природе терпеть вас. Восстанавливающая сила жизни выбрасывает испорченное»1.
Отказаться от идеи «чрезмерно широко и несколько бестолково понятого демократизма» призывал Устрялов, ссылаясь на то, что государственный строй страны «должен соответствовать правосознанию и уровню культурного развития её народа». Плохо, когда по каким-то причинам сдерживается это развитие, но не менее опасно, «когда неразвитому, незрелому и отсталому народу навязывают совершенный политический строй, абсолютно ему чуждый»2.
Размышляя о трагических поворотах и тупиках в судьбах страны, об их удивительной повторяемости, пытались глубже разобраться в ошибках и вине российской интеллигенции философ Сергей Ас-кольдов, работавший в Казани над статьёй «Религиозный смысл русской революции», а также его московские коллеги Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк и другие будущие соавторы сборника «Из глубины».
В заключении подводятся итоги проведённого исследования и делаются следующие выводы.
1. Российская интеллигенция в лице лучших своих представителей давно желала политических перемен, сея недоверие в народе к монархической власти, указывая на её неспособность править, особенно в условиях войны, и когда эти перемены, наконец, наступили и самодержавие силами петроградских рабочих и солдат было свергнуто, приветствовала в подавляющем своём большинстве переворот, хотя от революционных методов, обеспечивших победу, она была далеко не в восторге, ибо плоды этой победы пришлось делить с теми, кого она считала не способными должным образом решать про-
' Меньшиков М О. Дневник 1918 года. // Российкий архив. (История Отечества в свидетельствах и документах ХУШ-ХОСвв). Выпуск IV.-М.: Трите»- «Российскийархив», 1993 С. 18-19.
2 Устрялов Н. Уроки революции. // Утро России. 16.03.18.
блемы демократизации, социально-экономической модернизации и внешней политики (войны и мира).
2. Временное правительство, многие министры которого были выходцами из интеллигенции и представляли в нём её интересы, находились под жёстким контролем Совета рабочих и солдатских депутатов и фактически проводили в жизнь его программу, отнюдь не всегда отвечавшую её пониманию интересов страны. Это особенно наглядно проявилось в подходах к внешней и аграрной политики.
3. В этих условиях интеллигенция не смогла овладеть революционным движением, дать ему лидеров и была обречена на усиливающуюся неприязнь к себе со стороны народных низов, принимавших её за буржуазию.
4. Безрезультатными оказались и поиски русского Наполеона, который сумел бы ограничить разрушительные тенденции революционной стихии и направить её энергию в созидательное русло, и попытки как-то самоорганизоваться, создать собственное политическое представительство в лице советов депутатов трудовой интеллигенции.
5. Также безуспешными оказались усилия, направленные на то, чтобы не допустить к власти крайних революционеров - большевиков и левых эсеров.
6. Вопреки расхожему мнению, не буржуазия и помещики, а именно интеллигенция первой встала на путь сопротивления большевистскому режиму. В силу ряда объективных и субъективных причин это сопротивление не имело и. как нам представляется, не могло иметь успеха, что поставило интеллигенцию перед мучительной альтернативой: либо продолжить сопротивление, но уже не в качестве самостоятельной силы, а в роли не очень-то желанной союзницы других антисоветских сил, либо пойти на отнюдь не равноправное, можно сказать даже подневольное сотрудничество с новыми властителями, либо эмигрировать. Все эти тенденции уже стали проявляться сразу же после Октября 1917 года.
Изучение темы «Революционные события 1917 - начала 1918 гг. в России глазами интеллигенции» позволяет определить проблемы, которые требуют более тщательного и глубокого исследования. К ним относятся:
- во-первых, разработка теоретико-методических основ исследования общественно-политических настроений российской интеллигенции в революционные годы, её роли в то время и особенно её отношений с властью, с одной стороны, и с массами, с другой;
- во-вторых, тщательный сбор и отбор массовых источников, включая материалы прессы и документы личного происхождения:
- в-третьих, более критичное отношение к таким источникам как мемуары и переработанные, подвергнутые цензуре или, наоборот, дополненные дневники;
- в-четвёртых, массовое введение в научный оборот материалов, освещавших работу различных организаций интеллигенции, как документальных протокольного порядка, так и газетно-журнальных;
- в-пятых, создание полной эвристической системы, опирающейся на новейшие информационные технологии и позволяющей отыскивать сведения о событиях и лицах в различных видах опубликованных и архивных источников, относящихся как к самой теме, так и к истории революции и гражданской войны в России.
Массовый анализ взглядов и высказываний самых различных представителей интеллигенции того времени способен вывести изучение недавнего (не только революционного) прошлого нашей страны на новый качественный уровень, помочь усовершенствовать методологические и гносеологические основы познания истории.
К диссертации приложены иллюстрации плакатного и юмористически-сатирического характера, а также именной указатель.
По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объёмом:
1. Февраль 1917-го глазами поэтов и писателей. // Наше отечество. Страницы истории: Сб. науч. статей. / Моск. гос. обл. ун-т. Вып. 4. - М., 2005. С. 75-89. 1,2 п.л.
2. Июльские дни в Петрограде глазами литераторов. II Проблемы отечественной и зарубежной истории. Сб. статей по итогам ежегодной научно-теоретической конференции студентов, аспирантов и преподавателей МГОУ. - М., 2005. С. 45-50. 0,6 п.л.
3. Октябрь 1917 года глазами интеллигенции. // Наше отечество. Страницы истории: Сб. науч. статей. / Моск. гос. обл. ун-т. Вып. 3. - М., 2005. С. 86-100. 1,2 п.л.
é
Уол. пя."л. 3, Î
^жptж 400
Р«и™фУГСХА
43М01, г.Удышою, «улш; Нош* Веясп, 1
Ш207 9 t
РНБ Русский фонд
2006^ 20635
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Гердт, Наталья Евгеньевна
Введение
Глава 1.
§ 1.1.
§ 1-2.
§ 1-3.
Глава 2.
§ 2.1.
§ 2.2.
Глава 3.
§ 3.1.
§ 3.2.
§ 3.3.
Глава 4.
§ 4.1.
§ 4.2.
§ 4.3.
Введение диссертации2005 год, автореферат по истории, Гердт, Наталья Евгеньевна
Общая характеристика диссертации.
Революции, корённым образом меняя курс исторического процесса и ускоряя его темпы, прерывая его постепенность, означая качественный скачок в его развитии, всегда оставляли за собой такой впечатляющий след и такую историческую память, что. и столетия спустя привлекают к себе внимание как простых людей, так и исследователей. Даже когда за давностью лет утихают политические споры, то и дело обнаруживаются новые факты и явления, по-новому высвечивающие или отдельные грани, или, порой, саму революцию. Так что в её изучении и осмыслении навряд ли когда-нибудь можно будет поставить точку.
Любой политический переворот вызывает неодинаковые суждения в обществе, раскалывает его на тех, кто ждёт от него чего-то нового, и тех, кто не желает расставаться с привычным. И этот раскол тем сильнее, чем более этот переворот сопровождается заметными социально-экономическими переменами, вызывая их, давая им значительный простор, или, напротив, направлен на то, чтобы ввести их в определённые рамки, а может быть и свернуть.
У каждой революции есть свои объективные и субъективные предпосылки. К последним историки, политологи и социологи относят деятельность определённых категорий людей, которые, вскрывая противоречия в развитии экономики, общества и государства, показывают, что в этих противоречиях мешает дальнейшему развитию и подлежит устранению, а порою и намечают пути их устранения. Со временем пропагандируемые ими идеи овладевают массами и в той или иной мере начинают воплощаться в жизнь — путём ли реформ, если в их необходимости убеждаются и правящие круги, либо путём революции, если верхи до конца сопротивляются назревшим переменам. • •
В России такая категория людей получила название "интеллигенция". Именно она, особенно та её часть, которая именовалась художественной (поэты, писатели, журналисты, художники, музыканты, критики и т.п.), на протяжении многих десятилетий обличала абсолютизм, выступала защитником народа от притеснений и эксплуатации, требовала скорейших политических, социальных и экономических преобразований. Именно в её среде рождались самые радикальные революционные идеи. Именно из её рядов раздавались призывы к топору.
Не вся интеллигенция противостояла власти. Были Державин, Жуковский, и Тютчев, честно служившие ей. А разве не числился при дворе камер-юнкер Пушкин? Были и такие крупные чиновники, как Грибоедов и Салтыков-Щедрин, у которых отношения с правительством не были такими уж гладкими, а в том, кому служила их сатира, ни тогда, ни сейчас ни у кого сомнений не вызывает. Они тоже внесли немалый вклад в подтачивание устоев царизма.
И вот желаемое стало явью, самодержавие пало под натиском рабочих и солдат. Сама интеллигенция наблюдала за переворотом из окон своих квартир. Но она не без основания полагала, что в этом есть и её немалая заслуга.
- Не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила теперь на деле то, что проповедуется русской литературой уже более 100 лет, - в таких словах взгляды русских писателей на свою роль в подготовке свержения самодержавия выразил профессор Петроградского университета С.А. Венгеров при обсуждении ими проекта приветствия в адрес тех, кто эту революцию совершил1.
1 Декларация петроградских писателей. // Русские ведомости. 11.03.17.№ 56. С. 3.
Но, как это часто бывает в истории, уже первые шаги начавшегося в Феврале 1917 года революционного процесса вызвали у тех же самых литераторов самые различные отклики. И чем дальше развивался этот процесс, тем заметнее становилась разница во взглядах на него. Октябрь 1917 года вызвал в ней новый раскол: одни приветствовали его, другие осуждали, но и среди этих последних не было единства, так как одна часть их стала звать к сопротивлению и пытаться организовать его, а другая посчитала такие действия неконструктивными и по самым разным причинам и поводам сочла для себя возможным пойти на сотрудничество с новой властью.
То, что всё это во многом повторилось спустя три четверти столетия во время и после краха СССР, говорит о необыкновенной актуальности избранной темы.
Объектом данного исследования является российская интеллигенция того времени во всех её ипостасях.
Но при изучении истории интеллигенции сразу возникает вопрос о понятии "интеллигенция". Дискуссии на эту тему ведутся давно.
Термин "интеллигенция" был введён в обиход писателем П.Д.
Боборыкиным ещё в 60-е годы XIX века и из русского перешёл в другие языки. Вначале им обозначались вообще образованные люди. Такого понимания интеллигенции придерживался и В.И. Ленин. Словами "интеллигент", "интеллигенция" им переводились "немецкие выражения Literat, Literatentum, обнимающие не только литераторов, а всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда (brain worker, как говорят англичане) в отличие от представителей физического труда"2. Он считал этих людей классовой прослойкой, обслуживающей интересы тех классов, к которым она примыкала по своему
2 Ленин В.И. Шаг вперёд, два шага назад. (Кризис в нашей партии). // Его же. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 309. Примечание 1. имущественному положению. Исходя из этого, он и строил политику в её отношении.
Но уже тогда, во время первой русской революции, многие начали рассматривать интеллигенцию в более узком и специфически русском смысле. Р.В. Иванов-Разумник в своей книге "История русской общественной мысли" определял интеллигенцию как социологически — несословную, внеклассовую, а этически — антимещанскую преемственную группу, характеризуемую "творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности"3. Эту трактовку интеллигенции, опирающуюся на народническую "субъективную социологию", марксистская критика нашла идеалистической. Г.В. Плеханов в большой статье ("Идеология мещанина нашего времени") протестовал против подобной трактовки понятий интеллигенции и мещанства, как внесословных и внеклассовых, против превращения социологических отношений в этические, отвлечённые от конкретной почвы классовых отношений"4.
По словам Н.А. Бердяева, интеллигенция в России, в отличие от интеллектуалов на Западе, всегда была "идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой", образовавшейся из разных социальных классов, сначала по преимуществу из более культурной части дворянства, позже из сыновей священников и диаконов, из мелких чиновников, из мещан и, после освобождения, из крестьян. Она скорее напоминала "монашеский орден или религиозную секту со своей особой моралью, очень нетерпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими особыми нравами и обычаями, и даже со своеобразным физическим обликом, по которому
3 Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века. Т. 1. СПб., 1907. С. 10.
4 Плеханов Г.В. Идеология мещанина нашего времени. // Сочинения. Т. XIV. - М., 1925. С. 259 - 344. всегда можно было узнать интеллигента и отличить его от других социальных групп"5.
Д.С. Мережковский в "Грядущем Хаме" также отмечал, что "сила русской интеллигенции не в intellectus'e, не в уме, а в сердце и совести". А З.Н. Гиппиус уточняла: "Русская интеллигенция - это класс, или круг, или слой (все слова не точны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия. Слой, по сравнению со всей толщей громадной России, очень тонкий; но лишь в нём совершалась какая-то культурная работа. Он сыграл свою, очень серьёзную, историческую роль". Ещё одной особенностью этого слоя было то, что разделяли его вовсе не профессиональные интересы. Наоборот, "деятели самых разных поприщ — учёные, адвокаты, врачи, литераторы, поэты - все они так или иначе оказывались причастными политике"6. А так как политика, её определение, выработка решений и их реализация в России столетиями были монополизированы царём и его аппаратом, то любое вмешательство в политические дела людей посторонних рассматривалось властями как весьма предосудительное поведение. Уже в силу одного этого, грамотный человек, интересующийся политическими вопросами и проявляющий в этом деле хоть какую-то активность, считался ненадёжным. Само словосочетание "Он политик!" выглядело в нашей стране вплоть до самого последнего времени как выражение подозрения и неодобрения. Вот почему интеллигенция в дореволюционной "была объединена общим политическим, очень важным, отрицанием: отрицанием самодержавного режима"7.
После революции 1905—1907 годов самодержавие вынуждено было пойти на уступки конституционного плана и появился зачаток парламентаризма в виде Государственной Думы с политическими
5Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: Наука,1990. С.17.
6 Гиппиус 3. История моего дневника. И Её же. Петербургский дневник. - М.: "Сов.писатель" и "Олимп", 1991. С. 7.
7 Гипгшус 3. История моего дневника. И Её же. Петербургский дневник. - М.: "Сов.писатель" и "Олимп", 1991. С. 7. фракциями в ней. Народились и "политическими деятели". Но появление этой специальности ничего в сущности не изменило. Даже самый видный "политический деятель" оставался тем же интеллигентом, в том же кругу. Правда, внутри интеллигенции усилились партийные раздоры, но общее неприятие самодержавия осталось. С падением же царизма это самое общее неприятие исчезло, и партийные раздоры, как уже упоминалось выше, превратили некогда единое социальное явление в конгломерат ведущих между собою острую борьбу групп и группировок, выражающих разные, а порою и взаимоисключающие взгляды на идейно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие.
Это дало в дальнейшем возможность большевикам делить интеллигенцию на буржуазную и социалистическую. И хотя и в советское время были такие, кто, вроде философа и филолога А.Ф. Лосева, считал интеллигентами тех, кто "блюдет интересы человеческого благоденствия" и стремится к "переделыванию несовершенств мира"8, в целом же она продолжала рассматриваться как "общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением 'культуры"9. Мало чем отличаются и современные определения этого термина10. Вполне приемлемым считает его и автор настоящей диссертации.
Правда, в иностранных языках слово "интеллигенция" сохраняет определённую русскую специфику. Своеобразие русской интеллигенции как феномена национальной русской культуры, не имеющего буквальных аналогов среди "интеллектуалов" Западной Европы, сегодня является общепризнанным (во всех словарях мира слово "интеллигенция" в близком нам смысле употребляется с пометкой
8См.: Советская культура. 1.01.89.
9 Интеллигенция. // Большая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 10. - М.: "Сов.энциклопедия", 1972. С. 311.
10 См.: Социологический энциклопедический словарь. / Под ред. Г.В. Осипова. - М.: ИНФРА-М - Норма, 1998; рус." как специфическое образование русской истории, национальной общественной жизни). Так, краткий Оксфордский словарь определяет интеллигенцию как "ту часть народа (в особенности русского), которая стремиться к независимому мышлению"11.
Сегодня такого, не формального (наличие диплома об образовании), а содержательного, подхода, учитывающего специфические особенности мышления и социальной психологии, нравственно-этические и мировоззренческие черты этой группы населения, придерживаются и многие отечественные обществоведы12.
Разнообразие дефиниций "интеллигенция" нельзя объяснить только субъективными склонностями разных авторов или неразработанностью вопроса. Оно обусловлено сложностью, многогранностью и динамичностью этой группы. По-видимому, эти два подхода, две составляющие понятия "интеллигенция" нужно не разводить, а пытаться сочетать, признав двуединую природу интеллигенции, которая представляет собой и социальную, и культурную общность.
От определения понятия интеллигенции зависит и определение её численности. Если включать в неё чиновничество и офицерство,
1 7 то можно насчитать 1,5 миллиона человек . Если отказаться принимать в расчёт лиц, профессии которых нельзя отнести к традиционно интеллигентским, то эта цифра уменьшается до 1 млн.14 Есть среди исследователей и мнения о необходимости уменьшить эту цифру до 500 тысяч: её составляли 195 тысяч учителей, 127 тысяч студентов, 33 тысячи врачей (в том числе около 14 тысяч, служивших в то время в армии), по 20 - 30 тысяч адвокатов, инженеров и агрономов, 15
11 Цит.по: Там же.
12 См.: Николаев Н.П. Выстрел в будущее: Заметки о судьбах интеллигенции и гуманитарном образовании //Вестник высшей школы. Сер. 6. История. 1989. № 9.С 20; Розов М.А. Рассуждения об интеллигентности, или Пророчество Ваги-Грана // Вестник высшей школы. Сер. 6. История. - 1989. № 6. С. 12; Севастьянов А. Интеллигенция: что впереди? //Литературная газета. - 21.09.88; Смоля-ков Л.Я. Об интеллигенции и интеллигентности // Коммунист. 1988. № 16. С. 72.
13 См.: Ерман Л.К. Ленин о роли интеллигенции в демократической и социалистической революции, в строительстве социализма и коммунизма. - М., 1970. С. 13.
14 См.: Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. - М.: "Наука", 1972. С. 69. тысяч деятелей литературы и искусства, 10 тысяч научных работников (6 тысяч - научно-педагогический персонал высшей школы и 4 тысячи - работники научно-исследовательских учреждений)15.
История интеллигенции в период кардинальных революционных перемен, её отношение к ним, её взаимоотношения с различными политическими силами и властью и являются предметом данного исследования.
Степень научной разработки проблемы. История российской интеллигенции в переломное для страны время 1917-1918 годов постоянно вызывала интерес у отечественных и зарубежных учёных. Существующая историография проблемы представлена самой разнообразной литературой. Начала она складываться сразу же после революции.
Тему "Интеллигенция и революция" затрагивали в той или иной мере уже современники, а порой и участники тех событий, причём, как те, кто рассматривал Октябрь в качестве дальнейшего продолжения Февраля и активно сотрудничал с советской властью, так и те, кто увидел в большевистском перевороте откат или даже своеобразную контрреволюцию.
В 20-е годы появился ряд работ, в которых с большевистских позиций характеризовалась социальная сущность интеллигенции, её роль и место в революции и строительстве нового общества16. В целом большинство работ первого периода носило публицистический характер. Их главной задачей было дать срочный ответ на актуальные в тот момент вопросы жизни. Ленинская политика по отношению к интеллигенции как носителю специальных знаний и опыта, исходящая из необходимости непременно поставить их на службу
15 См.: Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль - октябрь 1917 г.). - Л.: "Наука", 1988. С. 8-9.
16 См.: Гиринис Е. Ленин о специалистах науки и техники. - Пг., 1924; Полонский В. Заметки об интеллигенции. // Кранная новь. 1924. № 1; Войтоловский Л. Ленин об интеллигенции. // Печать и революция. 1925. № 2; Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. - М.Л., 1926; Ледер В.Л. Специалисты и их роль на производстве. - М., 1926; Толстопятов В. Специалисты в производстве. - Л., 1926; Сурков И. Специалисты и рабочие на производстве. - М., 1927; Этчин И. Партия и специалисты. -М. 1928. и социализма, раскрывалась в книгах, статьях и речах тогдашнего нар
1 7 кома просвещения А.В. Луначарского . Много внимания проблеме отношений между советской властью и интеллигенцией уделял и нарком по военным и морским делам Л.Д. Троцкий. Причём, если на партийных форумах он говорил преимущественно о военных специалистах, то в своей публицистике - о художественной интеллиген
1 R ции . О перестройке аппарата, "чтобы в возможно более допустимой степени вовсе обходиться без функций, для которых необходим среднеинтеллигентский состав", писал Ю. Ларин19.
Взаимоотношения интеллигенции и советской власти продолжали рассматриваться и в последующие десятилетия 30-х, 40-х и первой половины 50-х годов. Но так как в "Кратком курсе истории ВКП(б)" интеллигенция оценивалась как "служанка буржуазии" и контрреволюционная сила, то и работы того периода в основном комментировали положения этой книги и общепринятую на тот момент схему: низы - друзья, середина - колеблющиеся, верхи - враги большевиков, да и эта проблема затрагивалась в самом общем плане, без привлечения конкретного исторического материала. Акцент делался главным образом на саботаже и "вредительстве", другие важные и интересные вопросы оставались в стороне20. Наиболее характерной в этом плане стала появившаяся в 1953 году работа "О роли интеллигенции в советском обществе", автор которой М.А. Процько писал, что "буржуазная интеллигенция" открыто выступила против советской власти, используя свои знания для борьбы против социалистического строительства21.
17 См.: Луначарский А.В. Смена вех интеллигентской общественности. // Культура и жизнь. 1922. № 1; Его же. Об интеллигенции. - М., 1923; Его же. Интеллигенция в прошлом, настоящем и будущем. - М., 1924; Его же. Интеллигенция и её место в социалистическом строительстве. // Революция и культура. 1927. № 1 и др.
18 См.: Троцкий Л.Д. Литература и революция: Статьи, опубликованные в "Правде" в 1923-1924 годах. // Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 183-228.//Театр. 1989.№8. С. 82-102идр.
19 Ларин Ю. Интеллигенция и советы: хозяйство, буржуазия, госаппарат. - М., [б.г.]. С. 74.
20 См.: Шлихтер А.Г. Октябрь и наука. — Харьков, 1933; Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигенция. - М., 1937; Волин Б. Октябрьская революция и интеллигенция. // Исторический журнал. 1938. № 11; Луппол И. Интеллигенция и революция. // Новый мир. 1939. № 7.
21 Процько М.А. О роли интеллигенции в советском обществе. — М., 1953. С. 39.
Заметные изменения в изучении темы интеллигенции и революции стали происходить с середины 50-х годов. Отказ от отдельных элементов сталинской схемы взаимоотношений интеллигенции с советской властью сопровождался складыванием новой концепции истории интеллигенции, которая была общепризнанной до конца 80-х годов. Её суть состояла в том, что интеллигенция была вовлечена в строительство нового социалистического общества и в ходе этого строительства прошла перевоспитание и слилась с новой, рабоче-крестьянской интеллигенцией. При этом историки исходили из ставшего незыблемым принципа соответствия советской системы интересам интеллигенции. Это требовало такого толкования истории интеллигенции, при котором политика партийных и советских органов была сугубо полржительной и верной.
Рост источниковой базы для исследований положительно сказался на создании монографических и коллективных трудов, особенно обобщающего характера. В это время увидели свет научные работы таких крупных специалистов в данной области как М.П. Ким ("40 лет советской культуры"), Г.Г. Карпов ("О советской культуре и культурной революции в СССР"), В.Т. Ермаков ("Исторический
00 опыт культурной революции в СССР") . В то же время все профессиональные группы данного социального слоя рассматривались недифференцированно, художественная интеллигенция ещё не выделялась исследователями в качестве самостоятельной подгруппы23. Ведущим направлением стало в те годы изучение роли В.И. Ленина в исследуемых процессах. Этому была посвящена, например, моно
22 См.: Карпов Г. Г. О советской культуре и культурной революции в СССР. М.: Госкультпросветиздат, 1954; Ким М. П. 40 лет советской культуры. М.: Госполитиздат, 1957; Черноуцан И.С. Ленинские принципы политики партии в области литературы и искусства. М.: "Знание", 1958; Ермаков В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР. М.: "Мысль", 1968.
23 См.: Заузолков Ф.Н. Об опыте СССР по сближению умственного и физического труда // Вопросы философии. 1956. № 5. С. 32-45; Он же. Формирование и рост социалистической интеллигенции в СССР // Коммунист. 1958. № 1. С. 52-62; Константинов Ф. Советская интеллигенция // Коммунист. 1959. № 15. С. 48-65; Далматов И.П. Формирование советской социалистической интеллигенции и её роль в развитии советского общества // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 128. Вып. 3. М., 1957; Федгокин С. А. Советская интеллигенция на новом этапе развития социалистического строительств (1959-1965) // Советская интеллигенция. М.: "Мысль", 1968. графия И.С. Смирнова "Ленин и советская культура. Государственная деятельность Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 г.— лето 1918 г.)"24. Выходят первые работы по истории советской интеллигенции, например, "Привлечение буржуазной технической интеллигенции к социалистическому строительству в СССР" С.А. Федюкина25. О советах депутатов трудовой интеллигенции писала Л.И. Смирнова26.
Прежний подход к интеллигенции как некой цельной, монолитной массе, которая по природе своей враждебна новому строю, стал подвергаться критике. Спорными назывались суждения о преимуществе методов принуждения и даже "разгрома", о том, что это было вполне закономерным явлением, санкционированным большевистской партией и советской властью27.
Но по-прежнему интеллигенции отводилась роль объекта, и при этом не учитывались те явления, которые происходили в разных ее отрядах в первые революционные и послереволюционные годы.
Соответственно и внимание исследователей сосредоточивалось в основном на анализе взглядов Ленина на использование буржуазных" специалистов, на вопросах политики большевиков в отношении интеллигенции и практических результатах этой полити-<10 ки , в том числе в отдельных профессиональных подразделениях
24 См. помимо уже названного: Смирнов И.С. Ленин и советская культура. Государственная деятельность Ленина в области культурного строительства (окт. 1917 г. - лето 1918). М., 1960.
25 См.: Федюкин С.А. Привлечение буржуазной технической интеллигенции к социалистическому строительству в СССР. М., 1960.
2 См.: Смирнова Л.И. О советах депутатов трудовой интеллигенции. // Из истории советской интеллигенции. / Сб.статей. - М.: "Мысль", 1966. С. 197-222.
27 См.: Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. - М.: "Наука", 1972. С. 17 - 19.
28 См.: Ким М.П. 40 лет советской культуры. - М., 1957; Котов А.Т. Победа Великой Октябрьской социалистической революции и проблема использования старой интеллигенции. // Учёные записки Белорусского ин-та физкультуры. Вып. 2. -Минск, 1958; Королёв. Очерки по истории советской школы и педагогики (1917 - 1920). -М., 1958; Смирнов И.С. Ленин и советская культура: Государственная деятельность В.И Ленина в области культурного строительства (октябрь 1917 - лето 1918г.). - М. 1960; Генкин Э.Б. О ленинских методах вовлечения интеллигенции в социалистическое строительство. // Вопросы истории. 1965. № 4; Круцко И.Е. Обоснование В.И.Лениным политики привлечения буржуазной интеллигенции к социалистическому строительству (1917 - 1920 гг.) // Учёные записки Волгоградского гос.пед.ин-та. Вып. 22. - Волгоград, 1967; Ревенко В.Г. В.И.Ленин об использовании буржуазии как одной из форм классовой борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры. // Труды Моск.высшего техн.уч-ща. Вып. 3. - М., 1968; Хренов Н.И. Из истории борьбы Коммунистической партии за интеллигенцию в Октябрьской революции. // Сб.трудов Ульяновского политехи.ин-та. Т. 6. Вып. специалистов, как гражданских (например, учителей и врачей, учёных, инженеров, историков)29, так и военных30. А вот сложные процессы, совершавшиеся в среде художественной интеллигенции, поj 1 прежнему освещались недостаточно . Правда, более глубоко ими занимались историки литературы и искусства. Непосредственное влияние социально-политических событий 1917 года на течение ху
1. - Ульяновск, 1968. С. 20-46; Кейрим-Маркус М.Б. Государственная комиссия по просвещению (1917 -1920).//История СССР. 1969.№ 12; АмелинП.П. Интеллигенция и социализм.—Л., 1970; Волков B.C. Вовлечение буржуазной технической интеллигенции в социалистическое строительство. (Письма В.И.Ленина как источник изучения проблемы). // Учёные записки кафедр общ.наук Ленинграда. История КПСС. Вып. 10. — Л., 1970; Красникова А.В. Из истории разработки В.И.Лениным политики привлечения буржуазной интеллигенции на службу советской власти. // Вестник Ленинградского ун-та. 1970. № 8 (Серия истории, языка и литературы. Вып.2); Кузнецов Ю.С. В.И.Ленин о вовлечении интеллигенции в социалистическое строительство. // В.И.Ленин — великий теоретик, организатор и вождь Коммунистической партии и Советского государства. — Могилёв. 1970; Точёная В.П. В.И.Ленин об интеллигенции в переходный период от капитализма к социализму. // Вестник Моск.гос.ун-та. 1970. № 2. (Серия истории. Вып. 2); Свинцова М.П. В.И.Ленин об использовании буржуазных специалистов в социалистическом строительстве. // Вопросы стратегии и тактики в трудах В.И.Ленина послеоктябрьского периода. - М., 1971.
29 См.: Ширяев П. Борьба Коммунистической партии за использование буржуазной производственно-технической интеллигенции в период с 1917 по 1928 год. // Учёные записки Вологодского гос.пед.ин-та. Т. 19. -Вологда, 1957; Городецкий Е.Н. К истории ленинского плана научно-технических работ. // Из истории революционной и государственной деятельности В.ИЛенина. - М., 1960; Гуров И. Ленин о перевоспитании учительских кадров в первые годы советской власти. (1917 - 1920). // Некоторые вопросы теоретического наследия В.И.Ленина. Труды Моск.гос.пед.ин-та имЛенина. - М., 1960; Князев Г.А., Кольцов А.В. Краткий очерк истории Академии наук СССР. - М.-Л'., 1960; Меерович Б. Из истории борьбы Коммунистической партии за привлечение учительства на сторону советской власти. // Вопросы истории КПСС и философии. Сб.статей кафедр общ.наук Свердловского гос.пед.ин-та. - Свердловск, 1965; Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР в 1917 - 1937 гг. - Л., 1965; Московский университет за 50 лет советской власти. - М., 1967; Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука (1917 - 1923 гг.). - М., 1968; Комков Г.Д. и др. Академия наук - штаб советской науки. - М., 1968; Кольцов А.В. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. - Л., 1969; Федотова З.Ф. Роль Н.К.Крупской в политическом воспитании учительства. // Мат-лы 14-й науч.конф-ции Дальневосточного ун-та. Серия общ.наук. - Владивосток, 1970; Лотова Е.И. Первые шаги советской власти по привлечению медицинской интеллигенции к социалистическому строительству. // Советское здравоохранение. 1971. № 4; Хренов Н.И. О вовлечении буржуазных специалистов в социалистическое строительство. // Сб.трудов Ульяновского политехн.ин-та. Т. 6. Вып. 2. - Ульяновск, 1970.
30 См.: Винокуров А.В. Проблемы использования военных специалистов в Красной армии (1917 - 1920 гг.). // Из истории борьбы Коммунистической партии за победу буржуазно-демократической и социалистической революции и построение социализма в СССР. - М., 1968; Власов И.И. В.ИЛенин и строительство Красной армии. -М., 1968; Иовлев A.M. Разработка и осуществление ленинской политики в отношении специалистов старой армии (1917 - 1920 гг.). // Вопросы истории КПСС. 1968. № 4; Кораблёв Ю.И. В.И.Ленин и создание Красной армии.-М., 1970.
31 См.: Демидов Н.И. Некоторые вопросы борьбы партии за привлечение литературно-творческих сил на сторону советской власти (1917 - 1925 гг.). // Труды кафедр общ.наук Московского инженерно-строит.ин-та. № 28. -М., 1957; Ратнер Я.В. Из истории советского театра (1917 - 19190. // История СССР. 1962. № 2; Зосимский В. Профессиональные союзы театральных работников в период Великой Октябрьской революции и гражданской войны (1917 - 1921 гг.) // Учёные записки Высшей школы профдвижения ВЦСПС. Вып. 3. - М., 1968; Красникова А.В. В.И.Ленин и А.М.Горький в 1917 - 1918 гг. (Из истории взаимоотношений Коммунистической партии с интеллигенцией в первый год советской власти) // Учёные записки Института истории партии ЛК КПСС. Т. 1.-Л., 1970. дожественной жизни, эволюция жизни художественной среды вое
32 создана в солидной монографии В.П. Лапшина .
Расширялись рамки региональных исследований. Наиболее пло
33 дотворная работа велась историками Сибири .
В то же время стали появляться и работы, в которых интеллигенция выступала не только объектом большевистской политики, но и как социальная общность, придерживавшаяся своих политических взглядов и их отстаивавшая34. В этом же ряду стоят работы JI.K. Ер-мана. На основе всероссийской переписи населения конца 19 века он определил численность интеллигенции и количество специалистов-интеллигентов в разных областях деятельности, рассмотрел положение различных отрядов интеллигенции и уровень их материального состояния35. Данными, приведенными в его трудах, историки пользуются до сих пор.
Тогда же появилась специфическая литература, из которой можно было кое-что узнать о позиции по этим вопросам, занимавшейся о/г зарубежными учёными . Читая опровержения утвердившейся на Западе точки зрения, "будто вся интеллигенция не приняла советскую власть и боролась против неё, что большевики старую интеллигенцию разгромили, лучшую её часть заставили покинуть родину, а оставшихся лишили гражданских прав" , интересующийся читатель мог найти в отечественной литературе много фактов, говоривших
32
См.: Лашин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. - М.: "Советский художник", 1983.-496 с.
33 См.: Соскин В.Л. Ленин, революция, интеллигенция. - Новосибирск, 1973; Его же. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и утверждение советской власти: 1917 —лето 1918.— Новосибирск, 1985.-254 е.; Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. Новосибирск, 1978.
34 См.: Быков В.Ф. Медицинские работники в Октябрьской революции. // Труды Северо-Осетинского мед.ин-та. Вып. 8. Ч. 2. - Оржоникидзе, 1958; Пасюков Ф.В. Медицинские работники Балтики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. // Труды ин-та орг-ции здравоохранения и истории медицины им.Семашко. Вып. 5. - М., 1959; Соскин В.Л. Политические позиции сибирской интеллигенции в период Октябрьской социалистической революции. // Известия Сибирского отделения АН СССР. 1967. №11. (Серия общественных наук. Вып. 3).
35 См.: Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. - М., 1968.
36 См.: Краморенко Л.Н. Против фальсификации некоторых принципов деятельности КПСС по формированию технической интеллигенции (1917 - 1937 гг.). // Учёные записки Ленинград.гос.пед.ин-та. Т. 424. Вып. 1. - Л., 1969.
37 Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. - М., 1965. С. 20. ему о том, что "вымыслы реакционных буржуазных учёных и публицистов о "Голгофе" русской интеллигенции" отнюдь не вымыслы. И выходило, что между критикуемыми теперь работами советских авторов (например, Котова 1958 года и 1967 года) и исследованием изменений в советском образовании Каунтса (1966 год) разница не в содержании, не в фактах и даже не в выводах, а в их оценке, выраженной в соответствующей терминологии38.
Мало того, советский читатель (а это был главным образом интеллигент) не без интереса узнавал, что "буржуазной науке вообще свойственно переоценивать роль интеллигенции в жизни общества, особенно на переломных этапах", что, по мнению многих историков и социологов Запада, "революционной инициативой" обладают вовсе не классы (будь то буржуазия в эпоху своего восхождения или пролетариат в эпоху империализма как последней стадии капитализма), а лишь интеллигенция. И откуда ещё можно было познакомиться с высказываниями американского учёного JI. Эдвардса, отводившего интеллигенции ключевую роль как в сохранении, так и в подрыве существующего порядка вещей?39
Большой вклад в разработку проблемы внёс С.А. Федюкин. Он первым подверг критике господствующую схему, согласно которой интеллигенция при восприятии ею революции делилась на три группы, в зависимости от принадлежности к определенному классу. В своих работах он высказал мнение, что "политический водораздел проходил не между группами интеллигенции, а внутри этих групп"40 и что сторонники и противники советской власти имелись во всех
38 "Огромное большинство интеллигенции, лиц свободных профессий и технических специалистов в те ранние годы было настроено враждебно", - писал Каунтс и делал вывод, что, "если бы интеллигенцию не удалось подчинить суровой дисциплине, она представляла бы опасность для революции с её жёсткими доктринами и заранее установленными целями". (Цит.по: Там же. С. 21.)
39 "До тех пор, - утверждает он, - пока интеллигенция выполняет свою традиционную роль, оправдывая или защищая унаследованные институты, они будут существовать, даже несмотря на недовольство народных масс. Но когда люди идей начинают проявлять недовольство, негодуя по поводу собственного положения или прислушиваясь к голосу совести, то это угрожает основам общества. В сущности, - делает вывод, - Л.Эдвардс, "первым и важным симптомом революции является изменение убеждений интеллигенции"" (Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. - М., 1965. С. 21.)
40 См.: Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. — М., 1965. С. 26. трех группах и их отношение к революции не зависело только от социально-классовой принадлежности. Непосредственное соотнесение иерархического положения отдельных групп интеллигенции с их политической реакцией на революцию представлялось ему слишком прямолинейным и однозначным, ибо "не учитывает индивидуализма" интеллигентов". Этот вывод имел большое значение для преодоления прямолинейных догматических утверждений о трехслойном делении интеллигенции, а это открывало новые возможности для изучения процесса дифференциации интеллигенции, который был и сложным и противоречивым. Как и другие историки того периода, подвергая сомнению тезис о враждебности восприятия интеллигенцией революции, Федюкин в то же время подверг сомнению "излишне расширенное толкование понятия контрреволюционности интеллигенции". Он же первым сделал вывод, что саботаж интеллигенции не был повсеместным и длительным41.
Возник и вопрос о самом понятии "саботаж". Выяснилось, что следует различать активный саботаж, когда интеллигенция выступала против большевиков, и пассивный, когда она, не сочувствуя идеям революции и не принимая советской власти, продолжала выполнять свои профессиональные обязанности. Проблема изучения этого "нейтралитета" также была поставлена некоторыми учеными42.
Среди методов, применявшихся в борьбе за подчинение интеллигенции советской власти, P.O. Карапетян обращал внимание не только на подавление её сопротивления, но и стремление лишить её средств к существованию43. К этой теме стали обращаться и другие историки44.
41 Федюкин С.А. Октябрьская революция и интеллигенция. // История СССР. - 1977. - №5. - С. 77.
42 См.: Галин С.А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской власти (1917-1925). -М., 1990.
43 См.: Карапетян P.O. Становление и развитие интеллигенции как социального слоя. - М., 1974. - С. 68-69.
44 См.: Добрускин И.Е. Об участии непролетарской интеллигенции в строительстве социализма // Научный коммунизм - 1974. - №6. - С. 50-59.
Важным в проблеме "Интеллигенция и революция" является вопрос о критериях дифференциации интеллигенции в отношении Октябрьской революции. Этот вопрос был поставлен JI.A. Пинеги-ной. Не отрицая решающего значения социально-экономических критериев, она отметила, что внутри групп интеллигенции процесс размежевания шел в основном на основании субъективных факторов45. К такому же выводу о преобладании критериев морального порядка, т.е. субъективных, при размежевании интеллигенции, пришёл и Федюкин. В вышедшем в 1985 году сборник статей советских ученых, исследовавших проблемы интеллигенции, он при анализе положения интеллигенции после Октября решающую роль отводил факторам морального порядка и указывал на необходимость исследования социальной психологии интеллигенции, а М.Г. Вандаков-ская показала позиции российских партий в вопросе о роли и месте интеллигенции в общественно-политической жизни46. Ещё раньше к специальному изучению этой проблемы обратился B.C. Волков47.
Кроме этого, наряду с мировоззренческими чертами, характерными для всей интеллигенции, как то демократизм, гуманизм, реформизм, имеются черты, свойственные для отдельных ее отрядов. Следовательно, есть необходимость учета особенностей специалистов различных профессиональных групп, которые связаны со склонностью осмысливать общественные явления через призму своего профессионального опыта.
Отношение русской "непролетарской" интеллигенции к революционному процессу, эволюцию её политических позиций от Февраля к Октябрю, социально-психологическое состояние и общественные настроения, уровень организованности в условиях нараставшего
45 См.: Пинегина Л.А. К вопросу о политическом размежевании буржуазной интеллигенции в период Октябрьской революции (1917-1918). //Вестник МГУ. Серия историч. 1974. №2. С.З - 19.
46 См.: Интеллигенция и революция. XX век. - М., 1985.
47 См.: Волков B.C. Ленинский анализ социальной психологии интеллигенции как составная часть научного обоснования политики партии по отношению к старым специалистам после победы Великого Октября. // Роль интеллигенции в построении и дальнейшем строительстве социалистического общества. - Л., 1978. Вып. 2. С. 3 -11. массового движения и обострения политической борьбы на протяжении этих грозовых 9 месяцев показывает в своей монографии О.Н. Знаменский48. От всех предыдущих его работа отличается привлечением огромного фактического материала, прежде всего воспоминаний и дневников самых различных представителей интеллигенции, изданных к тому времени за рубежом (Ю.В. Ломоносова, например) или хранившихся в архиве Академии наук СССР (И.М. Гревса, С.Ф. Ольденбурга, В.А. Стеклова) и в отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (учителя С.П. Каблукова, геолога Д.И. Мушкетова, дочери писателя К.М. Станюковича, Д.В. Философова и др.). Но нарисованная в результате впечатляющая и объективная картина находилась в некотором несоответствии с применявшейся автором традиционной методологией. Огромное количество ленинских цитат (свыше 100 на 344 страниц текста), которые далеко не всегда объясняли смысл изложенного и выглядели своего рода аргументом, не только мало что добавляло к смыслу этой картины, но порою ему противоречило.
Между тем, утвердившейся к тому времени в советской исторической науке концепция, в соответствии с которой изучение судеб старой, дореволюционной интеллигенции сводилось в основном к "борьбе за интеллигенцию, за перевоспитание ее в духе идей социализма", стала подвергаться критике в конце 80-х годов. Отмечалось, что сама тематика исследований настраивала на изучение истории интеллигенции не как субъекта, а как объекта истории, что не давало возможности рассмотреть сложные процессы в самой интеллигенции. При этом дискриминация старой интеллигенции со стороны советской власти и факты ее сопротивления оставались в стороне. Игнорировалась и важность изучения конкретных взглядов отдельного человека, его индивидуального сознания. Напоминалось, что история интеллигенции — это история движения человеческой мысли
48 См.: Знаменский O.H. Интеллигенция накануне Великого Октября. — Л., 1988. и культуры, которое концентрирует всю духовную энергию народа и в силу этого делает интеллигенцию носителем общечеловеческого начала и гуманистических идеалов49.
Конец 80-х и начало 90-х годов вообще можно считать своеобразным рубежом в развитии отечественной историографии. История тогда стала непременной составной частью развернувшейся в обществе острой идеологической полемики. А так как субъектом и объектом этой полемики выступала главным образом интеллигенция, её не могли не интересовать и проблемы истории общественной мысли, и её собственное недавнее прошлое.
В эти годы переиздается или публикуется впервые литература, в прошлом недоступная, - например, сборник "Вехи", вышедший еще в 1909 г. и вызвавший тогда дискуссию, так как авторы по-новому пытались рассмотреть вопросы о сущности интеллигенции, ее роли и месте в революции и обществе, иногда отказываясь от своих прежних позиций. Продолжением стал сборник "Из глубины", напечатанный в 1918 г. Авторы его попытались подняться над конкретными политическими событиями и проанализировать причины и последствия революции через призму истории интеллигенции. Но советская историография вычеркнула их труды из рассмотрения проблем интеллигенции. Теперь же стали говорить о том, что назрела потребность в осмыслении всего интеллектуального богатства, созданного многими поколениями русской интеллигенции, и выход их произведений стал закономерен.
Парадокс отечественной историографии советской культуры эпохи "перестройки" состоял в том, что возросший и устойчивый интерес читающей части населения к прошлому стал удовлетворяться преимущественно публицистикой, мемуарной литературой, художественными произведениями, а не исследованиями профессиональных историков. Произошёл серьёзный разрыв между резко возрос
49 См.: Смоляков Л.Я. Об интеллигенции и интеллигентности. // Коммунист. 1988. №16. С. 75. шим интересом нашего народа к истории и способностью историков-профессионалов удовлетворить этот спрос. Некоторые ученые находили подобную ситуацию совершенно естественным промежуточным этапом, предшествующим серьезному научному изучению вопросов истории культуры недавнего прошлого50. Как показала практика, данная точка зрения была абсолютно справедливой. Переиздание "Несвоевременных мыслей" М. Горького и издание писем В. Короленко к наркомпросу Луначарскому подвигла критика Л. Аннинского выступить на страницах журнала "Дружба народов" со статьёй "Наши старики", чтобы показать читателю не только актуальность высказанных ими критических соображений, но и высветить тот урок достоинства, который "дают нам наши старики, наши великие старики, дорого оплатившие своё право давать нам уроки"51.
Но этот мощный поток публицистических статей и эссе имел и свои негативные черты. Прежде всего, это - чрезмерно субъективный подход к рассматриваемым проблемам, персонификация истории, эксплуатация одних и тех же сюжетов, несамостоятельность мышления многих авторов, влияние "западной" историографии.
Возрождение интереса к проблемам интеллигенции привело в 90-е годы к тому, что значение и место в истории отечества российской интеллигенции, её прошлое и настоящее стало одной из наиболее разрабатываемых научных проблем. За последние десять лет оно превратилась в объект интенсивного изучения не только историками, но и философами, социологами, культурологами и филологами. Состоялось свыше 30 интеллигентоведческих конференций различного уровня: региональных, всероссийских, международных52.
50 Сахаров А.Н. Новая политизация истории или научный плюрализм? О некоторых тенденциях в мировой историографии истории России XX века // Новая и новейшая история. 1993. № 6. С. 87-94.
51 Аннинский Л. Наши старики. // Дружба народов. 1989. № 5. С. 246.
52 См.: Меметов В С., Будник Г.А., Садина С.С. Интеллигентоведение: из опыта становления вузовского научно-методического курса // Интеллигентоведение: проблемы становления нового вузовского курса: Материалы межгосудар. заоч. научно-методич. конф. Июнь 1999. - Иваново, 2000. С. 3.
Причём явно наблюдалось перемещение центров её изучения на периферию. Заметно активизируется научная работа в Кемерове и Иванове. В марте-апреле 1991 года там были проведены крупные конференции по проблемам места и роли интеллигенции в стране. В 1992 г. и 1995 г. эта тема получила дальнейшее развитие на второй и третьей конференциях по данной проблеме в Ельце и Пензе53. При кафедре истории и культуры России Ивановского государственного университета был создан межвузовский центр РФ "Политическая культура интеллигенции: её место и роль в истории отечества", много и плодотворно работающий по сей день54. В Уральском государственном университете тогда же был организован научный центр "XX век в судьбах интеллигенции"55. Конференции по проблемам интел-лигентоведения стали регулярным событием в этих исследовательских учреждениях. В последующие годы научные форумы по аналогичной тематике прошли также в Екатеринбурге, Казани, Костроме, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Самаре, Саранске, Саратове, Ставрополе, Тамбове, Улан-Удэ, Ярославле, Санкт-Петербурге, Мо
56 скве .
53 Шмидт С.О. Вступительное слово // Российская провинция XVIII-XX вв.: реалии культурной жизни. Кн. 1. Пенза, 1995. С. 10-24.
54 См.: Меметов B.C., Данилов А.А. Интеллигенция России: Уроки истории и современность (Попытка историографического анализа проблемы) // Интеллигенция России: Уроки истории и современность: Межвузов, сб. науч.трудов. - Иваново: ИвГУ, 1996. С. 4-5.
55 См.: Кондрашева М.И., Главацкий М.Е. Научные конференции по исследованию проблем интеллигентоведе-ния как историографический факт // Культура и интеллигенция России в переломные эпохи (XX в.): Тез. докл. Всероссийской науч. конф. Омск, 24-25 ноября 1993 г. Омск: ОмГУ, 1993. С. 35.
56 См., например: Российская провинция и мировая культура. Ярославль, 1993; Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем. Самара, 1994; Российская провинция: история, культура, наука. Саранск, 1998; Российская провинция XVIII-XX вв.: реалии культурной жизни. Пенза, 1995; Российская провинция и её роль в истории государства, общества и развития культуры народа. Кострома, 1994; Меметов В. С., Данилов А. А. Интеллигенция России: Уроки истории и современность. (Попытка историографического анализа проблемы) // Интеллигенция России: Уроки истории и современность: Межвузов, сб. науч. тр. Иваново: ИвГУ, 1996. С. 3-15; Общественно-политическая жизнь российской провинции: XX век: Краткие тезисы докладов и сообщений к предстоящей межвуз. науч. конф. Тамбов, 1993; Поиск новых подходов в изучении интеллигенции: Проблемы теории, методологии, источниковедения и историографии: Тез. докл. межгосудар. науч.-теорет. конф. Иваново, 1993; История российской интеллигенции: Мат. тез. науч. конф.: В 2 ч. М., 1995; Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тез. докл. межгосудар. науч.-теорет. конф. Иваново, 1995; Провинциальная культура и культура провинции. Кострома, 1995; Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: Межвузов, респ. сб. науч. тр. Иваново, 1996; Некоторые современные вопросы анализа российской интеллигенции: Межвузов, сб. науч. тр. Иваново: ИвГУ, 1997.
Возрастание интереса к истории отечественной интеллигенции сопровождалось интенсивным процессом переосмысления и переоценки её места и роли в обществе, в том числе во время революции. В 1996 году на конференции в Иванове об "интеллигентоведении" говорилось уже как о самостоятельной отрасли научного знания57. К концу 90-х годов Ивановский межвузовский центр прочно зарекомендовал себя местом сосредоточения научной и научно-методической работы по различным аспектам интеллигентоведения. На конец сентября 2002 года им было организовано и проведено 13 республиканских и международных конференций с публикацией тезисов. Издано шесть межвузовских сборников научных статей и три монографии. Общий объём печатной продукции превышает триста со печатных листов . С января 2001 г. издаётся общероссийский научный журнал "Интеллигенция и мир". Главным результатом научно-исследовательской деятельности Центра стало комплексное междисциплинарное изучение интеллигенции российской провинции как социокультурного феномена в контексте её генезиса и исторического развития.
Таким образом подводя итог обзору исторической литературе по данной теме, можно сделать вывод, что вопросы, касающиеся отношений интеллигенции с большевиками после Октября решены в целом неплохо, хотя и тут есть над чем поработать исследователям, но вот история отношений интеллигенции и власти между Февралём и Октябрём, наконец, история самой интеллигенции в этот период остаются вне поля зрения историков. Её затрагивают в той или ной мере главным образом исследователи в области литературы, искусства, науки, подготавливающие к изданию и комментирующие художе
57 См.: Меметов B.C. К первым итогам становления "интеллигентоведения" как самостоятельной отрасли научного знания. // Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: Межвузов, респ. сб. науч. тр. Иваново, 1996. С. 3-14.
5 См.: Интеллигенция современной России: Духов, процессы, исторические традиции и идеалы: Тез. докл. XIII междунар. научно-теорет. конф. 26-28 септ. 2002 г. Иваново: ИвГУ, 2002. С. 6. ственные и научные произведения, а также документы, принадлежащие тому или иному деятелю культуры и науки59.
Исследование того, как революционные события 1917 и начала 1918 годов воспринимались интеллигенцией, как она сама смотрела на себя и оценивала свою роль в революционизирующемся обществе, какие основные направления внешней и внутренней политики Временного и Советского правительств вызывали особые разногласия в её среде, её отношение в целом с властью в этот период и является целью данной диссертационной работы.
Достижение поставленной цели, в свою очередь, предполагает решение следующих задач: во-первых, раскрыть процесс изменения отношения интеллигенции к Временному правительству и его политике (эйфория от наступившей свободы, рефлексия на двоевластие, вопросы о войне и земле, кратковременное увлечение Керенским и последующее разочарование в нём, драма "корниловского мятежа"); во-вторых, выявить всё разнообразие оценок ею деятельности большевиков и Совета народных комиссаров во главе с Лениным, определить её отношение к начавшимся социалистическим преобразованиям и ленинской программе использования интеллигенции, в-третьих, очертить формы сопротивления (как активного, так и пассивного) и сотрудничества; в-четвёртых, опираясь на суждения различных деятелей науки, техники и культуры о причинах, ходе и последствии революции 1917 года, проанализировать осмысление ими итогов, к которым начала приходить интеллигенция в конце 1917 — начале 1918 гг.;
- наконец, сделать собственные обобщающие выводы и сформулировать предложения для дальнейшего изучения темы.
59 См., например: Бабореко А. Бунин. Жизнеописание. - М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2004. - 457 е.; Варламов А. Красные и алые паруса. (А.С.Грин и русская революция). // Подъём (Воронеж). 2005. № 2. С. 191 - 226; Варламов А. Александр Грин. - М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005. - 452 е.; Куняев Ст., Куняев Срг. Сергей Есенин. - М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005. - 595 с.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Определение спектра общественно-политических настроений интеллигенции и выявление отдельных его сегментов в зависимости от взглядов как на сам ход революционного процесса, так и на отдельные его аспекты (отношение к власти, к вопросам о войне и земле, о защите культурных ценностей).
2. Выявленные и обоснованные этапы эволюции взглядов интеллигенции на причины, ход и последствия революции 1917 года.
3. Тенденции политического размежевания среди интеллигенции между Февралём и Октябрём, их конкретное содержание.
4. Соотношение мировоззренческих и сугубо практических мотивов при определении своего отношения к установлению власти советов.
Источниковая база исследования.
В соответствии с намеченным кругом задач был выявлен большой массив источников, анализ которых использован для достижения поставленной цели. Среди них оказались как давно известные, но по-новому рассмотренные, так и совсем недавно введённые в научный оборот. Главное место среди них занимают документы личного происхождения, позволяющие изучить взгляды многих интеллигентов на революцию вообще и отдельные явления и события, её сопровождавшие в частности.
Это, прежде всего письма и дневниковые записи. В то время обмен письмами между родственниками, друзьями и просто знакомыми были общераспростр.анённым явлением. Многие интеллигенты вели личные дневники, подробно записывая в них всё, что видели и слышали, порою давая свою оценку тем или иным событиям и лицам. Эти письма и записи являются ценнейшим источником.
В дневнике для историка важно всё — и каждая строчка, содержащая отзвуки революционных событий, "самоотчёты" писавшего, а порой и неожиданное, досадное для исследователя умолчание, которое, однако, тоже становится своего рода историческим фактом, требующим внимательного учёта. Сказанное в значительной степени относится и к эпистолярному наследию.
Интересные подробности и, главное оценки, можно почерпнуть в опубликованных в самое различное время, но особенно в последние годы, письмах и дневниковых записях рядовых и не рядовых участниках и свидетелях событий тех лет. Среди них особенно следует выделить кадетского журналиста В. Амфитеатрова-Кадашева60, ведущего обозревателя и фельетониста газеты "Новое время" М.О. Меньшикова61, историков С.Б. Веселовского и Ю.В. Готье62, поэтессы 3. Гиппиус63. На последних хотелось особо остановиться. В предисловии к своей "Синей книге" ("История моего дневника") Гиппиус отмечала, что личная жизнь, положение её и Мережковского, их среда были благоприятны для ведения подобных записей. "Мы принадлежали к тому широкому кругу русской "интеллигенции", которую, справедливо или нет, называли "совестью и разумом" России. Она же - и это уж конечно справедливо - была "словом" и "голосом" России, немой, притайно-молчащей - самодержавной"64. Жили они в Петрограде, где именно зарождались и развивались революционные события. Но в отличие, допустим от Горького, имевшего квартиру на Кронверкском проспекте (Петроградская сторона), Мережковские жили около самого Таврического дворца, в коем заседали Государственная Дума, Совет рабочих и солдатских депутатов, Учредительное Собрание. По сути одно только исследование того, как они реагировали на революционные события, происходившие тогда в стране, и как оценивали роль в них отдельных политиков и литераторов,
60 См.: Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника. // Минувшее. Исторический альманах. Т. 20. - М., 1995. С. 442 и др.
61 См.: Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. // Российский архив. (История отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.). Выпуск IV. - М.: "Тритэ" - "Российский архив", 1993. С. 11 - 222.
62 См.: Веселовский С.Б. Дневники 1915-1923, 1944 годов. // Вопросы истории. - 2000. - № ; Готье Ю.В. Мои заметки. - М.: "Терра", 1997.
63 См.: Гиппиус 3. Дневники. Т. 1. - М., 1999.
64 См.: Гиппиус 3. История моего дневника. // Её же. Петербургский дневник. - М.: "Сов.писатель" и "Олимп", 1991. С. 6-7. достойно стать предметом отдельного диссертационного исследования.
То же самое можно сказать и о таких деятелях науки и искусства, как академик В.И. Вернадский65, правовед Н.В. Устрялов66, поэты А. Блок67 и В. Брюсов68, писатели JI. Андреев69, И. Бунин70, В. Короп | чл чл 1Л nf ленко , М. Кузьмин , М. Пришвин , А. Ремизов и В. Розанов , критик Р. Иванов-Разумник76, художник А. Бенуа77, рядовые обыватели из бывших генералов А.В. Жиркевич78 и Ф.Я. Ростковский79, каждый из которых оставил большой массив документов в виде обширных дневников и писем, а часто и публицистических статей. Вопросы, волновавшие их, связаны с главной темой новейшей русской истории, с темой, которая определила духовную ситуацию в России в течение всего столетия, - народ и интеллигенция.
К сожалению, такие интересные для раскрытия темы материалы, как дневниковые записи, только в последнее время становятся дос
65 Вернадский В.И. Дневники 1917 - 1921. - Киев: "Наукова думка", 1991.-269 с.
65 Устрялов Н.Н. Былое - Революция 1917 г. (1890-е - 1919 гг.). Воспоминания и дневниковые записи. - М., 2000.
67 Блок А. Письма к жене. // Литературное наследство. Т. 89. - М.: "Наука", 1978; Блок А. Дневники. - М.,1989; Блок А.А, Белый А. Диалог поэтов революции.-М., 1990. (переписка, в основном до 1916 года).
68 Брюсов В.Я. Неизданное и несобранное. / Сост. и комментарии В.Молодякова. - М.: "Ключ" и "Книга бизнес", 1998.-332 с.
69 Андреев Л. S.O.S.: Дневники (1914-1919); Письма (1917-1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918-1919). / Вступ.статья, составление и примечания Р.Дэвиса и Б.Хеллмана. - М,- СПб.: "АЛепеит-Феникс", 1994. С. 31-32.
70 Бунин И.А. Лишь слову жизнь дана. / Сост., вступл., примеч. и имен.указ. О.Н.Михайлова. - М.: "Сов.Россия" (серия "Русские дневники"), 1990. - 368 с.
71 Короленко В. Дневник. Письма. 1917 - 1921. / Сост., подготовка текста, коммент. В.ИЛосева. - М.: "Сов.писатель", 2001. - 544 с.
72 Из дневников М.А.Кузьмина. // Литературное наследство. Т. 92. - Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 2. - М.: "Наука", 1981.
73 Пришвин М.М. Дневники. Кн.1: 1914 - 1917. - М.: "Моск.рабочий", 1991; Пришвин М.М. Цвет и крест. Негаданные произведения. / Сост., вступ., коммаент. В.А.Фатеева. - СПб.: "Росток" (серия "Неизвестный XX век"), 2004;
74 Ремизов A.M. Взвихрённая Русь. / Публицистика и дневники 1917 года. // Его же. Собрание сочинений, подг. "Пушкинским домом". Т. 5. - М., 2000. - 687 с.
75 Розанов B.B. Апокалипсис нашего времени. // Его же. Мимолётное. Собрание сочинений под общей ред. А.Н.Николюкина. - М.: "Республика", 1994; С. 413 -472; Розанов В.В. Чёрный огонь. 1917 год. // Его же. Мимолётное. Собрание сочинений под общей ред. А.Н.Николюкина. -М.: "Республика", 1994. С. 337-412.
76 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. / Подготовка текста, вступ.статья и комментарии А.В.Лаврова и Дж.Мальмстада. - СПБ.: "АШепеиш-Феникс", 1998. - 736 с.
77 Бенуа А.Н. Мой дневник: 1916 - 1917 - 1918. / Подготовка текста и комментарии Н.И.Александровой и др. -М.: "Русский путь" (серия "Наше нелавнее", вып. 10), 2003.
78 Симбирский дневник генерала А.В. Жиркевича 1917 г. // Волга. 1992. № 6/7.
79 Ростковский Ф.Я. Дневник для записывания. (1917-й глазами отставного генерала). - М.: "Росспэн", 2001. -495 с. тупными для российского читателя» и исследователя . А в изданных ранее содержались значительные купюры, относящиеся как раз к о I *
1917 и 1918 годам Много ещё любопытного хранится в архивах. Но, к сожалению, такие богатейшие личные фонды, которые имеются в архиве Российской академии наук или в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), а также в рукописных отделах Государственной публичной библиотеки в Москве и Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, трудно доступны для провинциального исследователя. В архивах и музеях Казани, Ульяновска, Самары и Саратова ничего такого, относящегося к исследуемому времени, нет. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФе) хранятся дневниковые записи известной беллетристки и публицистки кадетки А. Тырковой (фонд 629) и бывшего редактора монархической газеты "Московские вести" Л. Тихомирова (фонд 634). Первые из них мне удалось отыскать лично, вторые оказались в моём распоряжении благодаря любезности историка А.В. Репникова, готовящего их к публикации. В этом же архиве мною были просмотрены, к сожалению, очень маленькие и содержащие крайне отрывочные сведения, фонды таких профессионально-общественных организаций, как союзы инженеров (фонд 5548), учителей (фонд 5490) и землемеров (фонд 5519).
Во вторую по значимости группу источников входят публицистические произведения того времени - статьи, заметки, отклики (в том числе стихотворные) на злобу дня. Здесь тоже имелись определённые трудности по сбору материала: столичной прессы в провинциальных архивах, библиотеках и музеях не так уж и много, а в местных газетах (таких, например, как симбирская "Заря") нужного для раскрытия темы материала обнаружить не удалось. Среди того, что всё же было мною выявлено, следует выделить то, что было написа
80 О таких документах, очень широко использованных О.Н.Знаменским, уже говорилось выше.
81 См., например: Из дневников М. А.Кузьмина. // Литературное наследство. Т. 92. - Александр Блок: новые материалы и исследования. Кн. 2. - М.: "Наука", 1981. С. 162. но, кроме уже упоминавшихся литераторов, М. Горьким (и в не малой степени заново опубликовано в последнее время) , М. Осорги-ным и Г. Чулковым, а также видными учёными, вроде Н. Бердяева, П. Гензеля (специалиста по финансам) и П. Сурмина (Устрялова). Их регулярные публикации в средствах массовой информации (газетах "Новое время", "Речь", "Русские ведомости", "Воля народа", "Дело народа", "Знамя труда", "Правда" и журналах "Клич", "Новый сатирикон" и "Народоправство") были заметным явлением в тогдашней общественной жизни. И все они в той или иной мере использованы в диссертации.
Весьма ценным источником, без коего немыслимо объективное суждение об эпохе и о взаимоотношениях между интеллигенцией и властью, является творческое наследие видных политических деятелей той эпохи, в том числе таких как вождь большевиков В.И. Ленина. В данном исследовании несколько страниц посвящёно анализу, новому прочтению его большой полемической статьи "Удержат ли большевики государственную власть?", в которой он излагал свои соображения о том, как победивший пролетариат будет строить
83 свои отношения со специалистами .
Третью группу образует газетная информация, не принадлежащая перу маститых публицистов, часто анонимная, но содержащая ценные сведения о тех или иных событиях и об участии в них отдельных представителей интеллигенции. Причём немалое количество такого рода сведений обнаружено автором не в органах партийных или деловых, претендующих на солидность (таких, как "Биржевые ведомости", "Коммерасант", "Русское слово"), но и в так называемой "жёлтой" прессе, рассчитанной на простого обывателя (например, "Московские ведомости" или "Московский листок").
82 Горький М. Несвоевременные мысли. - М., 1989; Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка. // Литературное наследство. Т. 95. - М.: "Наука", 1988.
83 См.: Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? //Поли. собр. соч.Т. 34. С. 302 и др.
Четвёртую группу формируют мемуарные свидетельства современников. Таких воспоминаний о революционных днях 1917 года в распоряжении исследователя уже очень много84. Они ценны более поздними размышлениями о пережитом, но в то же время страдают тем недостатком, который вообще свойственен такого рода литературе: избирательностью памяти и склонностью к приукрашиванию, а то и откровенному преувеличению своей роли в упоминаемых событиях. Поэтому их изучение требует особого подхода, учёта временной дистанции, мировоззренческих позиций (и их изменений), а также профессиональных особенностей автора. Но в данном исследовании отдано предпочтение всё же дневниковым записям и письмам именно того времени. Их преимущество хорошо выразила та же Гиппиус: "Многое теперь, по воспоминанию, я просто не могла бы написать; я уж сама в это почти не верю, оно мне кажется слишком
85 фантастичным" .
Таким образом, все указанные источники, дополняя друг друга и составляя в комплексе репрезентативную базу исследования, позволяют всесторонне рассмотреть и проанализировать восприятие интеллигенцией революционных событий 1917 года.
Географические рамки исследования определяются территорией тогдашнего Российского государства. Естественно, что основные события, определявшие ход и исход революции, происходили в Петрограде и Москве, в которых, пребывала тогда добрая половина интеллигенции и подавляющая масса самой её активной части. Но слал в столичные газеты из Полтавщины свои статьи В.Г. Короленко, некоторое время пребывали на родине близ Ельца Орловской губернии И. Бунин и М. Пришвин, а в Кисловодске отдыхала чета Мережков
84 См., например: Гиппиус 3. Живые лица. Воспоминания. Т. 2. - Тбилиси, 1991; Злобин В. Тяжёлая душа. -Беркли и Лос-Анджелос, 19980; Ясинский Н.Н. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. - М., 1926.
85 См.: Гиппиус 3. История моего дневника. // Её же. Петербургский дневник. - М.: "Сов.писатель" и "Олимп", 1991. С. 15. ских, наблюдал за жизнью губернского Симбирска отставной генерал А.В. Жиркевич.
Хронологические рамки, естественно, ограничиваются темой исследования: с начала революции и (конец февраля 1917 года) до некоторого её момента, символами которого стали, с одной стороны, распространение советской власти на всю страну, а с другой - Брестский мир (начало марта 1918 года). Хотя следует оговориться, что сама логика исследования иногда заставляла автора выходить за эти рамки, как верхние, так и нижние.
Методологическая основа диссертации.
Сложные, многоплановые аспекты исследуемой темы предопределили сложный поиск подходов, принципов и методов для решения задач и достижения цели.
При определении подходов к изучению проблемы автор учитывал: а) имевшие место взгляды как основных политических фигурантов того времени, которые и потом играли роль несомненных авторитетов в отечественной и эмигрантской историографии, её отдельных школ и направлений (государственной, либеральной, народнической, марксистской, марксистско-ленинской); б) такие устоявшиеся в историографии подходы, как формаци-онный (классовый), цивилизационный, социокультурный и др.; в) изменение во взглядах историков под влиянием, как политических и идеологических мотивов, так и достигнутых результатов исследований (например, Г. Иоффе или А. Ненароков); г) современный уровень развития отечественной историографии и его основные направления: консервативное (традиционное), дифференцированное (альтернативное) и радикально-критическое; д) появление авторских коллективов по комплексному анализу сложных проблем отечественной истории.
Авторский подход заключается, главным образом, в определении совокупности таких методов, приёмов, которые позволили бы, исходя из накопленного историографией материала и наличной источни-ковой базы, достичь цели и решить поставленные задачи. Предпочтение отдавалось историзму, объективности, многофакторному подходу (в том числе, классовому) к анализу исторического процесса, характерных для него явлений и наполнявших его фактов. При написании работы были использованы хронологический и проблемный методы, позволившие проследить определённую последовательность в развитии событий, выделить два их основных этапа и выделить главные проблемы, взгляды на разрешение которых разделяли интеллигенцию. При рассмотрении самих же этих проблем применялся историко-генетический метод., позволивший выявить истоки того или иного отношения к ним и проследить закономерности в углублении или изменении различных точек зрения. Немалая роль в работе принадлежала таким общенаучным методам, как анализ и синтез, индукция и дедукция, а также сравнение.
Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые комплексно исследованы взгляды российской интеллигенции на революцию 1917 года, проанализирована их эволюция и дифференциация, определены тенденции развития этого процесса; выявлены причины неудачи попыток организовать интеллигенцию в качестве самостоятельного субъекта политической, общественной и профессиональной деятельности; показано, что, вопреки расхожему мнению, не буржуазия и помещики, а именно интеллигенция первой встала на путь сопротивления большевистскому режиму; указано на выводы, к которым начали приходить в то время отдельные представители (в том числе такой любопытный вывод, что социальная сущность революции была не столько антибуржуазной, сколько антиинтеллигентской); исследована систематизированы и обобщены источники и историография темы; введён в научный оборот малоисследованный материал (публицистика того времени, во многом ранее не доступная исследователям, а также опубликованные в последние 15 лет дневники, письма и воспоминания), сам по себе представляющий значительный интерес для исторической науки; даны иные, чем прежде, оценки и комментарии тем известным высказываниям тех или иных лиц, которые раньше давались отрывочно или в отрыве от исторического контекста; наконец, намечены основные направления дальнейшего изучения этой темы.
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что она:
- представляет собою научно обоснованное обобщение и систематизацию исторического опыта российской интеллигенции в революцию 1917 года;
- определяет место и роль интеллигенции в революционных событиях того бурного времени;
- существенно дополняет наши представления как об истории революции, так и об истории интеллигенции;
- обосновывает пути дальнейшего изучения этих проблем.
Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена на кафедре новейшей истории России Московского государственного университета. Ключевые её положения нашли отражения в статьях, опубликованных в сборниках "Наше отечество" ("Февраль 1917 года глазами литераторов" в последнем выпуске и "Октябрь 1917 года глазами интеллигентов" в предпоследнем выпуске), а также в готовящемся к публикации сборнике студенческих и аспирантских работ факультета истории, политологии и права МГОУ.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Революционные события 1917 - начала 1918 гг. в России глазами интеллигенции"
Заключение
Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы.
Российская интеллигенция в лице лучших своих представителей давно желала политических перемен, сея недоверие в народе к монархической власти, указывая на её неспособность править, особенно в условиях войны, а когда эти перемены, наконец, наступили и самодержавие силами петроградских рабочих и солдат было свергнуто, приветствовала в подавляющем своём большинстве переворот, хотя от революционных методов, обеспечивших победу, она была далеко не в восторге, ибо плоды этой победы пришлось делить с теми, кого она считала не способными должным образом решать проблемы демократизации, социально-экономической модернизации и внешней политики (войны и мира).
Парадоксальность ситуации, сложившейся в России после свержения самодержавия, заключалась в двоевластии: легитимное Временное правительство, многие министры которого были выходцами из интеллигенции и представляли в нём её интересы, находилось под жёстким контролем Совета рабочих и солдатских депутатов и фактически проводило в жизнь его программу, отнюдь не всегда отвечавшую её пониманию интересов страны. Это особенно наглядно проявилось в подходах к внешней и аграрной политике. В этих условиях интеллигенция не смогла овладеть революционным движением, дать ему лидеров и была обречена на усиливающуюся неприязнь к себе со стороны народных низов, принимавших её за буржуазию.
Парадоксальным с точки зрения классовой и социально-психологической было и то, что Временное правительство, состоявшее главным образом из представителей интеллигенции, казалось бы, могло рассчитывать на её поддержку но та, "болтаясь из стороны в сторону", так и не смогла стать основой, на которую оно могло бы в решительный момент опереться.
Свержение самодержавия было воспринято либеральной, чиновничьей и значительной частью военной интеллигенции как шанс для коренного изменения хода мировой войны. В то же время социалистически ориентированная интеллигенция, изначально настроенная против войны, теперь стала на позиции революционного оборончества. Эта позиция в марте 1917 года была озвучена гораздо громче, чем все прочие, и даже казалась одно время превалирующей. Но одновременно, используя появившиеся легальные возможности, сначала робко, а потом всё громче и решительнее стали раздаваться голоса в пользу немедленного мира, принадлежавшие левым социал-демократам (большевикам, но не только им).
Выдающиеся представители российской литературы не уставали повторять, что война всегда - величайшее зло, проклятие и ужас истории, пережиток варварства, недостойный, позорный для просвещённого человечества. Для России же она, отмечалось ими - зло двойное, тройное, ибо не даёт укрепить ещё нетвёрдые основания свободы, пересоздать весь строй жизни на новых, свободных началах, догнать передовые страны на всех поприщах экономики, организации труда, народного образования. Горький, несмотря на весь свой скепсис, надеялся при этом на силу "здравого смысла солдат", оговариваясь, правда, что, если такое случится, то "это будет нечто небывалое, великое, почти чудесное", и что "это даст человеку право гордиться собою". Короленко же и Брюсов в поисках ответа на вопрос, как этого добиться, рассматривали геополитические и экономические условия, в которых наверняка окажется Россия, если согласится прекратить войну на любых предложенных ей условиях, и приходили к выводу, что цена такого мира будет чрезмерной, что территориальные, экономические и прочие жертвы, которые за ним непременно последуют и которые будут ощущаться много десятилетий спустя, гораздо тяжелее тех, что страна и народ вынуждены приносить сейчас ради того, чтобы ещё полгода-год путём напряжения всех усилий не поддаться слабости, устоять и вместе с союзниками дождаться такого момента, когда на приемлемый для всех мир вынуждена будет согласиться Германия.
Но такое понимание "меньшего зла" было чуждо подавляющему большинству солдат, рабочих, простого народа. В среде интеллигенции стало остро ощущаться противоречие между её национальным чувством, патриотизмом и полным неприятием войны у низов. Это наглядно проявилось во время апрельского кризиса, когда борьба внутренняя, и без того отягощавшая войну внешнюю, приняла вооружённый характер и по разные стороны баррикад этой трёхдневной гражданской войны на улицах Петрограда оказались интеллигенты, с одной стороны, и рабочие с солдатами, с другой.
Для интеллигенции всё яснее становилось, что солдаты не только устали проливать кровь не известно за что, но и не усидят на фронте, бросят окопы, если прослышат, что дома собираются делить землю. А стремление крестьян восстановить историческую несправедливость вступало в противоречие не только с чувством интеллигента-собственника, но и сего пониманием экономической нецелесообразности предстоящего чёрного передела.
На фоне постоянно возрастающей активности низов всё больше давали о себе знать люди, склонные к революционному мессианизму, утверждавшие, что в силу ряда обстоятельств Россия встала в первые ряды борцов с социальной несправедливостью и несёт миру свет освобождения. Но эта же активность воспринималась на противоположном политическом фланге как предвестник непременных погромов, направленных против людей "богатых", ну и, конечно, "образованных". Осознавая себя работником, несущим народу свет знания, учёный, инженер, врач особенно явственно стал понимать, что в представлении мужика он - барин. А что необходимо сделать именно сейчас, чтобы преодолеть это исконное недоверие, сорвать с народной души скептицизм невежества, он не знал и потому ещё более терялся. Испуг, даже страх перед расширяющейся анархией и усиливающимся безвластием стал характерной чертой если пока ещё не абсолютного большинства людей умственного труда, то довольно значительной и постоянно увеличивающейся её части.
К середине лета 1917 года скептические настроения среди людей умственного труда заметно усилились. Одни из них видели причины неминуемого краха в своеобразной истории России, в её социально-экономической отсталости, в ментальности её населения. Другие считали, что главная беда не в этом, а в намеренной эксплуатации этих слабостей и особенностей вернувшимися из эмиграции революционными фанатиками, пытающихся привести недовольные низы из пассивно-бунтовского состояния в активно-бунтарское, а также в слабости и неспособности власти справиться с создавшимся крайне опасным положением.
В этих условиях российская интеллигенция в значительной своей части, испытывая беспокойство и даже страх за своё и страны будущее, стала подумывать о том, как покончить с безвластием и анархией, и искать среди популярных политиков и военных, обладающих талантом и волей властвовать, умеющим рассчитывать по пальцам механику правления и способным решительно, без колебания заставить народ повиноваться. Таким политиком, популярным в народе и способным энергию этого освободившегося народа направить в русло военных усилий и добиться определённых успехов на фронте, чтобы затем, опираясь на патриотический подъём, и сплотить общество вокруг правительства и предотвратить угрозу анархии и распада государства, многим вначале казался Керенский.
Но надежды на него оказались несостоятельными. Всё очевиднее становилось многим, что он на роль Наполеона не годится, что пламенным словом массу не проймёшь, что тут нужна "метла", то бишь не краснобай-демагог, а боевой генерал, способный не только отдавать приказы, причём непопулярные, но и проводить их в жизнь, применять оружие не только против врага внешнего, но и "внутреннего", не испугается этого. Мерам, предложенным для исправления ситуации генералом Корниловым, сочувствовали многие. Однако, в последний момент Керенский не только отказался пойти на союз с этим генералом, но и объявил его мятежником. Власть свою таким образом он сохранил ещё на пару месяцев, но о какой-либо популярности его говорить больше не приходилось.
Безрезультатными оказались и поиски русского Наполеона, который сумел бы ограничить разрушительные тенденции революционной стихии и направить её энергию в созидательное русло, и попытки как-то самоорганизоваться, создать собственное политическое представительство в лице советов депутатов трудовой интеллигенции.
Также безуспешными оказались усилия, направленные на то, чтобы не допустить к власти крайних революционеров - большевиков и левых эсеров.
Вопреки расхожему мнению, не буржуазия и помещики, а именно интеллигенция первой встала на путь сопротивления большевистскому режиму. В силу ряда объективных и субъективных причин это сопротивление не имело и, как нам представляется, не могло иметь успеха, что поставило интеллигенцию перед мучительной альтернативой: либо продолжить сопротивление, но уже не в качестве самостоятельной силы, а в роли не очень-то желанной союзницы других антисоветских сил, либо пойти на отнюдь не равноправное, можно сказать даже подневольное сотрудничество с новыми властителями, либо эмигрировать. Все эти тенденции уже стали проявляться сразу же после Октября 1917 года.
Проведённое исследование позволило определить спектр общественно-политических, настроений интеллигенции в ходе революции
1917 года и выявить отдельные его сегменты, их зависимость от взглядов как на сам ход революционного процесса, так и на отдельные его аспекты (отношение к власти, к вопросам о войне и земле, о защите культурных ценностей).
Подтвердились и ранее высказываемые историками предположения о том, что, во-первых, отсутствовала прямая корреляция (причинная связь) между социальным происхождением и материальным положением людей умственного труда и их политической и нравственной позицией; во-вторых, что эти позиции порою коренным образом менялись, на что могли влиять самые различные факторы, начиная от менталитета (системы ценностей) и кончая средой, в которой повседневно вращался тот или иной человек; в-третьих, что величина каждого из сегментов изучаемого спектра всё ещё определяется довольно приблизительно.
Можно пока что с определённой долей достоверности утверждать, что подавляющее большинство российской интеллигенции придерживалось тогда демократически ориентации. Но, что парадоксально, если говорить о политических симпатиях, то они, пожалуй, больше принадлежали социалистическим партиям меньшевиков и эсеров, чем кадетов. Последних поддерживали главным образом люди, придерживавшихся государственных, великодержавных приоритетов, а "революционную демократию" (то есть правых, умеренных социалистов) - те, кто полагал, что "глас народа - глас божий", даже если он и не совпадает с их пониманием собственных интересов. О сегментах же, занимавших крайнее положение, с определённостью можно сказать, что они как бы поменялись местами: монархистски и черносотенски настроенные вынуждены были уйти в тень, зато в полный голос получили возможность говорить те, кто разделял взгляды большевиков, максималистов и анархистов. Мало того, чем больше эти взгляды получали поддержку в массах, тем больше находилось охотников перейти из первого лагеря во второй.
В диссертации выявлены и обоснованы этапы эволюции взглядов интеллигенции на причины, ход и последствия революции 1917 года. Они не имеют чётких хронологических граней, не привязаны к каким-то конкретным датам, но каждый из них можно смело определить рамками деятельности всех трёх составов Временного правительства и первых месяцев работы Совета народных комиссаров.
Сделанные в результате этой работы выводы позволяют говорить о том, что первые опасения и сомнения относительно того, какие разрушительные размеры принимает революция, появились у многих представителей интеллигенции уже в первые дни "светлой, как влюблённость" свободы, и что чем дальше развивались события, тем заметнее становились разочарования и разногласий в её рядах, тем более ощущались там настроения неприязни к людям умственного труда. Немалую роль в этих процессах сыграло различное отношение к таким коренным вопросам революции, как война (противоречие между неприятием её в низах и национальным чувством, патриотизмом у людей умственного труда) и земельный передел (сомнение в его экономической целесообразности и понимание социальной необходимости). В поисках альтернативы казалось бы неминуемому распаду начались поиски лидера, способного стать своего рода русским Наполеоном. Вначале таким для многих виделся Керенский, портом — Корнилов. Мало кто верил, что выходом из общенационального кризиса может стать демократический паллиатив. Так что осенью 1917 года перед интеллигенцией вопрос состоял не столько в том, как воспрепятствовать дальнейшему полевению страны и приходу к власти большевиков, сколько в том, как долго их правление продлиться и что делать, что сократить этот срок до минимума. Причём даже среди лево ориентированной её части, видевшей в Ленине не "грядущего Хама", а нового Мессию, было немало таких, кто полагал, что с ним повторится та же история, что и с Иисусом, что мещанин, обыватель победит революционера.
Тенденции политического размежевания среди интеллигенции, наблюдавшиеся уже сразу за Февралём, получили дальнейшее развитие после Октября и во многом наполнились иным конкретным содержанием. Если раньше главными объектами идейно-политической борьбы были двоевластие, война и мир, аграрная проблема, и у сторонников разных точек зрения было много сторонников, то теперь водораздел прошёл между подавляющим большинством противников советской власти и ничтожным числом её сторонников. Но явное количественное преимущество первых нейтрализовалось целым рядом других факторов —склонностью значительной части интеллигенции к компромиссу, отсутствием опыта жёсткого коллективного противостояния, но прежде всего решительностью и фанатичной энергией большевиков, их довольно гибкой тактики, сочетающей применение силового давления и репрессий с соблазнами гигантских перспектив в будущем.
При рассмотрении соотношения мировоззренческих и сугубо практических мотивов при определении своего отношения к установлению власти советов было выявлено, что какой-то чёткой взаимозависимости здесь установить трудно, что в каждом отдельном случае определяющую роль могли играть и те и другие.
Наконец, из проведённого исследования следует, что именно интеллигенция, а не буржуазия и помещики, первой попыталась оказать сопротивление захвату власти большевиками, прибегнув к его самым разнообразным формам. Это была и эпизодическая вооружённая борьба юнкеров и "белой гвардии" (студентов и гимназистов), и отказ некоторых чиновников, служащих и инженерно-технических работников иметь дело с советскими комиссарами, и массовая (но не ставшая всеобщей) забастовка учителей и врачей. А самым острым оружием её в этой борьбе оставалось публичное слово. И тем не менее сопротивление интеллигенции, названное большевиками саботажем, было обречено на поражение и в силу идейно-политической раздробленности и организационной слабости, и в силу проявленной большевиками безоглядной решимости и воли в завоевании и укреплении власти, и в силу отсутствия должной поддержки со стороны буржуазии, и, наконец, в силу того, что обожествляемый интеллигенцией народ видел в ней не пример для подражания, а нечто враждебное себе.
Так что интеллигенции ничего другого не оставалось кроме словесного выражения своей неприязни к тем, кто, полагала она, лишил её плодов славной Февральской революции. Пока это ещё худо-бедно можно было делать публично, она это делала. Но чем дальше, тем больше советские руководители ограничивали свободу слова и собраний. Так что пользоваться такой возможностью ей оставалось не так уж и долго. И приходилось или покидать родные места и уезжать туда, где казалось сытнее и свободнее, то есть где не было советской власти, или начать привыкать к молчанию, а то и того хуже - к несвойственному ей даже в дореволюционные времена угодничеству и подхалимажу, или ждать спасения от вчерашних врагов -немцев.
Пошедших на сотрудничество с советской властью в первые же дни её существования, было, повторяем, не так уж и много. В любом случае они выглядели явным меньшинством по сравнению с её противниками. Ещё меньше среди них было искренних приверженцев мировой социальной революции, особенно в её ленинском, большевистском истолковании. Но в их числе были и яркие, выдающиеся фигуры, которые придавали диктатуре пролетариата определённый культурный флёр и даже ореол.
Довольно интересные наблюдения и выводы некоторые философы, историки и писатели сумели сделать уже в конце 1917 и начале 1918 года, когда только началось осмысление причин, хода и последствий революции, а также роли во всём этом интеллигенции.
Так, В. Розанов всю вину за то, что "Русь слиняла в два дня", возлагал на интеллигенцию, точнее на литераторов, которые писали, как замужняя женщина любит не мужа, а другого, но не научили первобытны народ нужным ремёслам, не научили его уважать свой и чужой труд.
Параллельно с этим Н. Устрялов стал склоняться к признанию того, что большевистская стадия русской революции "истинно народна", стихийна, что в ней проявились подлинность и закономерности, свойственные народному бунту, что сам большевизм порождён интеллигенцией, но бессознательно подхвачен народом, в результате чего на авансцену вышло немало национальных типов, известных из русской литературы. Ленина и Троцкого он - считал подлинно русскими интеллигентами, и хотя признавал их программу бредовой, но призывал признать, что в бреду находится больная Россия.
Эти оценки явно противоречили тому, что высказывали представители либеральной мысли, особенно "веховцы". Не видел никаких признаков революции в событиях 1917 года Н. Бердяев. Он призывал видеть основной конфликт не там, где он обычно виделся, не в столкновении классов трудящихся с классами имущих, не в борьбе пролетариата с буржуазией, а прежде всего в столкновении жизненных интересов и в противоположности жизнеощущений между представителями труда материального и труда духовного, в трагическом для России столкновении "народа" с "культурой", в восстании необразованных против образованных, невежественных против знающих. И так как качественное пало жертвой количественного начала, ни о каком прогрессе говорить нельзя. Наоборот, свержение иерархии, в которой качественный труд ценится более высоко (а творчество -ещё выше), чем количественный, есть всего-навсего реакционный бунт, отбрасывающий назад.
Не уставая повторять, что ""народ" в разливе и торжестве большевизма прежде всего восстал против "интеллигенции"", и признавая в этом своеобразное возмездие за тот нигилистический яд, которым "интеллигенция" отравила "народ", Бердяев в то же время призывал не забывать, что в действительности "народ" является орудием в руках кучки демагогов, остаётся в состоянии рабском, а жертвой же его злобы, раздуваемой для властвования над ним, падает прежде всего наиболее культурный слой интеллигенци, наименее повинный в распространении нигилистическаго яда. В сущности одна часть интеллигенции, "преимущественно наехавшая из-за границы, наиболее чуждая народу, но самая демагогическая по своим приёмам", изгоняла другую её часть, "более деловую, ближе стоявшую к народной жизни и не прибегающую к бессовестной демагогии".
Поистине трогательной находил Н.Н. Алексеев ту веру, с которой принимает тёмный народ большевистскую хирургию. Отсюда им делался вывод о том, новый режим довольно прочен и, если "воры не перережут друг друга" или "цензовики" (то есть образованные) не сумеют противопоставить ему физическую силу, то конца его следует ждать только тогда, когда вся Россия получит образование и превратится в государство "цензовиков".
По своему, не столько историософски, сколько этически и эстетически,, романтически принимал революцию за подлинное преображение мира А. Блок, видя в ней и непременное возмездие за все обиды, которые издавна испытывал народ от тех, кому он вынужден был столетиями повиноваться, а все они были людьми грамотными. Он был уверен, что стыдно ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать на Россией, над которой пролетает циклон, и обязанностью писателей считал "слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавым рёве и звоне мирового оркестра".
Изучение темы "Революционные события в России 1917 - начала 1918 гг. глазами интеллигентов" позволяет определить проблемы, которые требуют более тщательного и глубокого исследования. К ним относятся:
- во-первых, разработка теоретико-методических основ исследования общественно-политических настроений российской интеллигенции в революционные годы, её роли в то время и особенно её отношений с властью, с одной стороны, и с массами, с другой;
- во-вторых, тщательный сбор и отбор массовых источников, включая материалы прессы и документы личного происхождения:
- в-третьих, более критичное отношение к таким источникам как мемуары и переработанные, подвергнутые цензуре или, наоборот, дополненные дневники;
- в-четвёртых, массовое введение в научный оборот материалов, освещавших работу различных организаций интеллигенции, как документальных протокольного порядка, так и газетно-журнальных;
- в-пятых, создание полной эвристической системы, опирающейся на новейшие информационные технологии и позволяющей отыскивать сведения о событиях и лицах в различных видах опубликованных и архивных источников, относящихся как к самой теме, так и к истории революции и гражданской войны в России.
Массовый анализ взглядов и высказываний самых различных представителей интеллигенции того времени способен вывести изучение недавнего (не только революционного) прошлого нашей страны на новый качественный уровень, помочь усовершенствовать методологические и гносеологические основы познания истории.
Список научной литературыГердт, Наталья Евгеньевна, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Аркадий Аверченко в "Новом сатириконе" 1917 г.-1918 г. Рассказы и фельетоны. М.: "Круг", 1994. - 68 с.
2. Амфитеатров А. Идол самодержавия. // Русская воля. 22.03.17. № 28.
3. Амфитеатров А.В. Жизнь человека, неудобного для себя и для многих. Т. 1 и 2. М.: "НЛО", 2004. (серия "Россия в мемуарах").
4. Амфитеатров-Кадашев В. Страницы из дневника. / Публ. С.В. Шумихина. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 20. М. -СПб.: "Atheneum" и "Феникс", 1996. С. 435-657.
5. Андреев Л. S.O.S.: Дневники (1914-1919); Письма (1917-1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (19181919). / Вступ. статья, составление и примечания Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.- СПб.: "Atheneum-Феникс", 1994.
6. Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Т. 1-2. М.: "Худ. литература", 1991.
7. Бедный Д. Укрепляйте "Правду"! // Правда. 22.04.17. // Его же. Полное собрание сочинений. Т. 2. М.-Л.: Госиздат, 1925. С. 131.
8. Бедный Д. Про землю, про волю, про рабочую долю. // Его же. Полное собрание сочинений. Т. 2. М.-Л.: Госиздат, 1925. С. 240289.
9. Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. / Подготовка текста, вступ. статья и комментарии А.В. Лаврова и Дж. Мальмстада. -СПБ.: "Atheneum-Феникс", 1998. 736 с.
10. Бенуа А.Н. Мой дневник: 1916-1917-1918. / Подготовка текста и комментарии Н.И. Александровой и др. — М.: "Русский путь" (серия "Наше недавнее", вып. 10), 2003.
11. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: "Наука",1990.
12. Блок А. Дневники. М., 1989.
13. Блок А. Дневниковые записи. // Его же. Собрание сочинений. Т. VII М.- Л.: ГИХЛ, 1963.
14. Блок А. Записные книжки. 1901-1920. / Сост., подготовка текста, предисловие и примечания Вл. Орлова. М.: "Художественная литература", 1965.
15. Блок А. Письма к жене. // Литературное наследство. Т. 89. — М.: "Наука", 1978.
16. Блок А.А., Белый А. Диалог поэтов революции. М., 1990. (переписка, в основном до 1916 года).
17. Брюсов В. Избранные сочинения в двух томах. / Ред. и примеч. И.М. Брюсовой. Т. 1. -М.: "Худ. литература", 1955.
18. Брюсов В.Я. Неизданное и несобранное. / Сост. и комментарии В. Молодякова. М.: "Ключ" и "Книга бизнес", 1998. - 332 с.
19. Бунин И.А. Лишь слову жизнь дана. / Сост., вступл., примеч. и имен. указ. О.Н. Михайлова. М.: "Сов. Россия" (серия "Русские дневники"), 1990. - 368 с.
20. Бунин И. Окаянные дни. // Его же. Окаянные дни; Горький М. Несвоевременные мысли. / Предисл. и примечания О. Михайлова. — М.: Айрис-пресс. 2004. С. 50-172.
21. Вахтангов Е. Из дневников 1915-1917. // Его же. Материалы и статьи. М., 1959.
22. Вернадский В.И. Дневники 1917-1921. Киев, 1991. - 269 с.
23. Гиппиус 3. Живые лица. Воспоминания. Т. 2. — Тбилиси, 1991; Злобин В. Тяжёлая душа. Беркли и Лос-Анджелес, 1980.
24. Гиппиус 3. История моего дневника. // Её же. Петербургский дневник. М.: "Сов. писатель" и "Олимп", 1991.
25. Гиппиус 3. Опыт свободы. / Подготовка текста и примечаний
26. H.В. Королёвой. М.: "Панорама" (библиотека "Русская литература. XX век"), 1996. - 526 с.
27. Хин-Гольдовская P.M. Из дневников 1913-1917. // Минувшее. Исторический альманах Вып. 21. СПб.: "Atheneum" и "Феникс", 1997. С. 572-578.
28. Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре.(1917-1918 гг.). М.: "Интерконтакт", 1990.
29. Горький М. Несвоевременные мысли. // Бунин И. Окаянные дни; Горький М. Несвоевременные мысли. / Предисл. и примечания О. Михайлова. -М.: Айрис-пресс. 2004. С. 175-380.
30. Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка. // Литературное наследство. Т. 95. — М.: "Наука", 1988.
31. Государственное совещание. (Стенографический отчёт.) М.-Л.: "Центрархив", 1930.
32. Симбирский дневник генерала А.В. Жиркевича 1917 г. // Волга. 1992. № 6/7.
33. Иванов-Разумник. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века. Т.1. СПб., 1907.
34. Иванов-.Разумник. Год революции. Статьи 1917 года. Пг., 1918.
35. Короленко В. Дневник. Письма. 1917—1921. / Сост., подготовка текста, коммент. В.И. Лосева. М.: "Сов. писатель", 2001. - 544 с.
36. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 1. М.: Политиздат, 1970.
37. К тебе и о тебе моё последнее слово". Письма В.О. Лихтен-штадта к М.М. Тушинской. // Минувшее. Исторический альманах. 20. М.- СПб.: "Atheneum" и "Феникс", 1996. С. 129-165.
38. Из дневников М.А. Кузьмина. // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 2. - М.: "Наука", 1981.
39. Борис Михайлович Кустодиев. Письма. Статьи. Заметки. Интервью. Л., 1967.
40. Ленин В.И. Удержат ли большевики государственную власть? // Полн. собр. соч. Т. 34. С. 302 и др.
41. В.И. Ленин и А.В. Луначарский. // Литературное наследство. Т. 80. М.: "Наука", 1971.
42. Луначарский А.В. Неизданные материалы. // Литературное наследство. Т. 82. М.: "Наука", 1970.
43. Мандельштам О. Стихотворения. Проза. / Сост., вступ., комментарии М.Л. Гаспарова. М.: "ACT" и Харьков: "Фолио", 2001. - 736 с.
44. Маяковский В.В. Собрание сочинений в 12 томах под ред. Ф.Ф. Кузнецова и др. Т. 1. М.: "Правда", 1978. - 432 с.
45. Меньшиков М.О. Дневник 1918 года. // Российский архив. (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв.). Выпуск IV: М.О. Меньшиков. Материалы к биографии. М.: "Тритэ"-"Российский архив", 1993. - 273 с.
46. Осинский Н. Интеллигенция и рабочая революция. // Правда. 14.11.17. № 189.
47. Пришвин М.М. Дневники. Кн.1: 1914 1917. - М.: "Моск. рабочий", 1991.
48. Пришвин М.М. Цвет и крест. Неизданные произведения. / Сост., вступ., коммаент. В.А. Фатеева. — СПб.: "Росток" (серия "Неизвестный XX век"), 2004
49. Ремизов A.M. Взвихрённая Русь. / Публицистика и дневники 1917 года. // Его же. Собрание сочинений, подг. "Пушкинским домом". Т. 5. М., 2000. - 688 с.
50. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. // Его же. Мимолётное. Собрание сочинений под общей ред. А.Н. Николюкина. — JVL: "Республика", 1994. С. 413-472.
51. Розанов В.В. Чёрный огонь. 1917 год. // Его же. Мимолётное. Собрание сочинений под общей ред. А.Н. Николюкина. М.: "Республика", 1994. С. 337-412.
52. Ростковский Ф.Я. Дневник для записывания. (1917-й глазами отставного генерала). М.: "Росспэн", 2001. - 495 с.
53. Скворцов-Степанов И.И. Революция 1917 года. // Его же. Избранные произведения. Т. II. JL: Гос. соц.-эк. изд-во, 1931. С. 3 -166.
54. Советский театр. Документы и материалы. JL, 1968.
55. Сомов К.А. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979.
56. Устрялов Н.Н. Былое Революция 1917 г. (1890-е—1919 гг.). Воспоминания и дневниковые записи. - М., 2000.
57. Цветаева М. "Долг повелевает петь": Стихотворения и поэмы (1908-1941). М.: "Вагриус", 2005. - 528 с.
58. Ясинский Н.Н. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. — М., 1926.1. Газеты
59. Дело народа. (Петроград, орган ПСР). 1917.
60. День, (орган меньшевиков-оборонцев, редактируемый А.Н. По-тресовым, Петроград). 1917.
61. Знамя труда. (Петроград, орган левых эсеров). 1917-1918.
62. Коммерсант. (Москва). 1917.
63. Наш век. (Петроград, вместо "Речи"). Конец 1917-1918.
64. Новая жизнь. (Петроград). 1917-1918.
65. Новое время. (Петроград). 1917.
66. Петроградская газета. 1917. Петроградский голос. 1918. Петроградское эхо. 1918. Речь. (Петроград, орган ЦК ПНС). 1917. Русская воля. (Петроград). 1917. Русские ведомости. (Москва). 1917—1918. Русское слово. (Москва). 1917.
67. Свобода и жизнь. (Москва, орган Совета депутатов трудовой интеллигенции). 1917. Позже называлась "Мысль". Свободное слово. (Петроград). 1917.1. Журналы
68. Бич. (Петроград). 1917. Искры. (Москва). 1917.
69. Клич. (Москва, орган Лиги интеллигентного труда). 1917. Нива. (Петроград). 1917. Новый сатирикон. (Петроград). 1917. Спратак. (Москва, орган большевиков). 1917. Фельдшерский вестник. (Москва). 1917.1. Литература
70. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука (1917-1923 гг.). М., 1968.
71. Амелин П.П. Интеллигенция и социализм. Л., 1970. - 151 с. Аннинский Л. Наши старики. // Дружба народов. 1989. № 5. С. 236-246.
72. Бабореко А. Бунин. Жизнеописание. М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2004. - 457 с.
73. Бразуль И. Демьян Бедный. М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 1967. - 304 с.
74. Быков В.Ф. Медицинские работники в Октябрьской революции. // Труды Северо-Осетинского мед. ин-та. Вып. 8. Ч. 2. Орджоникидзе, 1958.
75. Варламов А. Красные и алые паруса. (А.С. Грин и русская революция). // Подъём (Воронеж). 2005. № 2. С. 191-226.
76. Валаамов А. Александр Грин. М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005. - 452 с.
77. Винокуров А.В. Проблемы использования военных специалистов в Красной армии (1917-1920 гг.). // Из истории борьбы Коммунистической партии за победу буржуазно-демократической и социалистической революции и построение социализма в СССР. М., 1968.
78. Власов И.И. В.И. Ленин и строительство Красной армии. М., 1968. Толовский Л. Ленин об интеллигенции. // Печать и революция. 1925. № 2.
79. Волин Б. Октябрьская революция и интеллигенция. // Исторический журнал. 1938. № 11.
80. Волков B.C. Вовлечение буржуазной технической интеллигенции в социалистическое строительство. (Письма В.И. Ленина как источник изучения проблемы). // Учёные записки кафедр общ. наук Ленинграда. История КПСС. Вып. 10. Л., 1970.
81. Вольфсон С.Я. Интеллигенция как социально-экономическая категория. -М.-Л., 1926.
82. Галин С.А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской власти (1917-1925). М., 1990.
83. Генкин Э.Б. О ленинских методах вовлечения интеллигенции в социалистическое строительство. // Вопросы истории. 1965. № 4. Гиринис Е. Ленин о специалистах науки и техники. Пг., 1924.
84. Городецкий Е.Н. К истории ленинского плана научно-технических работ. // Из истории революционной и государственной деятельности В.И. Ленина. — М., 1960.
85. Гуров И. Ленин о перевоспитании учительских кадров в первые годы советской власти. (1917-1920). // Некоторые вопросы теоретического наследия В.И. Ленина. Труды Моск. гос. пед. ин-та им. Ленина. М., 1960.
86. Далматов И. П. Формирование советской социалистической интеллигенции и её роль в развитии советского общества // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. Т. 128. Вып. 3. М., 1957.
87. Демидов Н.И. Некоторые вопросы борьбы партии за привлечение литературно-творческих сил на сторону советской власти (1917 1925 гг.). // Труды кафедр общ. наук Московского инженерно-строит. ин-та. № 28. — М., 1957.
88. Добрускин И.Е. Об участии непролетарской интеллигенции в строительстве социализма // Научный коммунизм 1974. - №6. — С. 50-59.
89. Ермаков В. Т. Исторический опыт культурной революции в СССР. М.: "Мысль", 1968.
90. Ерман Л.К. Интеллигенция в первой русской революции. М., 1968.
91. Ерман Л.К. Ленин о роли интеллигенции в демократической и социалистической революции, в строительстве социализма и коммунизма. М., 1970. - 46 с.
92. Зак Л.М. История изучения советской культуры. М., 1981. -176 с.
93. Заузолков Ф. Н. Об опыте СССР по сближению умственного и физического труда // Вопросы философии. 1956. № 5. С. 32-45.
94. Заузолков Ф. Н. Формирование и рост социалистической интеллигенции в СССР // Коммунист. 1958. № 11. С. 52-62.
95. Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль октябрь 1917 г.). Л.: "Наука", 1988. - 352 с.
96. Зосимский В. Профессиональные союзы театральных работников в период Великой Октябрьской революции и гражданской войны (1917-1921 гг.) // Учёные записки Высшей школы профдвижения ВЦСПС. Вып. 3. М., 1968.
97. Интеллигенция и революция: XX век. / Сб. статей. М., 1985. — 335 с.
98. Интеллигенция современной России: Духов, процессы, исторические традиции и идеалы: Тез. докл. XIII междунар. научно-теорет. конф. 26-28 сент. 2002 г. Иваново: ИвГУ, 2002.
99. Иовлев A.M. Разработка и осуществление ленинской политики в отношении специалистов старой армии (1917—1920 гг.). // Вопросы истории КПСС. 1968. № 4.
100. Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. Новосибирск, 1978.
101. История российской интеллигенции: Мат. тез. науч. конф.: В 2 ч. М., 1995.
102. Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Ульяновск, 1977.
103. Карапетян P.O. Становление и развитие интеллигенции как социального слоя. — М., 1974.
104. Карпов Г. Г. О советской культуре и культурной революции в СССР. М.: Госкультпросветиздат, 1954.
105. Катанян В. Маяковский. Литературная хроника. М., 1956.
106. Кейрим-Маркус М.Б. Государственная комиссия по просвещению (1917 1920). // История СССР. 1969. № 12.
107. Келлер Б.А. Пролетарская революция и советская интеллигенция. М., 1937.
108. Ким М. П. 40 лет советской культуры. М.: Госполитиздат, 1957.
109. Князев Г.А., Кольцов А.В. Краткий очерк истории Академии наук СССР. М.-Л., 1960.
110. Кольцов А.В. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. Л., 1969.
111. Комков Г.Д. и др. Академия наук штаб советской науки. - М., 1968.
112. Константинов Ф. Советская интеллигенция. // Коммунист. 1959. № 15. С. 48-65.
113. Кораблёв Ю.И. В.И. Ленин и создание Красной армии. М., 1970.
114. Краморенко Л.Н. Против фальсификации некоторых принципов деятельности КПСС по формированию технической интеллигенции (1917 1937 гг.). // Учёные записки Ленинград, гос. пед. ин-та. Т. 424. Вып. 1. - Л., 1969.
115. Красильников С.А., Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и утверждение советской власти: 1917-лето 1918. Новосибирск, 1985. - 254 с.
116. Красникова А.В. Из истории разработки В.И. Лениным политики привлечения буржуазной интеллигенции на службу советскойвласти. 11 Вестник Ленинградского ун-та. 1970. № 8 (Серия истории, языка и литературы. Вып.2).
117. Красникова А.В. В.И. Ленин и A.M. Горький в 1917-1918 гг. (Из истории взаимоотношений Коммунистической партии с интеллигенцией в первый год советской власти) // Учёные записки Института истории партии ЛК КПСС. Т. 1. Л., 1970.
118. Круцко И.Е. Обоснование В.И. Лениным политики привлечения буржуазной интеллигенции к социалистическому строительству (1917—1920 гг.) // Учёные записки Волгоградского гос. пед. ин-та. Вып. 22. Волгоград, 1967.
119. Кузнецов Ю.С. В.И. Ленин о вовлечении интеллигенции в социалистическое строительство. // В.И. Ленин — великий теоретик, организатор и вождь Коммунистической партии и Советского государства. Могилёв. 1970.
120. Куняев Ст., Куняев Срг. Сергей Есенин. М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 2005. - 595 с.
121. Ларин Ю. Интеллигенция и советы: хозяйство, буржуазия, госаппарат. М., б.г..
122. Лашин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. — М.: "Советский художник", 1983. 496 с.
123. Ледер В.Л. Специалисты и их роль на производстве. М., 1926.
124. Ленин В.И. Шаг вперёд, два шага назад. (Кризис в нашей партии). // Его же. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 309 и др.
125. Лотова Е.И. Первые шаги советской власти по привлечению медицинской интеллигенции к социалистическому строительству. // Советское здравоохранение. 1971. № 4.
126. Лукьянов С. Жизнь А.С. Голубкиной. М., 1965.
127. Луначарский А.В. Смена вех интеллигентской общественности. // Культура и жизнь. 1922. № 1.
128. Луначарский А.В. Об интеллигенции. — М., 1923.
129. Луначарский А.В. Интеллигенция в прошлом, настоящем и будущем. М., 1924.
130. Луначарский А.В. Интеллигенция и её место в социалистическом строительстве. // Революция и культура. 1927. № 1.
131. Луппол И. Интеллигенция и революция. // Новый мир. 1939. №7.
132. Мамаева К.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и интеллигенция. Рига, 1967. - 27 с.
133. Меерович Б. Из истории борьбы Коммунистической партии за привлечение учительства на сторону советской власти. // Вопросы истории КПСС и философии. Сб. статей кафедр общ. наук Свердловского гос. пед. ин-та. Свердловск, 1965.
134. Меметов B.C. К первым итогам становленияинтеллигентоведения" как самостоятельной отрасли научного знания. // Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: Межвузов, респ. сб. науч. тр. Иваново, 1996. С. 3-14.
135. Московский университет за 50 лет советской власти. М., 1967.
136. Некоторые современные вопросы анализа российской интеллигенции: Межвузов, сб. науч. тр. Иваново: ИвГУ, 1997.
137. Николаев Н.П. Выстрел в будущее: Заметки о судьбах интеллигенции и гуманитарном образовании // Вестник высшей школы. Сер. 6. История. 1989. № 9.С 20 и др.
138. Общественно-политическая жизнь российской провинции: XX век: Краткие тезисы докладов и сообщений к предстоящей межвуз. науч. конф. Тамбов, 1993.
139. Пасюков Ф.В. Медицинские работники Балтики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. // Труды ин-та орг-ции здравоохранения и истории медицины им. Семашко. Вып. 5. М., 1959.
140. Пинегина JI.A. К вопросу о политическом размежевании буржуазной интеллигенции в период Октябрьской .революции (1917— 1918). // Вестник МГУ. Серия историч. 1974. № 2. С. 3-19.
141. Плеханов Г.В. Идеология мещанина нашего времени. // Сочинения. Т. XIV.-М., 1925. С. 259-344.
142. Поиск новых подходов в изучении интеллигенции: Проблемы теории, методологии, источниковедения и историографии: Тез. докл. межгосудар. науч.-теорет. конф. Иваново, 1993.
143. Полонский В. Заметки об интеллигенции. // Кранная новь. 1924. № 1.
144. Провинциальная культура и культура провинции. Кострома, 1995; Актуальные проблемы историографии отечественной интеллигенции: Межвузов, респ. сб. науч. тр. Иваново, 1996.
145. Провинциальная ментальность России в прошлом и настоящем. -Самара, 1994.
146. Процько М.А. О роли интеллигенции в советском обществе. — М„ 1953.
147. Ратнер Я.В. Из истории советского театра (1917-19190. // История СССР. 1962. № 2.
148. Ревенко В.Г. В.И. Ленин об использовании буржуазии как одной из форм классовой борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры. // Труды Моск. высшего техн. уч-ща. Вып. 3. М., 1968.
149. Розов М.А. Рассуждения об интеллигентности, или Пророчество Ваги-Грана // Вестник высшей школы. Сер. 6. История. 1989. № 6. С. 12 и др.
150. Романовский В.К. Н.В. Устрялов о русской революции (по его публикациям 1917-1918 гг.) // Вопросы истории. 2005. № 1. С. 150— 161.
151. Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тез. докл. межгосудар. науч.-теорет. конф. Иваново, 1995.
152. Российская провинция и мировая культура. Ярославль, 1993.
153. Российская провинция: история, культура, наука. Саранск, 1998.
154. Российская провинция XVIII—XX вв.: реалии культурной жизни. Пенза, 1995;
155. Российская провинция и её роль в истории государства, общества и развития культуры народа. Кострома, 1994.
156. Сахаров А.Н. Новая политизация истории или научный плюрализм? О некоторых тенденциях в мировой историографии истории России XX века // Новая и новейшая история. 1993. № 6. С. 87-94.
157. Свинцова М.П. В.И. Ленин об использовании буржуазных специалистов в социалистическом строительстве. // Вопросы стратегии и тактики в трудах В.И. Ленина послеоктябрьского периода. М., 1971.
158. Севастьянов А. Интеллигенция: что впереди? // Литературная газета. 21.09.88.
159. Сегал Д. "Сумерки свободы": О некоторых темах русской ежедневной печати 1917-1918 гг. // Минувшее: Исторический альманах. З.-М.: "Прогресс"-"Феникс", 1991. С. 131-195.
160. Смирнов И.С. Ленин и советская культура. Государственная деятельность Ленина в области культурного строительства (окт. 1917 г.-лето 1918). М., 1960.
161. Смирнова Л.И. О советах депутатов трудовой интеллигенции. // Из истории советской интеллигенции. М., 1966.
162. Смоляков Л.Я. Об интеллигенции и интеллигентности // Коммунист. 1988. № 16.
163. Советская интеллигенция: советская историческая и философская литература за 1968-1977 гг.: Библиогр. указатель. Новосибирск, 1978. - 445 с.
164. Соскин В.Л. Ленин, революция и интеллигенция. — Новосибирск, 1973. 108 с.
165. Соскин В.Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и утверждение советской власти: 1917 — лето 1918. Новосибирск, 1985. - 254 с.
166. Соскин В.Л. Политические позиции сибирской интеллигенции в период Октябрьской социалистической революции. // Известия СО АН СССР. 1967. № 11. Серия общ. наук. Вып. 3. С. 102-108.
167. Сурков И. Специалисты и рабочие на производстве. М., 1927.
168. Толстопятов В. Специалисты в производстве. Л., 1926.
169. Точёная В.П. В.И. Ленин об интеллигенции в переходный период от капитализма к социализму. // Вестник Моск. гос. ун-та. 1970. № 2. (Серия истории. Вып. 2).
170. Троцкий Л.Д. Литература и революция: Статьи, опубликованные в "Правде" в 1923-1924 годах. // Вопросы литературы. 1989. № 8. С. 183-228. // Театр. 1989. № 8. С. 82-102.
171. Турков А. Александр Блок. М.: "Молодая гвардия" (серия "Жизнь замечательных людей"), 1969. - 320 с.
172. Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР в 1917-1937 гг. Л., 1965.
173. Федотова З.Ф. Роль Н.К. Крупской в политическом воспитании учительства. // Мат-лы 14-й науч. конф-ции Дальневосточного ун-та. Серия общ. наук. Владивосток, 1970.
174. Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М.: "Наука", 1972. - 472 с.
175. Федюкин С.А. Октябрьская революция и интеллигенция. // История СССР. 1977. № 5. С. 69-88.
176. Федюкин С.А. Партия и интеллигенция. М.: Политиздат, 1983. - 238 с.
177. Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. -М., 1965.
178. Федюкин С. А. Советская интеллигенция на новом этапе развития социалистического строительств (1959-1965) // Советская интеллигенция. М.: "Мысль", 1968.
179. Хренов Н.И. Из истории борьбы Коммунистической партии за интеллигенцию в Октябрьской революции. // Сб. трудов Ульяновского политехи, ин-та. Т. 6. Вып. 1. Ульяновск, 1968. С. 20 - 46.
180. Хренов Н.И. О вовлечении буржуазных специалистов в социалистическое строительство. // Сб. трудов Ульяновского политехи, инта. Т. 6. Вып. 2. Ульяновск, 1970.
181. Черноуцан И. С. Ленинские принципы политики партии в области литературы и искусства. М.: "Знание", 1958.
182. Ширяев П. Борьба Коммунистической партии за использование буржуазной производственно-технической интеллигенции в период с 1917 по 1928 год. // Учёные записки Вологодского гос. пед. ин-та. Т. 19. Вологда, 1957.
183. Шлихтер А.Г. Октябрь и наука. Харьков, 1933.
184. Шмидт С.О. Вступительное слово // Российская провинция XVIII-XX вв.: реалии культурной жизни. Кн. 1. Пенза, 1995. С. 10-24.
185. Этчин И. Партия и специалисты. — М., 1928.