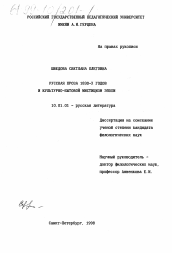автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Русская проза 1830-х годов и культурно-бытовой мистицизм эпохи
Текст диссертации на тему "Русская проза 1830-х годов и культурно-бытовой мистицизм эпохи"
} ' ./ . . " : / РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
/
/ ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА
На правах рукописи
ШВЕДОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
РУССКАЯ ПРОЗА 1830-Х ГОДОВ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ МИСТИЦИЗМ ЭПОХИ
10.01.01 - русская литература
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Научный руководитель -доктор филологических наук, профессор Анненкова Е.И.
Санкт-Петербург, 1998
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время сложная природа взаимоотношений: литература - идеология - быт все чаще становится предметом исследований (25, 72, 75,100,109,118-121,140,150,186, 203, 204). Ощущается необходимость включить литературный процесс в контекст общекультурного движения той или иной эпохи, найти основания для типологических и генетических сближений литературных форм с явлениями периферийной словесности, которые оказывают подчас значительное влияние на литературное развитие.
Чрезвычайно богатый материал для подобных соотнесений представляет культурная жизнь русского общества первой трети XIX века. Эпоха, "полная мистического возбуждения"(В.В.Зеньковский), породила наиболее тесное взаимодействие и взаимоотражение художественного творчества, религиозных и философских исканий со сферой быта, то есть жизни в ее непосредственных, эмпирических формах.
Бытовая жизнь образованного общества первой трети XIX века стремится аккумулировать в себе явления, традиционно связанные с высокими идеологическими сферами науки, искусства, философии, политики. Салонные разговоры продолжают дискуссии, начатые в университетских аудиториях и кабинетах ученых. Личные дневники стирают грань между бытовым,, эмпирическим словом и словом, культурно освоенным; личность начинает сознавать и строить себя "с явной огйядкой на литературу"(75: 70). Это и многое другое свидетельствует об изменении в данный период самих конфигураций культурной жизни, для которой оказывается характерным взаимное преломление идеологического и бытового. Культурно значимыми становятся такие явления, которые в предшествующую эпоху играли гораздо более скромную роль: так, слухи, бытовые легенды, анекдоты вызывают не
меньший интерес, чем сведения о новых научных или географических открытиях. "Люди 30-х годов прошлого века слухи воспринимали уважительно и серьезно: Пушкин, например, заносил их в свой дневник как нечто важное, регулярно записывал слухи и П.А.Вяземский. Даже в тех случаях, когда слухи носили фантастический характер, отношение к ним практически не менялось" (140:22). (Подчеркнуто мною - С.Ш.). Из последнего видно, как меняется само понятие информации, информативности: интерес вызывает даже не объективная реальность в собственном смысле слова, но преимущественно то, что несет в себе следы многообразных рецепций, преломляется во внутренней жизни, умственном и душевном бытии человека.
Все это объясняет выдвижение на авансцену культурней 1Шзни первой трети XIX века периферийных форм словесности: дневников, писем, эссе, путевых заметок и заметок на полях, мемуаров и т.п. явлений. Эти формы обладают тем существенным дСКЯЬинством, что, сохраняя связь с литературной традицией, опираясь и отталкиваясь от нее, они в то же время оказываются максимально открытыми для эмпирики реальной жизни, всего нового, что еще только попадает, входит в ракурс зрения собственно литературы (42,75,78,186). Эстетическое сознание эпохи оказывается открытым для естественного течения жизни во многом благодаря своему вниманию к "пограничным" формам словесности.
В их числе не последнюю роль играет журнальная проза*. Именно она знакомит русского читателя 20-30-х годов с достижениями европейской романтической литературы, формирует "новый тип русского читателя с преобладающим вкусом к романтической поэ-
* Под этим названием в работе объединены публикации информативного характера; художественная проза в собственном смысле слова, публиковавшаяся в журналах тех лет, рассматривается отдельно.
зии"(78:86-92). Однако функцией культурного посредника ее роль не ограничивается. Свобода внутренней структуры журнальной публикации, достаточно широкий потенциал форм взаимодействия автора, публикатора и читателя предопределили ее активное взаимодействие с большой литературой. <<По мере распадения старых риторических форм в литературе и публицистике возрастал удельный вес так называемых свободных или "смешанных" жанров, расширялась сфера их влияния...В связи с изменениями роли маргинальных структур они оказались идеальным вместилищем всевозможных романтических размышлений и импровизаций, гипотез и проектов, поскольку давали пишущему практически полную формальную свободу и в то же время сохраняли постоянную теснейшую связь с реальной жизнью» ("42:413).
Поэтому неудивительно, что именно журнальная проза отразила в своем движении такое исключительно важное явление духовной жизни эпохи, как мистицизм. Понимая всю многогранность проявлений мистического чувства и отношения к миру в наШйе прошлого века, нужно'сделать существенную оговорку: объект исследования в данной работе - не мистицизм в собственном смысле этого слова, мистицизм как определенная философия, соотносимая "с общим духовным переломом, который был связан с выхождением русской мысли на путь свободных, то есть внецерковных - построений"(80:127). Поэтому мистицизм масонов, связанный с теургической деятельностью, с философией преображения мира останется за рамками данного исследования. С другой стороны, и такие сугубо бытовые проявления мистического мирочувствия, как занятия спиритизмом, месмеризмом и т.п., тоже не являются предметом нижеследующих рассуждений. Таким образом, в центре внимания в диссертации находится не мистическое чувство как таковое (какими бы источниками оно ни питалось), но факты рецепции этого чувства в периферийной словесности, восприятие мистических явлений, уже приобретшее форму, вылившееся в определен-
ные жанровые формулы и стилистические приемы журнальной прозы.
Такая постановка вопроса отвечает заманчивой возможности прямого соотнесения литературного движения эпохи с окололитературными, "пограничными" формами. То, что почва для такого соотнесения есть, очевидно: распространение мистицизма предопределило облик периодической печати в20-е - 30-е годы, сказалось на предпочтении ею определенных тем и сюжетов, и в это же время в романтической прозе доминирующим жанром стали фантастическая новелла и фантастическая повесть, сыгравшие исключительную роль в развитии русской литературы, роль, далеко выходящую за пределы двух указанных десятилетий. Ведь первые образцы этого жанра появились в творчестве Карамзина в последнее десятилетие XVIII века ("Остров Борнгольм", "Сиерра-Морена") и послужили важными вехами на пути становления русского преромантизма и романтизма; а на закате романтической эпохи фантастика опять-таки не вытесняется из литературной жизни окончательно: так, жанровые модели фантастической повести и новеллы, утвердившиеся в романтической прозе, осваиваются в рамках иного художественного метода; с новыми конвенциональными установками фантастика органично входит в поэтику реалистических произведений - отзвуки романтической фантастики ощутимо присутствуют в ранних повестях Ф.М.Достоевского, "таинственных" повестях И.С.Тургенева, во многом определили характер творчества А.К.Толстого.
В работах Ю.В.Манна (131,135,136), В.М.Марковича (137,140), А.С.Янушкевича (240), С.Ф.Васильева (46-48), С.А.Гончарова (61-63), М.Вайскопфа (44) и других авторов, объектом внимания которых становились фантастические произведения эпохи романтизма, при очевидной разноплановости подходов, доминировании различных методологических установок, наметилась единая по своей сути тенденция выхода за рамки исследования поэтики отдельных произведе-
ний к широкому кругу литературных и общекультурных явлений. Прежде всего, это, конечно, европейская романтическая и предроманти-ческая литература, обращение к которой становится базой для многочисленных генетических и типологических сближений. Крайне плодотворным оказывается и выявление философских истоков творчества русских романтиков в многовековой истории европейской культуры. Однако совершенно очевидно, что в стремительном развитии русской фантастики, при всей важности как прямых, так и опосредованных влияний, была все же своя логика, исходящая из специфики национальной культуры, русского художественного, философского, бытового мышления. Обнаружение этой логики - задача достаточно многотрудная и по своему размаху несопоставимая со скромными размерами диссертационного исследования, однако некоторые ее особенности могут быть уяснены путем проводимого в работе соотнесения художественного творчества эпохи романтизма с явлениями иной культурной природы и эстетической ценности. Этим обусловлена широта привлекаемого материала исследования как в качественном отношении, так и в аспекте эволюции жанровых и стилистических форм: от "пограничных" явлений словесности (журнальная проза) к циклам фантастических повестей эпохи романтизма (Н.В.Гоголя, М.Н.Загоскина) и от последних к произведениям конца 30-х годов, утверждающим "поэзию жизни действительной" (Белинский) в противовес романтической эстетике, даже если последняя еще весьма ощутима в их стилистических или сюжетно-композиционных решениях. В каждом из упомянутых явлений обнаруживаются свои конвенции, регулирующие взаимоотношения литературной традиции, художественного слова в целом с эмпирической реальностью, с другими культурными явлениями идеологического и бытового характера. Обнаружение этих конвенций является целью данного исследования: оно создает основания для широких типологических соотнесений историко-культурных феноменов,
трудно сопоставимых с точки зрения традиционного проблемно-тематического метода рассмотрения, позволяет вписать эволюцию некоторых форм романтической литературы (главным образом, фантастической) в контекст общекультурного движения, то есть в конечном счете, помогает более целостно представить закономерности историко-культурного процесса, взятого в его диалогической незавершенности и всеохватности. Актуальность выработки путей подобного подхода едва ли может быть оспорена.
Все это определяет научную новизну работы, состоящую, прежде всего, в привлечении материала, еще не становившегося предметом детального исследования (тексты журнальных статей, беллетристические произведения романтической словесности) или не анализировавшегося в указанном аспекте (сборники М.Н.Загоскина "Вечер на Хопре" и М.Жуковой "Вечера на Карповке"). Отсутствие в отечественном литературоведении опробованной методики анализа явлений "периферийной" словесности потребовало разработки аналитических методов и приёмов, адекватных характеру привлекаемого материала. Следует отметить, что методология работы основана на сочетании культурно-типологического, историко-литературного и структурно-функционального подходов; методологической основой исследования являются работы Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского, Б. 0.Кормана, Ю. В. Манна.
Попытка сочетания, различных подходов исследования отвечает специфике поставленной проблемы, конечная перспектива которой состоит в том, чтобы, уточняя существующие представления о литературно-бытовом облике эпохи романтизма, способствовать обнаружению значимых закономерностей развития русской культуры в ее движении от просветительства XVIII века к позитивизму 40-х годов следующего столетия.
ГЛАВА I
БЫТОВОЙ МИСТИЦИЗМ 20-30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА КАК ТИП КУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ.
§ 1. Постановка проблем.
Говоря о типах конфликта и его разрешения, ведущих мотивах и других структурно-содержательных аспектах фантастических произведений 20-30 годов XIX века, необходимо по возможности как-то различать использование фантастического в качестве художественного приема, условного ракурса зрения, организующего повествовательную структуру или вносящего в нее дополнительные семантические обертона, от фантастического как проявления характерного для той эпохи мистического строя чувств, того особого видения мира, которое может быть соотнесено с романтическим мироощущением людей первой трети XIX века. В последнем случае можно говорить о существовании некоего культурно-бытового контекста, который задает определенный диапазон возможных точек зрения или способов понимания мистического. Описание этого культурно - бытового контекста поможет увидеть внутреннее единство даже в тех явлениях историко-культурного процесса, которые на первый взгляд несопоставимы. В попытке реконструкции идейно-бытового колорита эпохи следует обратиться прежде всего к богатому материалу журнальной периодики тех лет. Отмечено, что он "явился одним из источников его <жанра фантастической повести - С.Ш. > мотивов, сюжетных ситуаций, а также определил ряд особенностей повествовательной структуры"(186:135). Признавая правомерность этого обобщенного вывода, необходимо попытаться более четко установить связь (или взаимовлияние) журнальной периодики и фантастической повести тех лет. Для этого можно выделить несколько направлений анализа:
1.Совпадает ли динамика развития интереса к чудесному в бытовой и литературной сферах?
2. Каковы границы понятия чудесное в журнальных публикациях и художественных текстах: в какой степени они совпадают или расходятся, остаются ли они неизменными или подвергаются переосмыслению?
3.Какова типология наиболее часто встречающихся сюжетов публикаций и образов,мотивов, сюжетных ситуаций фантастической повести, имеет ли место однонаправленное влияние, обогащение литературы средствами журнальной периодики (как об этом пишет в процитированном выше отрывке Т.Н.Сергеева), или можно говорить о взаимопроникновении и взаимообогащении?
4.Какие именно особенности повествовательной структуры фантастической повести сформировались с учетом опыта публикаций в периодике?
Очерченный выше круг проблем отражает вспомогательный в данном случае характер экскурса в бытовую жизнь эпохи. Этот экскурс не претендует на целостное воссоздание картины бытового мистицизма тридцатых годов как определенного типа сознания, поскольку для подобного воссоздания было бы необходимо проанализировать и другие формы литературы, лежащие на пересечении бытового и художественного слова: дневники, письма, мемуары современников той эпохи. Что касается более узких целей, состоящих в изучении природы и генйзиса фантастической повести, то здесь ограничение исследования бытовой сферы интереса к чудесному рамками периодики представляется оправданным. Во-первых, журнальная проза, в отличие от мемуарной, эпистолярной, дневниковой литературы, представляет собой результат деятельного участия не одного человека, а достаточно широкого круга лиц, начиная с редакторов журналов, авторов или переводчиков статей, а также корреспондентов-читателей, кончая той читательской аудиторией, на которую ориентирован тот или иной журнал. Во-вторых, журнал или газета по природе своей сиюминутны^
а значит, способны более чутко реагировать на запросы общественной жизни, тем самым фиксируя такие нюансы движения мысли в идейной и бытовой сферах, которые ускользают от внимания исторической и мемуарной литературы. Поэтому периодика в большей степени отражает диалогизм общественной жизни, передавая живую реакцию современников на то или иное событие культурной жизни исторического периода. Наконец, в отличие от мемуаристики, она свободна от более поздних идеологических наслоений, неизбежных при большом временном разрыве между повествователем и описываемой эпохой. Однако в тех случаях, где это представляется необходимым, ограниченно вводится эпистолярный и мемуарный материал.
Мною были просмотрены публикации за два десятилетия (двадцатые и тридцатые годы) в следующих литературно-художественных журналах:
1. "Сын Отечества" (1812-1852) (редакторы: с 1814 по 1825 год - Н.Греч, А.Воейков, с 1825 по 1829 - Н.Греч, Ф.Булгарин). С 1829 по 1840 год журнал носил название "Сын Отечества и Северный Архив" (за исключением 1836,1837 годов, когда он выходил под прежним названием).
2."Вестник Европы"(1802-1830)(в разное время выходил под редакцией Н.М.Карамзина, М.Т.Каченовского, В.А. Жуковского и др.).
3."Московский вестник"(1827-1830)(издатель- М.П.Погодин).
4."Атеней"(1828-1830)(редактор - М.Павлов).
5. "Телескоп"(1831-1836)(редактор - Н.И.Надеждин).
6. "Библиотека для чтения"(1834-1865)(редакторы: 0.Сенковс-кий, Н.Греч). (Сведения о данных изданиях даны по каталогу Н.М.Лисовского (35)).
Были отобраны 170 публикаций. Вопрос о принципах отбора требует особого комментария. Прежде всего, несколько проблематичной оказывается сама возможность определения чудесного в его ис-
торическо�