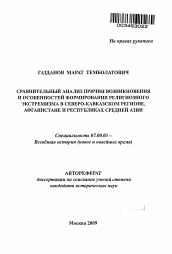автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.03
диссертация на тему: Сравнительный анализ причин возникновения и особенностей формирования религиозного экстремизма в Северо-Кавказском регионе, Афганистане и республиках Средней Азии
Полный текст автореферата диссертации по теме "Сравнительный анализ причин возникновения и особенностей формирования религиозного экстремизма в Северо-Кавказском регионе, Афганистане и республиках Средней Азии"
На правах рукописи
ГАЗДАНОВ МАРАТ ТЕМБОЛАТОВИЧ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ, АФГАНИСТАНЕ И РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Специальность 07.00.03-Всеобщая история (новое и новейшее время)
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Москва 2009
003463022
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ОТДЕЛЕ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Научный руководитель: Емельянова Надежда Михайловна,
кандидат исторических наук, ученый секретарь Института востоковедения
Официальные оппоненты: Егорин Анатолий Захарович,
доктор исторических наук, профессор, Институт востоковедения РАН;
Степанова Надежда Васильевна,
кандидат исторических наук, профессор МГИМО
Ведущая организация: Сеееро-Осепшнекий институт гуманитарных
и социальных исследований им. В. И. Абасва
Защита состоится 23 марта 2009 г. в 11 часов на заседании диссертационного совета Д 002.042.04 по историческим наукам в Институте востоковедения РАН по адресу: 107996, Москва, ул. Рождественка, 12
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института востоковедения РАН
Автореферат разослан " '//У " февраля 2009 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук P.M. Шарипова
Институт востоковедения РАН, 2009
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена важностью поиска причин и особенностей возникновения религиозного экстремизма.
Религиозные и этнополитические процессы на территории бывшего СССР развивались стремительными темпами. Особенно бурные события были связаны с возрождением и укреплением ислама. Однако возрожденческие тенденции быстро приобретали все более политический характер. Ислам становился не только составляющей частью общеполитических перемен - он начал приобретать радикальные и даже экстремистские формы.
Одной из важнейших предпосылок политизации ислама на территории бывшего СССР стало вовлечение Советского Союза в афганские события, способствовавшее радикализации ислама в самом Афганистане. Под мусульманскими знаменами афганский народ смог консолидироваться в освободительной борьбе. Опыт афганцев был впоследствии использован мусульманами Чечни и других республик Северного Кавказа, а также Таджикистана и Узбекистана.
Цель диссертационной работы заключается в исследовании степени вовлеченности ислама в конфликты на Северном Кавказе, в Средней Азии и Афганистане и выявлении причин и особенностей возникновения религиозного экстремизма в этих регионах.
Задачи исследования. Для достижения названных целей диссертантом поставлены следующие задачи:
- поиск исторических корней и закономерностей возникновения вооруженных конфликтов на почве религиозных противоречий в конце XX в. - начале XXI в.;
- выявление геополитических, экономических, религиозных и иных факторов в возникновении конфликтов подобного рода;
- определение объективной картины истории складывающихся на территории России и других стран СНГ конфликтов с учетом новых исторических реалий и геополитических процессов;
- поиск путей и возможности предотвращения подобных конфликтов.
Объект исследования: религиозный экстремизм на Северном Кавказе, в Афганистане и в Средней Азии..
Предмет исследования: формирование основных тенденций, формы и причины развития исламского религиозного экстремизма на постсоветском пространстве и в Афганистане в конце XX в. - начале XXI в.
Хронологические рамки исследования, а также его отдельных глав, во многом определяются исторической важностью исследуемых в диссертации этапов возникновения и распространения религиозного экстремизма в представленных регионах и охватывают последние десятилетия XX века и начало XXI века.
Научная новизна работы. Диссертационная работа является одной из первых попыток в отечественной и зарубежной науке комплексно исследовать роль ислама и факторов возникновения религиозного экстремизма в формировании вооруженных конфликтов в Афганистане, Чечне и прилегающих к ним районах.
Осуществляется сравнительный анализ этих конфликтов, а также причин и особенностей возникновения и распространения религиозного экстремизма с использованием полевого материала, собранного соискателем на Северном Кавказе, в Афганистане, Узбекистане и Таджикистане.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в исследовании удачно применяется комплексный исследовательский подход, анализируется большой пласт находящихся в открытом доступе материалов средств массовой информации, редких архивных источников из частных коллекций, данные собственных полевых исследований. В ходе написания диссертационной работы автор регулярно участвовал в научных экспедициях и мероприятиях Института востоковедения РАН на территории Кавказа (Северная Осетия и Южная Осетия, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Чеченская Республика) и республик Средней Азии (таджикско-афганское приграничье). Количественные и качественные методы социологических опросов мусульман Кавказа, Афганистана и Таджикистана помогли серьезнее изучить тему, осуществить глубокий сопоставительный анализ вовлеченности религиозного фактора в конфликты на Кавказе и в Средней Азии.
Практическая ценность работы состоит в том, что ее положения и выводы могут помочь в изучении истории развития вооруженных конфликтов в Центральной Азии и на Северном Кавказе и роли религии в этих процессах. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке учебных курсов, а также в практической деятельности. Выводы, сделанные в диссертации, могут быть применены при прогнозе кризисных ситуаций в республиках Северного Кавказа и других регионов, с целью их упреждения и преодоления негативных последствий.
Методологической основой исследования являлся комплексный подход к изучаемой проблеме. Применив метод сравнительного анализа удалось выявить особенности и причин происхождения единого процесса и проанализировать его в различных геополитических условиях современности.
Работа написана на стыке истории и политологии с использованием метода прикладной социологии (опросы населения и изучение общественного мнения).
Источники и литература. В своем исследовании диссертант опирался на работы отечественных и зарубежных исследователей-исламоведов и конфликтологов. В последнее время в России появился целый ряд работ (в том числе переведенных с европейских и восточных языков) по проблеме ислама и его радикальных форм. Среди них особо хочется отметить
очень глубокую работу французского исследователя Жиля Кепеля1. Исследованию исламского фундаментализма посвящены вышедшие в Лондоне работы Ахмеда Рашида2 и Тарика Али3. Интересное исследование исламского фундаментализма проводится и в работах российских востоковедов В.Н. Пластуна4 и Л.И. Медведко5. Проблемы усиления экстремистских течений в исламе рассматриваются в работах А.Б. Борисова6, МухаммадаХасана7, Ибрахима Малика8, К.И. Полякова9, С.Э. Бабкина10, М.З. Ражбадинова", А.М. Хазанова12, Т.Л. Шаумян13, М.Р. Аруновой14, A.A. Игнатенко15.
За последние годы теория и практика религиозного экстремизма становится объектом все более пристального внимания ученых. По этой теме защищены диссертации, сре-
'Кеисль Жиль. «Джихад: экспансия и закат исламизма». М., 2004.
2 Ahmed Rashid. Taliban. The Story of the Afghan Warlords. London: Pan Books, 2001, Ahmed Rashid. The Taliban: Exporting Extremism // Foreign Affairs, November / December 1999.
3Tarik Ali. The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modemiti. London: Verso, 2003
4 Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах Востока. Новосибирск, 2002.
5Медведко Л.И. Россия, Запад, ислам: «столкновение цивилизаций»? Жуковский-Москва, 2003.
'Борисов А.Б. Арабский мир: прошлое и настоящее. М., 2002.
7 Хасан Мухаммад. Источник террора: идеология ваххабизма-салафизма. М., 2005.
"Ибрахим Малик. Ислам и не-ислам. Ислам и экстремизм. Ислам и терроризм. Казань, 2003.
9 Поляков К.И. Исламский фундаментализм в Судане. М., 2000.
10 Бабкин С.Э. Религиозный экстремизм в Алжире (1992-2000 гг.). М., 2003; Его же: Марокко: о новых тенденциях в исламистском движении. М., 2001. Его же: О деятельности организации «Аль-Каида» в Алжире. Его же: «Хумат ад-Даава ас-Салафия» в «черном» списке Госдепа // В сб. Терроризм. М., 2004.
11 Ражбадинов М.З. Исламские движения Египта и кризис в Заливе // В сб. Терроризм. М., 2004.
,2Хазанов A.M. Исторические корни терроризма//Терроризм: угроза человечеству в XXI веке. М„ 2003.
13 III ay мя и Т. J1. Терроризм в Индии -у гроза стабильности Южной Азии // Терроризм: угроза человечеству в XXI веке. М., 2003.
14 Арунова М.Р., сост. Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке : (Сб. ст.) Инт изучения Израиля и Ближ. Востока, Акад. геополитики и безопасности; [Сост. М. Р. Арунова] М., 2001; Арунова М.Р., Набиев З.К. Афганистан. Проблемы терроризма // Терроризм: угроза человечеству в XXI веке. М., 2003.
ь Игнатенко A.A. Политика государственного терроризма и исламские неправительственные религиозно-политические организации на Ближнем Востоке // «Исламский фактор» в международных отношениях в Азии. М., 1987.
ди которых можно отметить работы H.A. Романова16, B.C. Ковалева17, М.П. Телякавова18, Д.В. Новикова19, А.Б. Соловьева20, O.A. Русановой21, М.И. Лабунца22.
Проблемам радикализации ислама в Афганистане посвящены работы отечественных историков В.Г.Коргуна23, В.Н. Пластуна24, P.P. Сикоева25, а на Северном Кавказе - A.B. Ма-лашенко26, В.О. Бобровникова27, М.Ю. Рощина28, Н.М. Емельяновой28. Богатейший аналитический материал содержится в работах исследователя современной истории Кавказа В.Д. Дзидзоева30, работах отечественных и зарубежных журналистов. Среди зарубежных журналистов можно особо выделить работы П. Хлебникова31 и Дж. Кьеза32. Весьма важной и содержательной представляется книга шведской журналистки Эсне Сэйерстад «Ангел Грозного»33, переведенная на английский язык и опубликованная в Лондоне в 2008 году. Эсне Сэйерстад впервые попала в Чечню в 1993 году в возрасте 23 лет и проработала здесь военным кор-
1''Романов H.A. Политический экстремизм как угроза безопасности страны : Дис. д-ра полит, наук. Ин-та социально-политич. исслед. РАН. М, 1997.
17 Ковалёв B.C. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в современной России : Дис. канд. полит, наук. Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2003.
18 Телякавов М.П. Экстремизм в деятельности религиозных объединений на Северном Кавказе как угроза региональной безопасности России: политологический анализ : Дис. канд. полит, наук. Пограничная акад. ФСБ РФ. М., 2003.
19 Новиков Д.В. Этнорелигиозный экстремизм на Северном Кавказе: методы противодействия: Политико-правовой аспект : Дис. канд. юрид. наук. Рост. юрид. ип-т МВД РФ. Ростов н/Д, 2002.
20 Соловьев А.Б. Политический экстремизм в современной России: середина 1980-х - 1990-е годы : Дис. канд. полит, наук. Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород, 1998.
"Русанова O.A. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе : На примере Северо-Кавказского региона: Дис. канд. социол. наук. М., 2004.
22Лабунец М.И. Политический экстремизм: этнонациональная регионализация : Дис. канд. политол. наук. Ростов н/Д, 2002.
23Коргун В.Г. Афганистан: политика и политики. М., 1999.
24 П ласту н В.Н. Деятельность экстремистских сил и организаций в странах Востока. Новосибирск, 2005.
25 С и ко ев P.P. Талибы (религиозно-политический портрет). М., 2002.
26Малашенко А. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001.
27Бобровников В.О. Мусульмане Кавказа: обычай, право, насилие. М., 2002.
28Рощин М.Ю. След исламского фундаментализма на Северном Кавказе. (Сб. ст.)
Фундаментализм, М., 2003.
29 Емельянова Н.М. Мусульмане Осетии: на перекрестке цивилизаций. М„ 2003.
30 Дзидзоев В.Д. Кавказ конца XX века: тенденции геополитического развития. Владикавказ, 2004.
^'Хлебников П. Диалог с варваром. М., 2004.
"Кьеза Джульетто. Бесконечная война. М., 2003.
33Asne Seierstad. The Angel of Grozny: Inside Chechnya. London, 2008.
респондентом до 1996 года. Оценки иностранного очевидца, работавшего непосредственно в лагере чеченских боевиков, являются ценным источниковедческим материалом. После трагических событий в США 11 сентября она провела несколько месяцев в Афганистане, где уже началась военная операция, передавая репортажи с места событий для ведущих скандинавских газет. Ее последующая книга «Торговец книгами в Кабуле» (The Bookseller of Kabul") была признана международным бестселлером и переведена на 38 языков.
Также соискателем проработаны труды исламских религиозных деятелей С.Кутба34, Аб-дуллаха Ахмеда Ан-Наима35, Мухаммада ибн Сулеймана ат-Тамими36, Аль-Мусташира Салима Аль-Бахнасаави37, Рифат Сайд Ахмада и Омара аль-Шаубаки38.
Диссертационное исследование опирается также на обширный полевой материал, собранный непосредственно в исследуемых районах. С целью уточнения и детализации выводов был использован также материал, полученный непосредственно от респондентов из Афганистана, республик Северного Кавказа и Средней Азии.
Кроме того, диссертантом был проанализирован большой объем материалов из открытых источников - газет и журналов на русском и ряде иностранных языков, а также интернет-изданий. Около половины проанализированных статей составляют публикации журналистов преимущественно с мест событий. Другая половина включает оценки событий специалистами и учеными, а также интервью общественных и государственных деятелей, политиков, участников вооруженных формирований и террористов.
Апробация результатов исследования. Положения диссертации были отражены в пяти научных статьях, опубликованных автором, в том числе в рекомендованных ВАК научных журналах и изданиях, а также в средствах массовой информации. Материалы диссертации были представлены на международных и отечественных научно-практических конференциях:
- на XXXVII Международном конгрессе востоковедов. Москва 2004 г.
- на Международной конференции Института востоковедения, Египет, ноябрь 2008 г. «Культурные традиции Египта и Востока: от древности к глобализации».
Полученные наработки диссертационного исследования использовались в подготовке аналитических докладов и записок для руководства Республики Северная Осетия-Алания,
u Кутб С. Вехи на пути // Будущее принадлежит Исламу. Издательство « Бадр». Махачкала, 1997.
" Абдуллах Ахмед Ан-Наим. На пути к исламской реформации. Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова, М.,1999.
36Мухаммад ибн Сулейман ат-Тамими. Книга Единобожия с комментариями Абдурахмана ас-Саади. Издательский Дом «Бадр», М.,1999.
" Аль-Мусташир Салим Аль-Бахнасави. Ат-татаррафу ва аль-ирхабу: фи-ль манзуриль исламийя ваад-даулийя (Терроризм и экстремизм: исламский и государственный взгляды) // Египет 2004.
38 Рифат Сайд Ахмад, Омар Аль-Шаубаки. Мостакбаль-аль-харакат аль-исламийа баада 11 айльоль (Будущее исламского движения после 11 сентября). Дамаск, 2005.
а также при подготовке и проведении исследования Комиссии по правам человека Республики Северная Осетия- Алания: «Роль народной дипломатии в миротворческих инициативах на Кавказе» и акции «Ислам без оружия».
Диссертация обсуждена и рекомендована к защите 21 марта 2007года в секторе Афганистана Отдела стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН.
Структура работы подчинена основным задачам и целям исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В библиографию включены опубликованные и неопубликованные источники, исследования и интернет-публикации.
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Введение. Во введении даются общая характеристика работы, ее актуальность и научная новизна, указываются объект, предмет, хронологические рамки, цель и задачи, методологическая основа, источники и литература диссертации, практическая значимость, апробация и структура работы.
Первая глава - «Основные тенденции развития исламского экстремизма в конце XX века» - посвящена общему анализу особенностей и причин роста исламского экстремизма в последние десятилетия. Глава включает в себя три раздела. Первый раздел посвящен историческому аспекту развития экстремизма в мусульманской религии.
Последние 20 лет XX века были отмечены невиданной ранее в исламском мире политизацией религии во всех ее формах и проявлениях и возникновением воинствующего фундаментализма. В мире насчитывается более 500 террористических организаций, которые используют всевозможные методы в своей деятельности: взрывы, взятие заложников, убийства, налеты, поджоги, бомбардировки, использование запрещенных видов оружия и т.д.
Наряду с совершенствованием методов борьбы исламисты расширяют возможности финансирования своих центров, привлекая к этому богатые благотворительные организации и спонсоров.
Наиболее мощным инструментом для психологической дестабилизации широких кругов общественности террористы считают диверсионно-террористические акции.
Использование жестоких методов борьбы наблюдалось на протяжении всего периода существования ислама. Самая ранняя в истории ислама религиозная оппозиционная группа под названием «Хариджиты» возникла еще в VII веке. Религиозным принципом хариджитов было физическое уничтожение «вероотступников», к которым они относили всех, кто, на их взгляд, не строго исполнял религиозные предписания.
В IX веке возникла ханбалитская религиозная правовая школа, характеризующаяся узким буквализмом и крайней нетерпимостью к всякого рода новшествам.
В XVIII веке идеи ханбализма в еще более жесткой форме были использованы Мухам-мадом ибн Абд аль-Ваххабом, проповедовавшим возвращение к чистоте раннего ислама
времени пророка Мухаммеда, строжайшее соблюдение принципа единобожия и отказ от различных нововведений. Сторонники и последователи Абд аль-Ваххаба весьма важную роль в пропаганде своих идей отводили джихаду - борьбе против многобожников и мусульман, отошедших от принципов раннего ислама.
Для ваххабитов были характерны крайний фанатизм в вопросах веры и экстремизм в борьбе с политическими противниками.
Современную цивилизацию сторонники радикального ислама отождествляют с одной из форм неверия. Отсюда долг каждого правоверного мусульманина - священная война против современной цивилизации.
Политизация ислама в XX веке во многом связана с ассоциацией «Братья-мусульмане», созданной в 1928 г. в Египте шейхом Хасаном аль-Банной.
Деятельность Ассоциации была направлена на построение «справедливого исламского общества», основанного на принципах ислама в качестве единственного источника идеологии, законодательства, морально-этических норм и т.д.
«Братья-мусульмане» считали, что мусульмане должны подчиняться только тому правительству, которое руководствуется нормами Корана, Сунны и шариата. Всякое другое правительство они считали незаконным, поэтому мусульмане должны с ним бороться. В результате неоднократных неудачных попыток осуществить государственный переворот в Египте, члены «братства» подверглись репрессиям со стороны властей, прекратившимся с приходом к власти в стране Анвара Садата. «Братьям-мусульманам» была предоставлена относительная свобода действий при условии, что они станут более умеренными. «Братья» высказали готовность поддерживать существующую политическую систему. Однако среди членов «братства» оказалось немало группировок, выразивших недовольство такой лояльностью Ассоциации и они вышли из её состава. Самой крупной из них является «Аль-Гамаа аль-исламия», организовавшаяся в 1977 году. Еще раньше, в 1971 году из числа также вышедших из «братства» в Египте была сформирована одна из наиболее агрессивных экстремистских групп - «Ат-Такфир вааль-хиджра», избравшая террор основным методом борьбы.
В целом исламский религиозный радикализм на Востоке в настоящее время делится на три основных направления: «умеренных», «исламских демократов» - сторонников различных вариантов «исламского социализма» и организации экстремистского толка, применяющие методы террора.
В связи с обострением противоречий между Западом и исламским миром возникли подходящие условия для расширения влияния организаций экстремистского толка в мусульманской среде, особенно среди молодежи. Лозунги джихада против Запада были популярными и среди российских мусульман.
Активная деятельность фундаменталистских и экстремистских групп наблюдается не только в мусульманских странах, но и в Европе и США.
Руководители европейских стран всегда стремились придерживаться тактики диалога с экстремистскими организациями, пытаясь таким путем ограничить их террористическую активность.
Власти США после теракта 11 сентября 2001 года выбрали тактику непримиримой борьбы против радикальных фундаменталистских организаций как внутри страны, так и за ее пределами.
Во втором разделе главы проведен всесторонний анализ особенностей формирования исламского экстремизма в Афганистане и Средней Азии. В настоящее время по уровню конфликтности Центрально-Азиатский регион немногим уступает Африке. Среди стран Центральной и Средней Азии наиболее острые конфликты имели место в Афганистане и Таджикистане.
Географическое и стратегическое положение Афганистана привлекает к себе пристальное внимание ряда развитых зарубежных государств.
Конфликты в регионе осложняются активностью криминальных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и оружия.
Последние двадцать лет афганской истории заставили население возвратиться к исламским истокам, так как абсолютное большинство афганцев усматривало в них единственную надежду спасти себя от бесконечных кровопролитий, насилия, грабежей. Царивший долгие годы хаос привел к углублению и расширению национализма и «регионализма».
Более 80% населения Афганистана являются мусульманами-суннитами. Шиизм распространен среди хазарейцев, исмаилизм - среди населения Бадахшана.
В период присутствия советских войск в Афганистане погибли более 1,2 млн афганцев, около 5 млн были вынуждены бежать в Пакистан и Иран.
Для осиротевших афганских детей в Пакистане стали создавать медресе, где кроме религиозных дисциплин важное значение уделялось военной и идеологической подготовке. Выпускники этих религиозных школ составили костяк движения «Талибан». С конца 1993 года это движение разворачивает активную деятельность в районах Кандагара и Гильменда.
Изначально «Талибан», состоявший преимущественно из афганцев-пуштунов, интенсивно поддерживался пакистанскими властями.
Главной задачей членов движения «Талибан» было обеспечение безопасности торговых путей, соединяющих Пакистан с государствами Центральной Азии. Но уже после установления контроля над Кандагаром стало очевидно, что талибы не будут слепо следовать первоначальным планам и указаниям из Пакистана. К осени 1996 года они захватили большую часть Афганистана. На практике талибы стали жестко проводить в общественную жизнь страны нормы шариата. Особо ревностно эти нормы применялись в отношении женщин, которым запретили учиться и работать. Ю
Развернулась борьба с производством опиума, которая благодаря насильственным действиям имела определенный успех. Постепенно под контролем талибов оказалось почти 90% территории Афганистана. Заинтересованные в общеафганском масштабе своего движения, талибы выбрали ислам в качестве единственно возможной идеологической базы. Афганский конфликт оказался благодатным полем для проведения тайных операций спецслужб «Запада» против СССР. Он был превращен США и их союзниками в нескончаемое вооруженное противостояние, подрывавшее моральные и экономические силы Советского Союза.
Через шиитское население в события в Афганистане активно пытался включиться и Иран. Талибы неоднократно требовали прекратить вмешательство Ирана во внутренние дела страны, на что Тегеран мало реагировал. В результате дипломатические отношения между двумя государствами были прерваны, а граница закрыта.
В «угаре» антисоветизма США активно использовали против СССР мусульманский фактор как инструмент своей внешней политики.
Американцы открыто оказывали значительную помощь моджахедам оружием и деньгами. Во время визита директора ЦРУ Кейси в Пакистан он "потряс" его лидеров, предложив им перенести афганскую войну на вражескую территорию - в Советский Союз.
В конце 1980-х гг. искры пламени войны в Афганистане стали перекидываться на территорию тогда еще советской Средней Азии.
Присутствие советских войск в Афганистане можно было считать сдерживающим фактором, не позволявшему разгореться в стране глобальному межэтническому конфликту. После ухода советских войск здесь началась гражданская война, длившаяся более десяти лет.
В 2001 году частичная приостановка внутриафганского конфликта стала возможной лишь в результате начала международной антитеррористической операции. Многие специалисты по данной проблематике сходятся во мнении, что талибы в этот период представляли реальную опасность для всей Центральной Азии. Укрепившись с помощью террора, они превратились в угрозу для всего региона как источник распространения идей радикального исламского фундаментализма. Территория Афганистана при талибах фактически стала базой для развития международного терроризма.
Третий раздел первой главы посвящен влиянию афганского религиозного экстремизма на ситуацию в СНГ. В силу особо близкого этнического родства и территориальной близости, афганские события более всего влияли на население Таджикистана. В 1980-е годы здесь неожиданно появились ваххабиты, выступавшие за создание «идеального» исламского государства вне территории СССР.
В начале 1992 года часть духовных лиц Таджикистана включилась в политическую борьбу. В конце марта этого же года исламисты развернули особо активную деятельность, которая стала началом двухлетнего вооруженного противостояния в Таджикистане, повлекшего за собой гибель десятков тысяч людей. Официальные власти республики были вынуждены
принять решительные полицейские и военные меры, после чего часть лидеров исламистов покинула пределы государства.
После подписания в Москве межтаджикского соглашения в июле 1997 года, лидеры исламистов и многие представители оппозиции вернулись на родину. У жителей республики это вызвало обоснованные опасения в ускорении темпов политизации ислама в Таджикистане. Тем не менее разумный союз светской власти и исламской оппозиции привел к постепенной стабилизации обстановки в стране в начале XXI века.
События в Афганистане и возросшая агрессивность исламской оппозиции в Таджикистане вызывали большую тревогу и обеспокоенность и в Узбекистане. В ответ на угрозу распространения религиозного экстремизма в стране был принят новый закон о свободе совести и религиозных организациях. Тем самым руководители Узбекистана решили принять превентивные меры по недопущению активизации деятельности исламистов. Однако жесткие методы давления на радикалов стали причиной недовольства значительной части мусульман Узбекистана, которым попытались воспользоваться радикальные исламские лидеры. По республике прокатилась волна терактов. В конечном счете, попытки радикалов насильственно изменить конституционной строй в Узбекистане закончились провалом, однако проблема радикализации ислама в стране так и не была решена. Оппозиционные к власти Исламское движение Узбекистана (ИДУ), переименованное позже в Исламское движение Туркестана (ИДТ), и «Хизб- ут-Тахрир», организовавшие многочисленные теракты, проводили активную работу, в том числе, используя Интернет. В качестве подтверждения можно привести заявление ИДУ, размещенное на сайте этой организации: «Групповые операции с участием смертников продолжатся. Они будут направлены против несправедливостей правительства и в поддержку наших братьев-мусульман в Ираке, Палестине, в Афганистане, Саудовской Аравии и других мусульманских странах, в которых правят отступники».
Национальный состав ИДУ (ИДТ) был разнообразен, в него, кроме узбеков, входили арабы, уйгуры, чеченцы, пакистанцы и др. Финансовую помощь этой экстремистской организации оказывали различные благотворительные фонды, базирующиеся в различных странах. Руководство ИДУ тесно сотрудничало с рядом исламских движений и организаций крайне экстремистского толка («Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и др.).
По оценкам специалистов Антитеррористического центра СНГ, Исламское движение Узбекистана и Исламская партия Туркестана (ИПТ) представляли угрозу безопасности государств СНГ, в том числе России.
Таким образом, во многом вследствие конфликта в Афганистане произошло значительное усиление радикализации ислама в мире. Постепенно начался экспорт идей исламского экстремизма в другие страны (среднеазиатские государства СНГ, а также в Россию). На территории Афганистана стали создаваться базы для подготовки террористов из разных стран мира.
В целом же, в международном исламском радикальном движении можно выделить некоторые особенности и тенденции:
1. Радикализм на начальном этапе возникает как ответная реакция на жесткие и неправомочные действия со стороны правящих режимов или на враждебное внешнее воздействие;
2. В дальнейшем возникшие религиозные радикальные течения начинают использоваться теми или иными политическими кругами для достижения собственных «высоких» целей;
3. Зачастую такая ситуация используется в корыстных целях зарубежными спецслужбами;
4. Постепенно происходит сращивание радикального крыла экстремистов и криминальных структур;
5. Исламский радикализм выходит за пределы одной страны, приобретая международный и трансконтинентальный характер.
Вторая глава - «Этапы и формы радикализации ислама в Российской Федерации (конец XX в. - начало XXI в.) - включает в себя три раздела.
В первом разделе - «Распад СССР и столкновение этнических интересов» - рассматривается обострение взаимоотношений различных народов России, повлекшее за собой тяжелые последствия. Наиболее острую форму эти столкновения приняли на Северном Кавказе, где ислам превратился в знамя борьбы против «имперской оккупации». Чечня и Дагестан стали регионами, где, как и в Таджикистане, в качестве катализатора экстремизма выступил «неоваххабизм».
Кавказские исламисты, активизировав деятельность внутри республик, стали искать поддержку на международной арене у многочисленной северокавказской диаспоры в Турции и арабских странах. Обострению ситуации на Северном Кавказе способствовали также последствия войны в Афганистане, вызвавшее у населения негативное отношение к государству, несовершенство закона «О реабилитации репрессированных народов» принятого Верховным Советом РСФСР в 1991 году, и ослабление экономических связей между республиками.
Так называемая проблема «территориальной» реабилитации стала первопричиной многих конфликтов, в числе которых и ингушско-осетинский, повлекший за собой гибель многих сотен людей.
В ряде республик усилилось и региональное противостояние. Оно оказалось здесь не менее актуальным, чем в Таджикистане. Наиболее острую форму такое противостояние приняло в Чечне и Дагестане. Чеченцев можно разбить на три достаточно большие региональные группы: проживающие в Надтеречном районе, а также в регионах с историческим названием Малая и Большая Чечня. Помимо региональных различий среди них есть еще и тейповые (родовая и территориально-хозяйственная общность). В 1990 году пост главы
Чечено-Ингушетии впервые за годы советской власти занял чеченец Доку Завгаев - выходец из Надтеречного района республики. Однако первоначальное национальное ликование быстро переросло в тейпово-клановую борьбу за власть.
Оппозиция во главе с Джохаром Дудаевым добилась принятая решения о роспуске Верховного Совета ЧИАССР вместе с отставкой его председателя Завгаева и провозглашения суверенной Чеченской Республики [Нохчи-Чо]. Позднее Чечня была объявлена исламским государством, что можно было бы считать больше декларативным актом. Однако после ввода федеральных войск и начала военной конфронтации, положение резко изменилось, и ислам оказался наиболее действенной идеологией для сплочения чеченцев в единую силу, противостоящую федеральным войскам. Дудаевское правительство объявило священную войну - газават, а также ввело ряд атрибутов ислама в общественную жизнь. Ислам в республике стал быстро приобретать структурированные и жесткие формы. Лидеры Чечни заявили о необходимости объединения кавказцев в рамках «всекавказской исламской организации». Эти события стали катализатором для резкого обострения межконфессиональных и внутри-конфессиональных противоречий и в соседнем Дагестане. Очаги исламского радикализма возникли в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и других северокавказских республиках.
Наши полевые исследования 2003 года показали, что у российских мусульман, в первую очередь, дагестанских и чеченских с талибами существовали достаточно тесные и прочные связи. Об этом, в частности, свидетельствует интервью диссертанта с Убайдуллой, занимавшим в прошлом важный пост в движении моджахедов и проживающим сейчас во Владикавказе. По его словам, северокавказские ваххабиты отличаются от ваххабитов других стран более жесткими взглядами и высказываниями. Однако главная опасность кроется даже не в них, а в создаваемых на Северном Кавказе ячейках «Ат-Такфир вааль-хиджра». Члены этих ячеек отрицают все религии и все течения в исламе, считая истинными мусульманами только себя. Для них характерны крайний фанатизм и бескомпромиссность. По словам Убайдуллы, он лично видел чеченских эмиссаров в Афганистане, Пакистане и других странах Среднего Востока.
Слабость центральной власти в России позволила консолидироваться мусульманским боевикам, а недопустимо жесткие действия правоохранительных органов приводили к расширению социальной базы исламистов.
Во втором разделе освещаются процессы эскалации конфликта в Чечне.
Вооруженный конфликт в этой республике начал набирать обороты еще до распада СССР. 2 ноября 1991 года Чеченская Республика была объявлена суверенным государством, после чего последовала серия попыток проникновения в военные городки с целью приобретения и захвата оружия.
В ответ 7 ноября 1991 года Б. Ельцин подписал указ о введении на всей территории Чечено-Ингушетии чрезвычайного положения, за которым немедленно последовали ответные действия чеченского руководства, призвавшего народ республики вооружаться.
В 1992 году Чечня отказалась подписывать с Россией федеративный договор, что вскоре привело к развязыванию первой чеченской войны. Началом ее явилось наступление чеченской оппозиции на Грозный, заявившей ранее о встрече трехлетия независимости республики без диктатора Джохара Дудаева.
В боевых действиях оппозиции осенью 1994 года активное участие принимали завербованные по контракту офицеры и прапорщики Вооруженных сил РФ.
26 ноября 1994 года город Грозный после танковой атаки был занят силами оппозиции. Однако «дудаевские» войска смогли организовать упорное сопротивление и вынудили оппозицию покинуть город.
Напуганный таким ходом событий Президент России 29 ноября огласил ультиматум, обращенный к участникам вооруженного конфликта в Чеченской Республике. По требованию Б. Ельцина все воюющие стороны должны были в течение 48 часов прекратить огонь, сложить оружие, распустить все вооруженные формирования и освободить заложников.
10 декабря, согласно сверхсекретному указу № 2137 от 30 ноября, регулярные части Российской армии были введены на территорию Чечни. Дудаев начал оборонительные военные действия, одновременно призывая российского президента к переговорам на любом уровне. Президент России Б. Ельцин оставил эти призывы без внимания. В ночь с 31 декабря на 1 января был организован новогодний штурм Грозного, закончившийся чудовищным провалом. В результате бомбежек и обстрелов погибло большое число мирных жителей.
Российское руководство летом 1995 года было вынуждено сесть за стол переговоров, закончившихся в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, согласно которым регулярные войска России были выведены с территории Чечни. Правительство Чечни, в свою очередь, проигнорировало взятые на себя ответные обязательства по разоружению своих военных формирований. Это создало мнение, что Чечня из этой войны вышла победителем. Российское руководство показало свою неспособность в разрешении конфликтов на территории собственного государства. В результате войны Чечня превратилась в огромную «пороховую бочку». В руках населения скопилась масса оружия и боеприпасов, многие чеченцы за годы войны приобрели боевой опыт и разучились заниматься чем-либо еще. Все это «роднило» ситуацию в Чечне с ситуацией в Афганистане.
В завершение первой войны в чеченском правительстве был представлен весьма широкий спектр общественно-политических организаций - от крайне радикальных до умеренных.
Пришедший к власти после смерти Д. Дудаева новый Президент Чечни А. Масхадов в 1997 году объявил, что с этого времени республика является исламской [Чеченская Исламская Республика Ичкерия]. Это никак не способствовало нормализации обстановки внутри республики, где наряду с официальными силовыми структурами и вооруженными силами продолжали действовать независимые отряды боевиков. Указы руководителей Чечни о рос-
пуске независимых вооруженных формирований открыто игнорировались полевыми командирами. Силовое разоружение этих формирований в условиях Чечни было нереально.
Группировки боевиков развернули активную террористическую и бандитскую деятельность за пределами исламской республики, особенно в Северо-Кавказском регионе и крупных городах России. Особую активность чеченские экстремисты развернули в соседнем Дагестане, на который возлагали особые надежды.
Исчерпав весь запас терпения к процессам криминализации Чечни, в начале 1999 года Москва заявила о переходе к решительным действиям, не исключая при этом силовой вариант разрешения кризисной ситуации.
В третьем разделе рассмотрены формы радикального ислама на Северном Кавказе. По разным оценкам, в России проживают несколько десятков миллионов мусульман, число которых постепенно увеличивается.
Если для татар ислам являлся, прежде всего, средством национальной религиозной самоидентификации, то для верующих Северного Кавказа эта религия все больше приобретала черты политической идеологии. Пример Чечни, выигравшей, по мнению многих мусульман, «священную войну», вдохновляет их на конкретные действия. В последние годы XX века число фундаменталистов среди мусульман Кавказа, неудовлетворенных своим социальным и политическим положением, выросло в десятки раз. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации в Чечне, исламская составляющая в чеченском обществе в силу родовых и тейповых связей продолжает оставаться весьма важной.
В начале 1990-х годов в российском руководстве было немного специалистов, которые хорошо знали ислам. Пользуясь этим, ее толкали к рубежам силового противостояния с мусульманским миром. Западные спецслужбы и финансовые структуры заинтересованных стран сделали многое, чтобы превратить Северный Кавказ в полосу нестабильности и напряженности. Также внутри самого ислама в этом регионе возникло немало разногласий между сторонниками традиционного здесь суфийского ислама и ваххабитами.
Исламизация стала во многом фактором, стимулирующим сепаратистские тенденции в Чечне. По завершению первой чеченской войны здесь стала строиться шариатская государственно-правовая система, которая в корне отличалась от светской, существующей в России.
Через непродолжительный отрезок времени российская и зарубежная общественность наглядно убедилась в том, что такое шариат «по-чеченски». По международным каналам стали транслироваться публичные смертные казни. Тела казненных и расстрелянных выставлялись на площадях с прикрепленными к ним поясняющими табличками. Действия властей Чечни вызвали в России обеспокоенность, возбуждая неприятие и даже враждебность к мусульманам, внушая людям искаженное представление об исламе, «основополагающими ценностями которого являются добро, справедливость, веротерпимость и забота о благе человека».
Публичные казни были справедливо расценены как признак варварства и средневековья. Интересно, что среди самого населения Чечни 90% опрошенных одобряли публичные смертные казни. Вице-премьер республики Мовлади Удугов заявил, что введение судов шариата - единственный эффективный способ обуздания преступности в послевоенной Чечне, поскольку российского суда чеченский народ не боится.
Указом Президента Чечни А. Масхадова все действовавшие ранее судьи были выведены за штат, а вся система прежнего судопроизводства ликвидирована.
В конце августа 1997 года под председательством первого вице-премьера Чеченского правительства М. Удугова 35 партий и движений исламской ориентации из Чечни и Дагестана учредили новое движение «Исламская нация». Целью нового объединения было создание имамата - государственного образования по аналогии с имаматом Шамиля. По утверждению амира (председателя нового движения Удугова), «Исламская нация» намерена ориентироваться на возрождение Дагестана в его исторических границах, т.е. на его объединение с Чечней. По высказанному Удуговым мнению, «римское право неприемлемо для чеченского народа», и «только ислам способен обуздать сто тысяч вооруженных мужчин, оставшихся без работы».
В ряды рьяных сторонников установления ислама в Чечне встали такие одиозные фигуры как А. Масхадов, 3. Яндарбиев, Ш. Басаев, С. Радуев и др. Таким образом можно констатировать, что вплоть до начала XXI века отношения Москвы и Грозного оставались стабильно конфликтными. Главный акцент общения федерального центра с Чечней делался на военную силу. События 1994 - 1999 гг. в этой республике можно отнести к разряду внутреннего политического конфликта. Возникший в Чечне в 1991 г. сепаратистский режим Дудаева пришел к власти в результате «мятежа» (восстания), участники которого были не только группой «террористов», объединенных в «бандформирования», но и политической организацией, представлявшей значительную часть чеченского народа. Говоря же только о терроризме бандформирований, можно подменить суть происходивших в Чечне событий.
Ввод федеральных войск в Чечню стал основой для консолидации чеченского народа вокруг режима Дудаева, которая происходила под лозунгами национального освобождения и исламского фундаментализма.
Федеральные власти так и не признали массовый характер сопротивления со стороны чеченского народа, что привело, с одной стороны, к стратегическим военным просчетам, а с другой - к огромному психологическому стрессу и моральному отчуждению значительной части мусульманского населения от государства.
За долгие годы войны в республиках Северного Кавказа накопилось огромное количество оружия, масштабы безработицы в некоторых республиках приобрели катастрофический характер, оказались ослабленными силовые структуры, еще более обострились межнациональные отношения, значительно возросла коррупция.
Третья глава - «Причины усиления исламского экстремизма на Северном Кавказе» - состоит из трех разделов.
В первом разделе - «Экономические причины радикализации ислама на Северном Кавказе» - рассматривается экономическая ситуация в регионе, ставшая важнейшим катализатором кризиса на Северном Кавказе. Именно экономические рычаги приводили в действие механизм радикализации религиозных взглядов населения. С одной стороны, разруха и безработица, с другой, - желание обогатиться на этой трагедии толкали в водоворот войны всё новые людские массы.
Война в Чечне до предела усугубила обстановку, все сферы экономики республики оказались в критической ситуации. Война нанесла огромный ущерб не только экономике самой Чечни, но и всего Северо-Кавказского региона. Безработица в республиках Северного Кавказа стала массовой. Торговые коммуникации Кавказа были разорваны, и товарные потоки почти прекратились.
Убытки одного только Дагестана, особенно пострадавшего от войны в Чечне, вдвое превысили годовой бюджет республики.
Дагестан оказался в экономической блокаде, его промышленность почти полностью была парализована, железнодорожная связь с центром прервана. Местный бюджет республики на 80% финансировался федеральным центром.
В Северной Осетии также почти прекратили свою деятельность более 20 первоклассных высокотехнологичных предприятий. В регионе началась массовая миграция, еще больше усложнившая положение. Чечню в общей сложности покинули около 530 тыс. человек, что составило около половины довоенного населения республики.
В СМИ время от времени звучали имена высокопоставленных российских чиновников и их чеченских коллег, преступным путем наживающихся на войне. Среди них небезызвестный Б. Березовский, осуществлявший крупные финансовые аферы в Чечне. Борьба за влияние обострялась также и в связи с тем, что в этой схватке на карту была поставлена судьба каспийской нефти, которая транзитом проходила по нефтепроводу через Чечню. Значительная часть прокачиваемой нефти расхищалась. Время от времени из силовых ведомств и правительственных организаций звучали заключения, что одними силовыми методами проблему терроризма в Чечне не удастся решить, что необходимы действенные экономические рычаги.
Надо признать, что на стабилизационные цели все-таки выделялись средства по линии разных министерств и ведомств. По завершении первой войны в Чечню предполагалось направить 747 млрд рублей как трансферт субъекту Федерации. Однако власти Чечни потребовали в качестве военной контрибуции 260 млрд долларов, что составляло 60% валового внутреннего продукта России. Разумеется, предоставить такую сумму Россия была не в состоянии. Однако и выделенные суммы так беззастенчиво расхищались в центре, что до Чечни едва ли доходила их шестая часть (по словам Б. Ельцина, «эти деньги, черт возьми,
куда-то утекают»). Не было должного контроля над расходованием поступивших средств и в самой Чечне.
Экономические сложности в республике были сопряжены с невиданным ростом криминала. Вся территория Чечни была поделена на зоны влияния. Вооруженные группировки только официально контролировали свыше 20% нефтедобычи и самые доходные сферы бизнеса: рынки, магазины, торговые точки. Вооруженные банды грабили грузовые поезда, транзитом проходившие через Чечню. Значительный интерес к региону проявляли и организованные преступные сообщества. Самым выгодным и ходовым бизнесом стало похищение людей, особенно военнослужащих, которых можно было удачно продать или обменять. Сотни солдат Российской армии после первой военной кампании продолжали находиться в чеченском плену. Средняя цена за одного российского пленного составляла при продаже 10 тыс. долларов США. По сведениям СМИ, преступный бизнес, связанный с похищением людей, опекался и поддерживался самыми влиятельными людьми в Чечне - от Радуева и Басаева до Удугова. Российские политические деятели вынуждены были признать, что такая практика является ничем иным как элементом работорговли. Похищения людей с целью последующего выкупа приобрели такой размах, что практически превратились в новый вид предпринимательства.
Во втором разделе описываются иностранные интересы на Северном Кавказе и усиление религиозного экстремизма в регионе. События на Северном Кавказе в конце XX века происходили на фоне небывалого возрастания геополитического веса этого региона в глазах представителей крупного бизнеса Европы, Азии и США.
Политики и бизнесмены проявили значительный интерес к Чечне, чтобы через нее укрепиться в весьма перспективном, на их взгляд, Кавказском регионе. Они активно начали лоббировать интересы «независимой Ичкерии» на международной арене.
Для многих спецслужб Чечня стала важным объектом разведки. США объявили Кавказ зоной своих жизненных интересов и в соответствии с этим развернули чрезвычайную активность в регионе. Не остались в стороне от попыток внедриться на Кавказ и соседние Иран и Турция. Спецслужбы Ирана пытались влиять на политические процессы в Азербайджане, который, в свою очередь, предостерегал Россию от негативных последствий хороших отношений с Ираном. Турция же, традиционно считающая черноморский бассейн и Кавказ своим геополитическим пространством, не ограничилась одной страной, а пыталась оказать влияние на ход политических процессов во всем регионе. Претензии Турции на роль регионального лидера активно поддерживали США, Великобритания и ряд других стран НАТО. Через северокавказскую диаспору в Турции чеченским сепаратистам перекачивались крупные суммы денег. В расшатывании обстановки на Северном Кавказе был заинтересован ряд организаций и из арабских государств. Не остались безучастными от этого также и страны Прибалтики.
В третьем разделе рассматривается роль радикального исламского движения в планах создания «Объединенного Кавказа». Планомерная дестабилизация в регионе происходила под лозунгом создания единого исламского государства на Северном Кавказе. Сепаратистски настроенные группировки возникали практически во всех северокавказских республиках. Сверхзадачей чеченских идеологов было воссоздание исламского государства по образцу имамата Шамиля. Ситуация в Чечне уже выходила за рамки внутрироссийского конфликта и имела геополитическое значение.
В планах усиления своего влияния на всем Северном Кавказе экстремисты особую роль отводили Дагестану, считая его стартовой площадкой для реализации своих долгосрочных планов. Чеченские сепаратисты, провозгласив своей целью создание единого мусульманского государства на Северном Кавказе, в основном полагались на поддержку чеченцев, проживающих в Дагестане, в приграничных с Чечней районах. Распространялись листовки, где жителей соседней республики призывали объединиться с «братским» чеченским народом в борьбе с федеральными властями. Боевики отрядов «Джихад Дагестана» обучались радуевцами, с которыми у них был заключен договор о взаимопомощи. На базах Ичкерии готовились террористы-диверсанты, велась активная агитация за создание 67-го чеченского полка с участием дагестанцев.
Президент Чечни Аслан Масхадов планировал ввести в Хасавюртовский район Дагестана подразделения вооруженных сил с целью его аннексии. В дагестанских населенных пунктах, расположенных близко к Чечне, систематически распространялись листовки угрожающего и ультимативного характера с требованием освободить арестованных исламистов.
На протяжении второй половины 1990-х годов отмечалась активизация пропагандистской деятельности исламских экстремистов в Кабардино-Балкарии. Население убеждали в необходимости изменения государственного устройства и введения шариатского правления по примеру Чечни. В силовых структурах Кабардино-Балкарии отмечали, что практически за всеми тяжкими преступлениями, особенно за похищением людей, стоят чеченские полевые командиры. Министр внутренних дел республики даже призывал прекратить все контакты с Чечней до стабилизации положения в регионе.
В планах ведения боевых действий чеченских боевиков как перспективное, значилось и направление «Моздок-Владикавказ». Раскалить ситуацию в этом регионе планировалось за счет споров между ингушами и осетинами вокруг Пригородного района Северной Осетии. С этой же целью готовились группы боевиков - выходцев из Южной Осетии и мусульманских районов Северной Осетии. Вынашивались планы организации военного переворота и физического устранения пророссийски настроенных представителей осетинского руководства, после чего события стали бы развиваться по «чеченскому» сценарию.
В чеченский конфликт широко была вовлечена и Грузия, где проживали около 8 тыс, чеченцев-кистин. Часть российско-грузинской границы, проходящая по территории Чечни, находилась вне контроля российских федеральных органов. Боевики свободно могли пере-
секать её и провозить любое количество оружия. В результате установления тесных связей чеченцев с кистинами среди последних появились приверженцы радикальных исламских течений, призывающих объединиться с Ичкерией в одно государство.
С Чечней «заигрывали» силы на Западе, заинтересованные в ослаблении и расколе России. Им помогал и ряд независимых государств, возникших на постсоветском пространстве. Подобно мусульманским добровольцам из Афганистана, география деятельности чеченских радикалов тоже стала распространяться на обширные территории от Ближнего и Среднего Востока до стран Европы. Замечены были военные инструкторы и диверсанты из Чечни и в Косове. Они обучали албанских боевиков ведению боевых и подрывных действий против регулярной армии Югославии.
Стремление к созданию стабильной экономики в Северо-Кавказском регионе в целом в начале XXI в. способствовало тому, чтобы население не стремилось на «заработки» в банды и отряды боевиков. В первую очередь, именно социальная стабильность в комплексе с другими мерами могли помочь преодолеть негативные воздействия пропаганды радикального исламизма. С приходом в российскую политику президента В.В. Путина Правительство России показало, что хорошо понимает кавказские проблемы, что в случае, если Россия не сможет стабилизировать экономику Кавказа, она потеряет здесь авторитет, чем не преминут воспользоваться США, страны Европы, а также некоторые мусульманские страны, мечтающие вытеснить Россию со всего Кавказа.
В заключении работы диссертант пришел к следующим выводам:
- Причины возникновения радикальных форм ислама могуг иметь схожие тенденции, но могут и различаться в зависимости от того, в каком регионе они формируются и развиваются. Причиной возникновения религиозного экстремизма в Афганистане стало, прежде всего, иностранное военное вмешательство. Подпитка радикальных мусульманских организаций происходила со стороны зарубежных (особенно американских) спецслужб, пытающихся реализовать через них свои политические интересы в регионе.
- В Средней Азии аналогичные процессы стали возможны в результате распада СССР. Они были косвенно связаны с событиями в Афганистане. В среднеазиатских республиках исламская оппозиция старалась выступить в роли консолидирующей силы с целью устранения усилившихся межэтнических и региональных противоречий.
- На Северном Кавказе в борьбе за суверенитет, автономные и территориальные права республик ислам сначала являлся второстепенным фактором. Но поиск поддержки за рубежом привел к тем же процессам, что и в Афганистане - в первую очередь, к влиянию на сознание населения зарубежных идеологов, в качестве которых часто выступали потомки мухаджиров.
-Для вовлечения большего числа людей в процесс исламской радикализации дополнительной подпиткой стала война в Чечне. Она покрывала финансовые просчеты и махинации, расхищение государственной казны, приводила ко все большему обнищанию всех слоев на-
селения и втягивала в ряды исламских радикалов молодое неопытное поколение не только Чечни, но и всех республик Северного Кавказа.
Проведенное исследование определяет основные причины радикализации ислама в исследуемых регионах: государственную нестабильность, экономическую отсталость и зарубежное влияние.
Классическим примером возникновения и развития религиозного экстремизма стал Афганистан, откуда начался его «экспорт» в другие страны и где стали создаваться базы для подготовки террористов из разных стран мира.
В плане радикализации ислама на постсоветском пространстве наиболее болезненными точками стали Таджикистан и Чечня. Жертвами конфликтов здесь стало значительное число людей. Вина за гибель людей в Чечне лежит как на сепаратистском режиме Дудаева и его последователей, так и на федеральном центре, показавшем на первом этапе кровопролитного вооруженного противостояния полную неспособность в разрешении подобных конфликтов. Решение России о вводе войск в Чечню стало основой для консолидации чеченского народа вокруг режима Дудаева, проходившей под лозунгами национального освобождения и исламского фундаментализма.
Огромное количество нерешенных социальных проблем является подходящим условием для радикализации ислама и экстремизма.
Для нейтрализации негативных последствий разрушительной войны и предотвращения возникновения новых очагов радикализма необходимо обратить особое внимание на социальные, культурные и экономические программы в этом, пока еще чрезвычайно конфликто-генном, но очень важном для безопасности России регионе.
Основные положения диссертации нашли свое отражение в следующих публикациях:
В рекомендованных ВАК научных журналах и изданиях опубликовано:
1. Ислам - это гражданство? // Родина. - 4. - М.,2008. - 0,6 п.л.
В других научных журналах и изданиях опубликовано:
2. Политизация ислама и источники религиозного экстремизма // Ритмы истории - Сборник научных трудов. (Выпуск 2,2. История. Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова), Владикавказ 2004. - 0,7 пл.
3. Механизм защиты прав человека в этнических конфликтах на Северном Кавказе // Противодействие экстремизму (Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия»; Серия: «противодействие экстремизму»), Санкт-Петербург, 2004. - 0,6 п.л.
4. Политический ислам и исламский экстремизм: история и современность // Вопросы истории, историографии, экономики, языкознания, и литературы (сборник аспирантских статей). Институт востоковедения РАН, Мм 2004. - 0,5 п.л.
5. Опора - на самих верующих //Нет религиозному экстремизму. Республиканская ежедневная газета "Северная Осетия", №126,2001. - 0,3 п.л.
Подписано в печать 14.11.2008. Усл.печ.л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ № 147.
Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе СОИГСИ им. В.И.Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А 362040, г, Владикавказ, пр. Мира, 10.