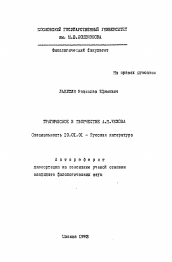автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Трагическое в творчестве А.П. Чехова
Полный текст автореферата диссертации по теме "Трагическое в творчестве А.П. Чехова"
таковский государственный университет
им. М.В.ЛОМОНОСОВА
Филологический факультет
На правах рукописи ЛАПЗВИН Рацислав Ефимович
ТРАГИЧЕСКОЕ Б ТВОРЧЕСТВЕ А.П.ЧЕХОВА Специальность 10.01.01 - Русская литература
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Москва 1993
Работа выполнена на кафедра русской литературы филологического факультета Белорусского государственного университета.
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Ткачев П.И.
ОфициалъБые оппонента: доктор филологических наук
Чудаков А.П.
кандидат филологических наук Тихомиров С.В;
Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный университет.
Защита диссертации состоится " ^¿т. на
заседали специализированного совета 2 053.05.11 при Московском государственном университете им. !.*»Б.Ломоносова.
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, 1ЛГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке 1ТУ. Автореферат разослан С^1^^^^Зг.
Ученый секретарь специализированного совета Ж'
О1
У
Л.П.Ивннский
Чехоз - "один из сэшх величайших и деликатнейших русских юэтов" (И.А.Бунин), соизмеримый с нрупиейиши писателями XIX ¡ека и предопределивший "новые Форш" в искусстве будущего, ¡оздатель единственной в своем роде художественной философии, фовидец, угадзвиий "по слабым симптомам" многое из того, что ¡тало реальностью уне после его смерти. Б свете исследований юследних десятилетий такие определения на кажутся преувел&-[знием^.
Но Чехов и трагическое - не есть ли это "два вещи несов-[ЭИные"? С одной стороны, Чехов, как замечает В.Б.Катаев, словно предвидел, заглядывая в будущее, та кошары чвлозече-кого существования, на которых сосредоточатся художники XX ве-
См.: Гурвкч И.А. Проза Чехова (человек и действительность). U., 1970; Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Tl., 1971; Фортунатов H.H. Архитектоника чеховской новеллы. Горький, 1975; Пз-перный З.С. Записные книзцси Чехова. ГЛ., 1976; Цилевич Л.М. Сюнет чеховского рассказа. Рига, 1976; Катаев В.Б. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. Ы., 1979; Полоцкая Э.А. А.П.Чехов. Движение художественной мысли. М., 1979; Линков В.Я. Художественный шр прозы А.П.Чехова. М., 1982; Паперный З.С. Вопреки всем правилам... Пьесы и водевили Чехова. М., 1982; Чудаков А.П. Мир Чехова. Возникновение и утверадешга. М., 1986; Сухих Й.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехоза. Л., 1987;' Зикгар-ман Б.й. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988; Громов Ы.П. Книга о Чехове. М., 1989; Каминов В.й. Время против безвременья: Чехов и современность, и., 1989. Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. И., 1989; Типа В.И. Художественность чеховского .рассказа. П., 1989.
ка". С яругой стороны, "застенчивая честность" Чехова, его укпс неше от окончательных и односторонних ответов, боязнь позы, аффектации как-то не вяжутся с определенностью, можно сказать, обнвкенностыо трагического конфликта. Ла и сагла установка писателя на воспроизведение будничной, каждодневной низки, в центре которой находится "средний", ничем не замечательный человек, вступает в очевидное противоречив с трагически;;, требующиг.: исключительных обстоятельств, исключительного и бескомпромиссного героя.
Проблема трагического у Чехова остается во многом не разработанной, дискуссионной. В то же время она неотделима от вопроса о своеобразии художественной философии, позволяет глубне, а во многом и по-новому, понять концепцию человека и мира в творчества писателя. Этим и определяется актуальность предпринятого исследования.
Его цель и задачи - выявить предпосылки, своеобразие и фор мы проявления трагического в творчестве Чехова, проследить становление трагического героя; исследовать особенности поздних героев, позволяющие считать их потенциально трагическими; проанализировать произведения, где трагическое является до:.шнанто£
.Методологически диссертация опирается на достижения современного чехпведения, на работы в области эстетики, относящиеся к данной проблеме, а такие на теоретические положения Л.Я.Гинэ-бург, А.Ф.Лосева и других теоретиков литературы и искусства.
Научная новизна работы заклотается б то:.-,, что впервые прех принята попытка исследовать трагическое на материале всего гво! чеотва Чехова в единстве его ранних и поздних произведений, прс зы и драматургии, а также в новой прочтении на зтой основе отдельных произведений ("Гусев", "Палата й б", "Убийство" и др.).
Результаты проведенного исследования могут быть использо-
вага в вузовских курсах по истории русской литературы Х1Х-ХХ вв., спецкурсах и спецсеминарах по творчеству А.П.Чехова, а также при дальнейшей исследовании чеховской поэтики и проблемы трагического в творчества русских писателей. В этом научное к практическое знэч&ниэ диссертационной работы.
Апробация работы. Общая концепция диссертации и ее отдельные положения были изложены в докладах нз конференциях: "Чеховские чтения в Ялте" (1989, 1990, 1991, 1992, 1993 гг.)» "Судьба и творчество Чехова" («елихово, 1992 г.), молодых чехове-дов ("оскза, 1993 г.), а также на научных конференциях з Бело-рузском государственном университете. По теме диссертации опубликована статьи и тезисы докладов (список приведен в конце реферата) . .
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении излагается прниыание категории трагического в ¡таософии и литературоведении, анализируются существующие точки зрения яа трагическое з творчества Чехова, обосновывается актуальность и научная новизна выбранной теш, ставятся цели и задачи исследования, объясняются особенности подхода к исследуемому материалу.
Первая глава - "На постигаемое бчтив (Образ мира в творчества А.П.Чехова)" - рассматривает мир писателя в неразрывности ранних и поздних произведений, прозы и драматургии, отдельных рассказов, повестей, пьес.
Среди неосуществленных зашолоз Чехова - пьеса о царе Соломоне. Сохранился небольшой отрывок - монолог Соломона. Речь в нем идет о смысле жизни, точнее, о невозможности утвердить этот смысл перед лицом общей и неизбежной для всего живого участи. Сама сущность жизни, ае тайна и непросватленность ("О, как тем-
на жизнь!") мучаг? Соломона. "Не постигаемое бытие" становится для чеховского царя источником постоянного страха, непреодолимой беззащитности. Мотив страха пронизывает и произведения Чехова, связанные с современностью. Страх может носить ярко выраженный социальный характер, предопределяться конкретными условиями жизни. Но не менее часто сопутствует героям Чехова другой - немотивированный, "сол омоновский" страх человека перед своим "не постигаемым бытием*1. Тема страха неотделима от мотива одиночества. Как и страх, одиночество проистекает из самой "сущности жизни". Оно - "непоправимое", "безнадежное". Одиночество чеховских героев шкет быть понято и в более широком сшс-
•
ле - как оторванность от прошлого, изолированность во времени. Многие персонажи писателя в исходной точке повествования существуют в каком-то остановивиемся, "спрессованном" времени, где нет прошлого (исторического и личного), и люди даже "отвыкли вспоминать" о неы, как гробовщик Яков Иванов ("Скрипка Ротшильда") или, например, учительница Ыэрья Васильевна ("На подводе"] Показательно, что от прежних вещей у Царьи Васильевны "сохранилась только фотографин матери, но от сырости в школе она потускнела, и теперь ничего не видно, кроме волос в бровей"*. По; робновть столь ке характерная, как "темная доска, которая когда-то была иконой" (Печенег", 9, 327).
"Чеховские герои - даже архиерей! - яивут под молчаливыми небасами", - афористично формулирует И.Н.Сухих^. Но безмолвны не только небеса. Бессильно подсказать что-либо старшее поколе
* Чехов А.Л. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1974-1980. Г.9. С.335. Лалее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тема и страницы.
2 Сухих И,В. Проблемы поэтики А.П.Чехов8. Л., 1987. С. 172.
из. Недейственным оказывается весь предыдущий опыт - истори-?еский, нравственный, религиозный. Отсюда - добавочный смысл, пополнительная нагрузка, лежащие на поздних героях. Они - как 5ы первые лэди, которые еде только должны узпать "употребление эгня", открыть гуманистические ценности, доказать их жизнеспособность, а значит - вернуть то, что утрачено, вспомнить то, ?то забыто, восстановить нормальный ход времени: с прошлым, на-зтоящим и будущим. Игл неоткуда ждать помощи. Их удел - "искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью...". Одиночество в кирз Чехова - знак изначальной покинутости, броиен-ности на произвол судьбы и в то не время - универсальное свойство обретающей себя человечности.
Одиночество осознающей себя человечности, екклэзиастичэ-ские мотивы поздних повестей и рассказов Чехова во многом предопределяются его ранпиш юмористическими произведениями. Нравственная беспроблемность "стрекозино-осколочного" мира сама по себе становится в позднем творчестве проблемой, источником неразрешимого конфликта. Многие из героев как бы опрокидываются в ситуации юмористических рассказов, где их человечность оказывается поразительно незащищенной, пронзительно невостребованной. Абсолютной ценностью становится некий "порядок жизни", безразличный по отношении к отдельному человеку, не принимающий его всерьез. Но и те, кто олицетворяет у Чехова господствующий "порядок жизни" (архитектор Полознев и инженер Доляиноъ, тетя Даша и доктор Нещапов, Гуркины и т.д.), находятся в такой же "страдательной .зависимости от жизни" (В.Б.Катаев), при более глубоком рассмотрении оказываются "подставными лицзын", как Христина Дмитриевна, в рассказа "Случай из практики": "Хорошо чувствует себя адесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется... Главный ае, для кого здесь
все делается, - это дьявол" (10, 81).
"Невидимая гнетущая сила" ("Степь"); море, у которого "не; ни смысла, ни жалости" ("Гусев"); "спокойное зеленое чудовиде" ("В родном углу"); "мать-природа", которая так нехорошо шутит над человеком ("Ионыч"); дьявол ("Случай из практики"). Лело не в конкретных названиях (их кокет вообще не быть), а в ток, что за "путаницей всех мелочей, из которых сотканы человечески! отношения", угадывается, подразуыеваетря присутствие "какой-то направляющей силы, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку". Для нее не существует разницы между "сильным" и "слабым", между "святыми" и "грешными". Это принципиально безличная сила, стимулирующая столь же безличный "порядок" - не безнравственный, не бесчеловечный, а скорее вненрэвсгвенный, внечеловечный, вышучивающий человека, отказывающий ему, мозет быть, в самой главном - в праве на судьбу, на свою неповториму: жизнь. Отказ в праве на судьбу - основополагающая предпосылка трагического в творчестве Чехова.
Но недаром бытие у Чехова - "не постигаемое". Оно в равно: степени не сводится ни к пессимистическому, ни к стилистическому истолкованию. Понять худокественную фглософию писателя позволяет сопоставление монолога Соломона с написанным в том же 1888 году некрологом<,Н-М.Пржевальский^ . Казалось бы, ничт не связывает эти произведения. Первое - выражение скорби. Второе - гимн людям "подвига, веры и ясно сознанной цели". Однако при сопоставлении с монологом Соломона раскрываются и новые, н ожиданные грани^Н.И.Пржевальского^ : внутренний драматизм, по пытка разрешить неразрешимое. "Читая его биографию, - пишет Че хов, - никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но вс кий скажет: он прав" (16, 237). Кажется, что эти финальные г?р ки некролога не менее тесно, чем с его предыдущим текстом, свя
заны с монологом Соломона, центральная мысль которого - навоэ-иоаность отыскать смысл существования. Подвижничество утверждается Чеховым в широком философском плане как нечто безусловное, самодостаточное, чего нельзя отменить, перечеркнуть. Подтверждение тому - крест над могилой Пркевальского, который и после смерти знаменитого путешественника оживляет пустыню. Подвижничество - прорыв к судьбе, вопреки окружающим людям, обстоятельствам кизни, "больному времени", вопреки тому, что человеку изнзчально как бы отказан© в праве на судьбу. <Н.М.Пржевальский - своеобразный ответ на поставленные в монологе Соломона вопросы. Но, как всегда у Чехова, ответ на исчерпывает вопроса. Неоднократно отмечалась связь некролога с образом фов Корена ("Дуэль"). Но в повести изобраяэна "обратная сторона" подвганичества.-Фон Корен в интерпретации Лаевского - "царь пустыни", "хозяин людей". Дане самый поэтичный образ некролога (крест над могилой) здесь переосмысливается, воспринимается как знак деспотизма. В самом деле, что такое Пржэвальский без мучительных сомнений Соломона? Фон Корен. А. Соломон без подвижничества Пржевальского?! Для Чехова скорбь и подвижничество, воплощенные в обрззэх Соломона и Пржевальского, - два стороны одного целого, а "Надо жить" - убэадение, трагическое по своей сути. Героям ("Дядя Ваня", "Три сестр^) уже нечего ждать, теряется сшсл дальнейшего существования и нет ответа на вопрос, "зачем мы живем, зачем страдаем..." Но, осознавая непоправимость своего положения, они произносят: "Надо жать!". Надо идти, как старуха Василиса ("На святках"), которая несет своей дочери письмо, в сущности, перечеркнутое "нзпобедямой пошлостью". Старуха чувствует это, но идет. И путь, который- она проходит, приобретает самостоятельное значениа. Скорбное, трагическое в своей основе, подвижничество поздних героев предвосхищено об-
разом Соломона, каким он предстает у Чехова. Соломон мучается. Он не видит смысла своей жизни. И в то же самое время - строит храм.
Во второй глазе - "Б поисках смысла и жалости (Яа пути к трагическому герою)" - исследуется становление трагического героя, рассматриваются особенности поздних героев, позволяющие считать их потенциально трагическими.
В юмористическом, "стрекозино-осколочном" шре возможна лишь пародия на трагическое. Не случайно, герой рассказа "Один из многих" (на его основе написан впоследствии водевиль "Трагик поневоле") претендует на роль именно в этом жанре. "Тут не водевиль, а трагедия!" - характеризует он "непрерывный ряд нравственных и физических страданий", которые ему, "дачному муку", приходится испытывать. Впрочем, сам Иван Иваныч понимает, что он мученик не "идеи", а "черт знает чего". Мученикаш! "черт знает чего" можно назвать и чиновника Червяковэ ("Смерть чиновника"), вдову полковника Чикамасова ("Приданое"), регента со-боррг? церкви Градусова ("Из огня да в полымя"), портного Меркулова ("Капитанский мундир"), отставного прапорщика Вывертова ("Упразднили!"), унтера Пришибеева из одноименного рассказа. Это персонажи якобы трагические в своей непреклонности, готовности следовать "долгу", служить раз и навсегда заведенному порядку, идти до конца даже ценой жизни. Подобного рода "трагизм" (другого в рамках "стрекозино-осколочного" мира быть ке может) неизменно предстает у Чехова пародией на трагическое.
Иной, чем в юмористике, образ человека возникает в целом ряде лирических рассказов 1885-87 годов. Здесь перед нами не маски, а лица, не массовый человек, а одинокие люди, те, о ком с полным основанием можно сказать: "Они страдают и плачут, как вши, и в жвзнн их нет ничего* такого, чему нельзя было ба найти
оправдания1* (9, 311). Иным становится и образ мирз. Его дополняет "изгнан сырость растений, начавших покрываться росой" ("Агафья", 5, 32), "слэзы тихой радости, какими плачет земля, встречая а провожая летнее солнце, и какими поит она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов" ("Мечты", 5, 396), "голос человеческого горя", звучащий среди воя непогоды "сладкой, человеческой музыкой" ("На пути", 5, 475). Но персонажи этих рассказов, как правило, заложники обстоятельств. То, что происходит с ними,- вызывается внешними, случайными силами. Казалось бы, в жизни купца Авдеева ("Беда") есть все предпосылки для рождения трагического героя. Он переживает резкий перелом, катастрофу. Но герой даже на в состоянии понять, что с ним происходит, "от ив "непонимания" сопровождает Авдеева на всем протяжении рассказа. Самое большее, на что он в итоге оказывается способным, - это "понять", что ему узе не вернуть своего прошлого, и горько заплакать. Также и "злоумышленник" Денис Григорьев яз мокзт "понять", в чем состоит его проступок, за что его собираются "взять под стражу" и "отправить в тюрьму". 'Другой вариант жизни, сознательно избираемый и осуществляемый человеком, представлен, например, в рассказе "На пути". Лихарев неоднократно переживал переход от одной "веры" к другой. Кандэя из них "гнула" его "в дугу", "рвала на части". Но перемены, происходящие с героем, не захватывают в свои орбиту многообразие окруаавдего мира, как это будет происходить в "Скрипке Ротшильда", "Убийстве". "Новая вера"; Лихарева не вносит в жизнь нового взгляда, замыкается на самой герое, в рассказе "Враги" есть поразительное описание комнаты, где леаит мертвый ребенок. Лиризм атой сцены окрашен в трагический тона, соединяет скорбное приятие рока и в то же время - несогласие с ним. Человеческие фигуры здесь как бы застыли перед лицоы вечности.
Предельное страдание укрупняет и образ Коны Потапова ("Тоска"), также потерявшего сына, делает "маленького человека" носителе!.:, без преувеличения, мировой скорби. Но выход за рамки существующего миропорядка в произведениях этого периода оказывается Фрагментарный, сиюминутным. Он, как лрэвило, не пронизывает повествование является итогом его развития, не оставляет ощутимого следа. Картина окружающей жизни не преобразуется, остается неизменной. Рассказы 1885-87 гг• знают трзгичбскиб сятуэции^ но в них еще нет трагического героя. Однако его появление во многом подготовлено характерной для этих рассказов фигурой одинокого человека, оказывающегося перед лицом "не постигаемого бытия". Если юмористические рассказы предопределяют "Фок" позднего мира, дают ему ряд второстепенных, нравственно беспроблемных персонажей, то в лирических произведениях 1885-87 гг. формируется образ центрального героя-протагониста.
Важным этапом в формировании трагического героя яеилэсь для Чехова работа над пьесой "Иванов", преобразование ее из комедии в драму. Симптоматично, что в размышлениях Иванова возникает образ Гаылетз. Гамлет для Иванова - "лишний", нз способный к действию человек. Но есть и другая сторонз гамлетизма в творчестве Чехова, отчетливо проявляющаяся в пьесах 90-х годов. Их главных героев отличает особенный строй души, речи, соединяющий, как неоднократно отмечалось, бытовое и бытийное, элементы прозы и поэзии. Вспомним, что предшествует финальному монологу в "Ляде Ване". Только что, переходя от одного персонажа к. другому, пять раз прозвучало: "Уехали". И затем еде два раза, только более коротко, сжато, как обрывающееся эхо: - "Уехал". Дядя Ваня и Соня - самые несчастные. Все земное для них исчерпано. Исчёрдэнность земного подготавливает финалы как "Дяди Ван?" так и "Трех сестер". Там - уехали, здесь - ушли, один - "совсем
совсем навсегда". Яизяь описала невидимый круг, отняла все, что можно было отнять, вынесла приговор. Но первые же слова финальных монологов этих двух пьес, вопреки очевидному, опровергают безысхбдность. Какется, что потеряно все. Но сохранено главное. Что такое эти финалы? Надежда, рондаищаяся из безнадежности, победа, одержанная 'побежденными. Именно здесь - на пределе страдания - душевный строй героев выражает себя с наибольшей силой. Чувствуя это, ка испытываем скорбь и просветление, "мучительный восторг". Музыкальность1 финальных монологов - это как бы "новая песня", родственная той, что оставляет, умирая, герой "Скрипки Ротиильда".
Та не внутренняя музыкальность, нежное мужество свойственны к лучшим героям прозы 90-х,гг. Отданность будням соединяется 2 них с комантаыи отрешенности от суетного, ззкного, когда действительную гизнь, друг друга, себя самих они видят одновременно с близкого расстояния и как будто с "высоты неба" или, если использовать одну из чеховских записей, с "другой планеты... через 1000 лот" (С., 17, 78). Их гамлетизм такие можно охарактеризовать, как "направленность духовной жизни к надлич-ныг.1 началам бытия" (Б.И.Зингврман), соединенную с осознанием уникальности отдельной челЬвеческой гизни.
В этом, "не похожем ни на что другое", ыпре никакая истина не г.ожет считаться окончательной, не поддающейся духовной корректировке со стороны человека. "Памятник Леметти в виде часовни, с ангелом наверху? когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В гэроде уже никто не помнил о ней..." (10, 31). Это как будто окончательные, бесспорные истины. Оказывается, что нзт. Нуяен лунный свет, необходим человек. Надо, чтобы они встретились. И тогда "зажигается" лампадка над входом, забвение
становится недействительным. Это и есть та главная встреча, которая сбылась, состоялась, в отличие от несостоявшегося свидания Старцева с Котиком. Но и то, что обретается героями Чехова в резулиате ь^чительных поисков, носит не абсолитный характер. Это знание, которое нельзя передать по наследству на только сяз-дувдеиу поколению, но а следующему мгновению своей жизни, вопрос, на который никому не удается получить окончательного ответа. йожет быть, как раз перед неразреиимостлю этого вопроса, торопясь сбросить с себя непосильное брзмя, неумолимо капитулируют многие чеховские герои. И с той не неумолимостью, от одного персонажа к другому переходит мелодия неубывающей чзловеч-яости, понимаемой нак воля к одухотворению окружающего мира.
Говоря о золе к одухотворении окружающего кирз, ш имеем в виду прежде всего "пробивших героев" (выражение Л.Я.Гинзбург). Но, думается, что не следует ограничивать это понятие только "чеховскими интеллигентами". По сути дела, кавдый из протагонистов несет еще и бытийную нагрузку, подключается к разрешения глобальных вопросов. Проиллюстрировать это можно на примере рассказа "Гусев" - первого из поолэсахалинских произведений.
Прежде чем в финале рассказа океан успокаивается под воздействием неба, он "преодолевается" Гусавыы. Проявленная человеком готовность "ехать за сто верст", "спасать" сака по себе оспаривает безусловность формулы "У моря не® ни смысла, ни жалости", подготавливает и предвосхищает финал, непредставимый без этой сцены, без рядового Гусева. Но и смерть Гусеве в таком случае уже нельзя рассматривать как бессмысленную. В ней можно увидеть элементы гибели, жертвы. Небо, океан, человек, как показывает анализ "Гусева", не существует отдельно друг от друга. Силовые линии океана и неба проходят сквозь человека, постав-
ленного в центр повествования. Вольно или невольно он участвует в их противостоянии и влияет ва его исход. Ни в небе, ни в океане нет ничего такого, чего не было бы в самом человеке. Они взаимопроницаемы, меаиу ними действует своеобразный закон соответствия большого и малого, макро- и микромиров. Подобное взаимопроникновение, взаимообусловленность, на нао взгляд, характерны для позднего творчества Чехова в целом. Практически в каждой из поздних произведений есть свое "небо" и свой "океан". "Океан" находит воплощение в "пароходе", -в образе города (городка, хутора, уезда), где время как бы остановилось и человеку отказано в праве на судьбу, на свою яизнь, на память об этой низнв, з "порядке", оборачивающемся на деле хаосом, вззимо-уничтокением, "бойней". "Небо" - установка на реализацию индивидуального, на неповторимость. В исходной точке у Чехова неизменно доминирует "океан". "Небо" нйкому не дается "даром вместе с яизнью". Оно - результат пуфа, всякий раз обретается заново. Благодаря "океану" и "небу" значительно раздвигаются пространственные, временные гранты чеховского мира. Соответственно укрупняется, выходит далеко за рамки своей социально." роли и образ человека. Решая "вопрос свозй кизни", герои Чехова решают в то же время кардинальные проблем бытия: смысла и яалости, правды и красоты, жизни» смерти, бессмертия. Этим и предопределяются-быткйн8я нагрузка поздних героев, открывающиеся в их судьбах "трагические перспективы". Отблеск Трагического пронизывает фикаш-ив монологи "Дяди Ваяй" и "Трах сео-тер", ложится на образ бессрочноотпускного разового Гусеве« укрупняет фигуру провинциального Гамле*а - Масаила Полознева ("Моя яизнь").
В третьей главе - "Преодоление хаоса (Трв?«чеекиЙ гврОЙ в творчестве А.П.Чехова)" - рассматриваются произведения« где
трагическое является доминантой. Творчество Чехова предшествует катастрофическому опыту XX века. Но художественный ¡лир писателя уже звает ситуации, когда - в ра:.ках повседневной, будничной жизни - напитывается на прочность сама идея человечности, ставится под вопрос ее существование. В результате этого конфликт отдельного человека с действительностью приобретает подлинно трагическую остроту, глобальность. Сдавленное пространство палаты ¡й б, остановившееся время "мертвого" грродка в "Скрипке Ротшильда", "сплошная, беспросветная" тьма изображенной в "Убийстве" каторги на оставляют возможности положительного исхода, требуют от человека только "полной гибели всерьез".
В отличяе от Ивана Диитрича, Рагин ("Палата № 6") проходит путь, претерпевает эволюцию. Он - "герой динамический", что, как нам кааэтся, недостаточно учитывается в многочисленных интерпретациях повести. Одни и те ае слова, жесты, интонации Рагяна воспринимаются по-разному - в зависимости от изме-нящегося контекста его жизни. Важно ответить: кого уводят в палату? Ведут как'будто на консилиум. Ео консилиум - мнимый. Ведут ухе не доктора, а человека, который не занимает больше ничье место, а, следователь®}, и'никого не обманывает, никому не мешает. Перестав быть доктором, Андрей Ефишч перестает быть и "частицей необходимого социального зла". Ок как бы высвобождает, обнажает свою человечность. Ратина-философа, как прежде Ратина-доктора, вытесняет в палате & 6 просто человек перед лицом беочеловечной действительности, заставляющей его раздеться догола, надеть "чье-то" бельэ и туфли, халат с запахом копченой рыбы. Он испытывает "отчаяние", "ужас", предельную степень унижения. И, вместе о тем, сломленный, побежденный, не остается только, "пассивным объектом претерпеваемой им судьбы". Совесть - качественно новая категория в Художественной
системе повести. Не случайно онв сопровождается парадоксальным определением - "такая же несговорчивая и грубея, как Никите". Никита - воплощение агрессивной сущности господствующего миропорядка. Доктора приходят и уходят - Никита остается. Но и совесть в трагической кульминации заявляет о себе не просто кэк свидетельство незыблемости нравственного закона, но как реальная сила, способная противостоять "непобедимой пошлости", кулакам Никиты, а значит, изменяющая картину окружающей жизни. Так же и неожиданные, казалось бы, олени-, пробегающие мимо героя за мгновение До его смерти и разрывающие замкнутее пространство палаты, появляется не случайно, но вдруг. "...Совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита...". "Стадо оленей, необыкновенно красгаых и грациозных...". Думается, что целостная картина чеховского' кирз, его философия позволяют рассматривать эти лоняткя-обрэзы кэк взаимообусловленные, усиливающие, омишвща друг Друга. Действительность в "Палате й б" предстает в своем предельно бесчеловечном варианте, когда уже не конкретная вкна, а обычная человечность становится преступлением. -Но в таком случае она, человечность, перестает быть только личной ценностью, становится доблестью, предопределяет исклк^-чятельность героя. Осознающая себя человечность невольно к неизбежно вступает в непримиримое противоречие с господствующем миропорядком и заявляет о себе ценой собственной гибели. Тагам образом, на новом витке происходит возвращение к исконнда фермам трагического, преодолевающее в акте свободного поступка "прозаическую трагедию".
Различие между драматическим и трагическим в творчестве Чехова обнаруживается при сопоставлении "Скрипки Ротшильда" с рассказами более раннего периода "Горе" и "Свирель". Сознание Гронзы - гробовщика-музыканта - охватывает и обессмысливает
весь круговорот человеческого бытия. Праздники и будни, свадьбы и похороны для Якова неразличимо тождественны, безущербно взаимозаменяемы. В исходной точке повествования его образ лишен полутонов, минимальной способности к состраданию, потребности в диалоге с другими людьми, с природой. Но в сцене на реке становится понятным, что исходное отречение от человечности не является индивидуальным свойством Якова. Оно концентрирует в себе состояние городка, мира. Также и изменения, происходящие с героем, естественно, захватывают в свою орбиту все многообразие окружающей жизни, размыкают спрессованные время и пространство. Путь "вочеловечивания" Яков начинает от самых истоков, как бы из "темнейшей.глубины времен". Прежде чзы "вспомнить", герой должен дойти до крайней, степени беспамятства. Прежде чем воскреснуть - умереть. Токарь Григорий Петров ("Горе") исчерпываемся своей смзртьо.Яков оставляет песня, в которой его жизнь получает наиболее полное воплощение. Но не менее значимо и другое сопоставление - с рассказом "Свирель". Здесь тоже есть свой "композитор" - пастух Лука Бедный, своя музыка, связанная с предчувствием близкой "погибели мира". Но то, что играет Лука, в отличие от песни Якова, лишено катарсиса, не выводит, за границы действительной жизни. Это проявляется в разной реакции слушателей - "елитона к Ротшильда. Мелитону слышится "что-то тоскливое к противное, чего бы он охотно не слушал". Готвальда музыка буквально преображает. Изменяется его внешний вид: поза, выражение яйца. Бет больше запуганного, затравленного, жалкого существа. Есть художник, который слушает и слышит другого художника, испытывает "мучительный восторг". "Свирель" заканчивается звуком обрывающейся высокой нотки. Песня Якова не обрывается.. Она продолжает свою жизнь в исполнении Ротшильда. Замечательно, что при всех различиях обе "песни" (свирвяи 'и
скрипки) окрашены в скорбные тона. Но какая »то разнэя скорбь! Свирель оплакивает погибающий мир. Скрипка оплакивает - и воскрешает.
(Йна из важных особенностей художественной философии Чехова, определяющая а своеобразие трагического, - "возможность двух противоположных ревений" (А.П.Чудаков). Проследить вту особенность можно на примере рассказа "Убийство". В центре нашего внимания - сложный путь Якова Терехова к его "простой вере", трагический характер этой веры. Стихия от начала и до конца безраздельно господствует в рассказе, пронизывая собой его пространство и время, предопределяя их особенности. Метель рв--зыгралась "ни с того, ни с сего", как бы "вопреки всем правила?.;", вопреки календарям - природному и церковному, обозначая какое-то другое - докалендарное, внеяалендарное - время, "теь*-нейиую глубину хремен". В "Гусеве" мори, у которого нет "ни смысла, ни жалости", противопоставлено в финале "великолепное, очаровательное небо". "Убийство" (редкий для позднего Чехова случай!) не знает неба как самостоятельной субстанции. Ыир "Убийства" един по вертикали и горизонтали, "верх" и "низ" здесь тождественны друг другу. С особенной выразительностью это проявляется в закллчитёль'ной главе, где мрачная символика рассказа получает законченное выражение. Метель сменяется штормом, обе разновидности стихии поглощают пространство, делам его сплошным, неделимым. Хаос в "Убийстве" еще как бы не расчленен, не разделен на ведав и небо. Образвм стихии постоянно сопутствуют образы другого - реального - времена: огни» Это огни церковной службы, станции и железнодорожной линии, поезда я парохода. Но со стихией они соотносятся, как временное, зыбкое - о вечным и неизменным. Болев того, современная жизнь капитулирует лерэд стихией, принимает ее образ и подобие. К образам света
относятся также огонак трактира, восковые свечи, горящие во время службы, свечка, при которой Иатвей читает книгу, лампочка, с которой Яков посла убийства прошел к себе в комнату, -все, что связано с пространством догла. Но и дом Якова как бы воспроизводит картину мира в целом, здесь тоже есть свой "верх" и "низ", и так жй проявляет себя условность границы между ними. Религия, цивилизация, культура, связанные с образам;: света, последовательно обнаруживают свои недейственность. Они не задирают человека. Перед лицом стихии открывается неукорененность, бесследность его существования. Но главная незащищенность - от "громадного, страшного зверя" в самом себе, "зверя", из-за которого даже искренняя потребность в покаянии соединяется с братоубийством. Стихия - внутри человека. Так же, как и свет, позволяющий видеть "сквозь тысячи верст этой тьмы". Но возникает такой све.; только на каторге.
"Новая вера" - не очередной, а качественно новый этап религиозной эволюции, причем, не одного только главного героя. Она вбирает искания всего рода Тереховых, "начиная с бабки А^ 'отьи", служит как бы итогом и оправданием этих исканий. Только за чертой жизни, в "самой неприглядной и суровой из всех сахалинских тюрей", лишенный всего, даже имени, герой поднимается в полный рост своих человеческих возможностей. У него как будто открывается слух и зрение. Именно человеческое зрение, которое "туманилось от слез", становится в повествовании единственно подлинным, пронизывающим и преодолевающим темноту источником света. Кажется, что, вглядываясь напряженно в потемки, герой в прямой смысле слова "возносится" над миром, обозначая новую для него точку отсчета - взгляд с "высоты неба", постепенно опускающийся,, последовательно различающий все более конкретные подробности земного лайд тафта: "... Видит, родину, видит
родную губерния, свой уазд. Прогонную...". При этом беспощадная трезвость по отношению к людям соединяется с мотивом их покинутости. Безличной стихии в образе Якова противостоит воля к смыслу и жалости, направленная на то, чтобы "лить, вернуться домой, рассказать таи про свою новую веру1 и спасти от погибели хотя бы одного человека я пролить баз страданий хотя бы один день" (9, 160). Но в жизни Якова не будет такого "одного дня", он никогда не вернется на родину, не сможет передать свой опыт другим людям, следующим поколениям, обреченным, как и все Тереховы, снова проходить тот же путь с самого начала. Б таком случае это узе не путь, а движение по кругу, вечное возвращение к исходной точке. Бопрошакие и убежденность, сила и беспомощность, величие и подавленность неразделимо соединяются в образе Якова, в его "новой ззре". Таким не - просветлякзе-безысходным - предстает итоговый образ мира и в "Палате й 6", "Скрипке Ротшильда". Высокий смысл судеб главных героев и здесь парадоксально соединяется с объективной-иронией кязни.
Рагин, Яков Иванов, Яков Терехов проходят, в суияости, один путь. Только утрачивая свой социальный статус, становясь "слабее и незначительнее всех", герои открывают подлинное состояние мира. Теперь они внступавт как бы от лица всякого, любого человека перед лицом бесчеловечной действительности. То, что обретается в-"Палате » б", "Скрипке Ротшильда", "Убийстве", изменяет кармяу окружающей жизни, вносят в нее представление о качественно новых ценнЛтях. "Б хуяоквственном мире Чехова, -считает В.Я.Пинков, - нет сверхличной ценности"1. На нэн взгляд, правильнее было бы сказать так: ,в художественном мире Чехова нет изначально заданной сверхличной ценности. Нб, может быть,
1 Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П.Чехова. М., 1982. С. 56.
обретаемое в этоц мире, действительно, нуждается в како.-.:-?о другом определении? Небо Гусева, совесть Рагина, "новая песня" Якова Иванова, "правда и красота" студента Ивана Бешшопольско-го, "новея вера" Якова Терехова, "ничто не проходит" ГЛксаила Полоэнева, "Надо аигь" героев "Ляди Вани" и "Трех сзстзр" ...Думается, перзд нами явления одного ряда, внутренне родственные друг другу, хотя и называвшиеся по-разному. Все они и:.:зпт универсальный характер, но в то же время отмечени неизгладимой печатью индивидуальности, получают всякий раз единственную, неповторимую форму выраяения. Это - как бы сверхдвчно-личное, "зечааа цели бытия" и "свое человеческое достоинство", понятые в гас неразрывное, связи, утаденнае как проевз-чиваюциэ друг сквозь друга сущности,■ какдая ;;з которых является для другой своеобразным камертоном. Сверхлично-личное не обязательно связано только с трагическим героем. Но гак, гле есть трагический герой, неизбежно проявляет себя сверхлично-личное.
В заклшегош'диссертации подводятся итоги исследования; дается общий обзор основных полонений и выводов.
По тam диссертации опубликованы следующие работы:
1. Три некролога А.П.Чехова (К вопросу о личности писателя) // Вестник БГУ, серия I9B8, Й I. С. 20-22.
2. К вопросу о художественной £илосо$ии А.П.Чехова // Вестник БГУ, серия 4, 1989, й 3. С. 20-22.
3. К характеристике героя в прозе А.П.Чехова конца 80-х -90-х годов // Некоторые вопросы изучения славянских языков и литератур. Материалы У конференции молодых ученых филфака БГУ. Минск, 1989. 0 . 86-89.
4. Отступления в прошлое и современность (прозе Чехова юнца BO-x-90-x годов) // Вестник ВГУ, серия 4, 1990, й 2. 1. 15-18.
5. Вечное в современное в творчестве А.П.Чехова // Че-овские чтения в Ялте. Чехов: Взгляд из 1980-х. М., 1990.
. 47-50.
6. Проблема веры в рассказе А.Л.Чехова "Убийство" // Клвс-ическое наследие: методология исследования. Тезисы докладов еареспубликанской научной конференции. Шнек, 1992. С. 11-12.
7. Человек и природа в прозе А.П.Чехова (финал рьссказа Гусев") // Вестник БГУ, серия 4, 1993, fö I. С. 37-39.