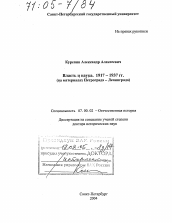автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Власть и наука. 1917-1937 гг.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Власть и наука. 1917-1937 гг."
Санкт-Петербургский государственный университет
На правах рукописи
Курепин
Александр Алексеевич
Власть и наука. 1917-1937 гг.
(на материалах Петрограда-Ленинграда)
Специальность 07.00. 02 - Отечественная история
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук
Санкт-Петербург 2004
Работа выполнена на кафедре истории России и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института Санкт-Петербургского государственного университета
Научный консультант: доктор исторических паук, профессор Смирнов Николай Николаевич
Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор Кольцов Игорь Анатольевич доктор исторических наук, профессор Соболева Елена Владимировна доктор исторических наук, профессор Фокин Владимир Иванович
Ведущая организация - Российский государственный педагогический
университет им. А.И.Герцена
Защита состоится «;/5\> 2004 г., в « ¿5» часов на заседании диссертационного совета Д. 212. 232. 52 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 16. Зал заседаний Ученого совета
С диссертаций можно ознакомиться в научной библиотеке им. A.M. Горького Санкт-Петербургского государственною университета Автореферат разослан XL CJU^HJ{ 2004 г.
Ученый секретарь диссертационного совета доктор исторических наук, профессор
Лейкин АЛ.
I. Общая характеристика работы
Актуальность темы диссертации обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, научный Петроград, несмотря на большие людские и материальные потери за время революции и гражданской войны, оставался крупнейшим (вторым после Москвы) центром отечественной науки и на всех этапах советской истории занимал приоритетное место в преобразовательных планах и научной политике большевиков. Здесь находилась (до 1934 г.) Российская (с 1925 г. Всесоюзная) Академия наук, значительная часть старых и созданных в советское время научных учреждений различного типа, подчинения и профиля, вузов, научных обществ. Уникальный по своему дисциплинарно-отраслевому многообразию, составу и квалификации работников, социально-культурной роли, научный Петроград-Ленинград усилиями центральной и местной власти превращался в важнейшую составную часть огосударствленной науки, ее регионально-структурную модель. Во-вторых, в процессе своего упадка, медленного восстановления и последующего трудного развития он, его учреждения и работники испытывали общие для всей отечественной науки потрясения, коллизии в отношениях с властью, переживали последствия перманентных реорганизаций и большевистских экспериментов. Вместе с тем, научный Петроград-Ленинград оказывал значительное влияние на организационное становление всей советской науки. В третьих, потребность в исследовании проблемы власти и науки в Петрограде-Ленинграде в 1917-1937 гг. вытекает из того, что в довольно обширной современной историко-научной литературе, освещающей различные вопросы социальной истории советской науки, пока еще крайне редки попытки целостного, всестороннего их рассмотрения в широких хронологических и региональных рамках и, одновременно, с отражением многообразной деятельности научных учреждений. В четвертых, в истории научного Ленинграда, взаимоотношений власти с его учреждениями и работниками наглядно и своеобразно проявились многие закономерности и характерные черты, позитивные элементы и изъяны советского типа организации науки, цели, методы и последствия деятельности партийно-государственных структур в сфере науки в 20-30-е гг. Таким образом, актуальность представленного исследования определяется как особым местом и ролью научного Ленинграда в истории организации советской науки, так и слабой изученностью с современных методологических позиций многих вопросов его развития и функционирования, в которых отразились основные тенденции и противоречия научного строительства в СССР в этот период. Комплексное изучение данной темы является поэтому весьма важной историко-научной и социально-культурной задачей.
Цель диссертации заключается в исследовании механизма, основных направлений и форм взаимодействия, сотрудничества и противостояния между властью и наукой (ее учреждениями, организаторами, работниками) в условиях социалистического строительства и
бенностей их взаимоотношений в Петрограде-Ленинграде, поэтапной эволюции и крайне противоречивых результатов.
Исходя их этой цели были поставлены следующие главные задачи:
- раскрыть сущность партийно-государственной политики в сфере науки, научного строительства, по отношению к работникам науки, ее особенности на отдельных этапах и применительно к научному Петрограду-Ленинграду;
- проанализировать структуру регионального управления, оценить его роль в централизованно-ведомственной системе руководства наукой, выяснить специфические функции партийных органов;
- проследить эволюцию уставов научных учреждений, закреплявших их статус, структуру и функции;
- выявить особенности основных этапов и направлений восстановления, советизации и коренной реорганизации научных учреждений;
- показать общие тенденции и отличительные особенности в положении и развитии старых и новых научных учреждений различного типа, подчинения и профиля;
- раскрыть цели и методы проведения кадровой политики в сфере науки, рассмотреть изменения в руководящем звене научных учреждений, а также количественную и социально-партийную динамику их кадрового состава;
- осветить основные направления деятельности научных учреждений, в том числе практику внедрения новых принципов и форм организации научного труда;
- изучить систему подготовки новых научных кадров, ее основные формы, достоинства и просчеты;
- исследовать, формы, методы и последствия профессионально-общественной, политической и методологической работы с научной интеллигенцией, роль в ней общественных организаций и объединений;
- проанализировать эволюцию общественной и научно-мировоззренческой позиции различных групп научной интеллигенции, раскрыть причины и формы ее противостояния власти, обобщить практику идеологических и политических репрессий в науке.
В процессе исследования обозначенной проблемы диссертант считал необходимым уделить больше внимания ее локальному преломлению, изучению внутренних процессов в научных учреждениях, выявлению общих черт и особенностей их «внешнего» и «внутреннего» положения, развития и деятельности.
Одним из главных объектов исследования являются местные органы власти - партийной, советской и научно-административной. В центре исследования находятся многие работавшие в Петрограде-Ленинграде крупнейшие научные учреждения страны, в частности, Академия наук, научно-прикладные межотраслевые институты и отраслевые институты промышленности, исследовательские институты сельскохозяйственного профиля, медицинские научно-практическиел институты, социально-гуманитарные, научно-идеологические уч-
реждения, некоторые вузы и их НИИ, а также научные общества. Исследование охватывает и организации научной интеллигенции Ленинграда - политические, профессиональные, общественные.
Предметом исследования являются направления, каналы и методы нараставшего многопланового воздействия власти на организацию науки, развитие и деятельность научных учреждений и на научную интеллигенцию, «ответ» научного сообщества на постепенно ужесточавшиеся императивы и результаты взаимодействия, сотрудничества и противостояния власти и работников науки в 1917-1937 гг.
Хронологические рамки диссертации обусловлены тем существенным обстоятельством, что именно в 1917-1937 гг. сформировались и в полной мере реализовались (как в общегосударственном масштабе, так и на региональном уровне) принципы противоречивых взаимоотношений между новой властью и наукой, которые основывались на их взаимозависимости, на все большем огосударствлении и подчинении науки и на противостоянии власти значительной части научной интеллигенции (то смягчавшемся, то обострявшемся). Основные этапы послеоктябрьской истории - гражданская война, нэп, восстановление (1918-1925 гг.), индустриализация и коллективизация (1926-1932 гг.), развернутое социалистическое строительство (1933-1937 гг.) определяли особенности и приоритеты научной политики и взаимоотношений власти с работниками науки. Составной частью первых двух пятилетних планов развития народного хозяйства СССР являлись научные пятилетки, в которых намечались главные направления, параметры развития и задачи науки, а тем самым и стратегия деятельности научных учреждений. В последующий период научная политика во многом диктовалась потребностями укрепления обороны страны в условиях приближавшейся большой войны.
Территориальные рамки исследования определены исходя из той важной роли, которую Петроград-Ленинград играл в становлении, организации и развитии советской науки в указанные годы. Он располагал многоотраслевой фундаментальной и прикладной наукой, научными учреждениями всех типов, примерно четвертью (на 1933 г.) действовавших в стране исследовательских институтов, многочисленными и наиболее квалифицированными кадрами научных работников (от одной трети в 1918 г. до одной четверти в 1933 г.) и оказывал огромное влияние на весь ход научного строительства в СССР. В Ленинграде был сформирован и действовал механизм партийно-государственного управления наукой, воспроизводивший многие черты общегосударственной системы руководства этой сферой. В развитии научного Ленинграда наглядно и особенно болезненно проявились многие коллизии социальной истории советской науки в 20-30-е годы.
Методологическую основу диссертации составляют базовые принципы исторического исследования и, прежде всего, принципы научной объективности и историзма. Феномен «управляемой» науки, сложившийся в СССР в 20-30-е г. XX в., отражал черты советской общественно-политической системы, цели государственной политики и методы ее осуществления на отдельных этапах, но-
вые социальные условия функционирования и развития науки. Современная интерпретация истории организации науки и взаимоотношений власти с ее работниками в этот период во многом зависит от взглядов исследователей на советскую историю в целом, оценки ее содержания, результатов и причин заката на рубеже 80-90-х гг., т. е., в конечном счете, от их общественной и научно-мировоззренческой позиции. В общеметодологическом плане диссертант не рассматривает советский период как случайное и аномальное явление в отечественной истории и не считает его всего лишь неудавшимся социальным экспериментом. В условиях советского строя, на наш взгляд, тесно переплетались различные, подчас противоположные тенденции, развертывание созидательного потенциала общества сочеталось с его подавлением и разрушением, поэтому и конечные результаты развития страны, в том числе и ее науки, оказывались крайне противоречивыми. В процессе изучения исследуемой проблемы учитывались особенности статуса науки и ее функционирования в дореволюционной России, преемственность некоторых черт научной политики советского правительства с предшествующим периодом, а также внешние факторы и, прежде всего, возрастание регулирующей роли государства в организации науки в развитых капиталистических странах в первой трети XX в. Диссертант придерживался методологической установки на непредвзятое и вне политико-идеологических пристрастий изучение и объективную оценку как определенных достоинств и достижений в научном строительстве в СССР и в Ленинграде, так и очевидных его изъянов, упущенных возможностей и огромных потерь. Этот противоречивый опыт не вписывается ни в официальные схемы, господствовавшие в советской историографии и исходившие из бесспорных преимуществ советской организации науки, ни в односторонне негативную его интерпретацию в некоторых современных работах. Диссертант исходил из многофакторности, противоречивых тенденций и неоднозначности во взаимоотношениях советского государства и науки, власти и ученых (в том числе и на региональном уровне) и потому старался учитывать всю совокупность достоверных фактов, следовать логике их непредвзятого анализа и обобщения. Поэтому в диссертации использованы не утратившие научного значения результаты советской историографии истории организации науки, а также новые методологические подходы и достижения современных исследователей социальной истории отечественной науки. Комплексный, системный подход к изучению поставленных вопросов сочетается в работе с рассмотрением их на трех взаимосвязанных уровнях - общегосударственном, региональном и локальном, а также с применением методов фактологического, хронологического, статистического и сравнительно-исторического анализа.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые комплексно исследуются: реализация основных направлений государственной научной политики в Петрограде-Ленинграде, роль в ее осуществлении региональных научно-административных и местных партийно-советских органов; реорганизация, развитие и деятельность крупнейших научных учреждений различного
статуса и профиля; эволюция взаимоотношений власти с научной интеллигенцией, формы и результаты политической и методологической работы с ней в условиях социалистического строительства 1917-1937 гг.
Таким образом, диссертация представляет собой и первое комплексное исследование вопросов социальной истории науки в Петрограде—Ленинграде в ее переломный, драматический период.
Историография проблемы. Предметное изучение на документальной основе партийно-государственной политики в области организации науки и ее практического осуществления на первых этапах социалистического строительства началось с середины 60-х годов XX в.1. Б.М.Кедров, Ю.С.Мелещенко, С.В.Шухардин, А.Д.Педосов и другие авторы обобщали взгляды В.И.Ленина на роль науки и научно-технического прогресса в строительстве социалистического общества2. В работах Е.Н.Городецкого и Э.Б.Генкиной затрагивалась деятельность В.И.Ленина по руководству научным строительством в первые годы советской власти и преобразований в науке3. Некоторые направления научного строительства в 1917-1924 гг. раскрывались в очерках С.И.Мокшина4. Начальный этап разработки научной политики и научного строительства (1917-1922 гг.) подробно, всесторонне рассматривался в монографии М.С.Бастрако-вой. Значительное место в ней отведено созданию и функциям государственных органов по управлению наукой5. Заслугой названных исследователей является проведенный ими впервые в советской историографии документированный, системный и конкретный анализ проблемы становления и функционирования советской организации науки, роли в ней высших партийно-государственных структур. Вместе с тем, на всех исследованиях лежит печать своего времени, идеологического заказа. В соответствии со сложившейся схемой историки должны были оценивать деятельность партийных и государственных органов в сфере науки исключительно в позитивном плане и обходить наиболее острые углы и коллизии «завоевания» науки, принудительной советизации научных учреждений, затяжного противостояния власти и ученых.
1 См.: КПСС и научно-технический прогресс. Указатель советской литературы, изданной в 1918-1974 гг. Свердловск, 1975; Развитие советской науки за 50 лет. Указатель юбилейной литературы. М., 1972; КПСС и научно-технический прогресс. Список литературы, изданной в 1975-1980 гг. Свердловск, 1982. См.: Октябрь и научный прогресс. М., 1977; Октябрь и наука (1917-1977). Сборн. статей. М., 1977; Советская наука: Итоги и перспективы. M., 1982.
2 Мелещенко Ю.С., Шухардин C.B. В.ИЛенин и научно-технический прогресс. Л., 1969; Педосов А.Д, Партия большевиков и технический прогресс. М., 1969; Ленин и современная наука. 1870-1970. В 2 кн. М., 1970; Кедров Б.М. Ленин, наука и социальный прогресс. М., 1982.
3 Городецкий E.H. Рождение Советского государства. 1917-1918. М., 1965; Генкина Э.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. 1921-1923. М., 1969.
4 Мокшин С.И. Семь шагов по земле. Очерки становления и развития советской науки. 1917-1924. М., 1972.
5 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917-1922 гг.). М„ 1973.
Вопросы государственного руководства наукой в годы первой пятилетки подробно освещались в монографии В.Д.Исакова1. Радикальная реорганизация отраслевой науки, перестройка Академии наук, осуществлявшиеся в этот период, трактовались в ней как объективно необходимая задача, обусловленная потребностями начавшейся индустриализации. Развитие сети учреждений науки за все годы социалистического строительства прослежено Е.А. Беляевым и Н.С.Пышковой2. Истории Академии наук был посвящен целый ряд работ, в частности, двухтомный труд Г.Д.Комкова, Б.В.Левшина и Л.К.Семенова, монографии А.В.Кольцова3. Названные работы, содержательные и фактологически весьма насыщенные, бесспорно, были заметным явлением в историографии истории науки. В то же время в них по причинам идеологического порядка не затрагивались весьма напряженные взаимоотношения Академии наук с партийно-государственной властью на рубеже 20-30-х годов и позже. Важной и вместе с тем специфической частью историографии исследуемой проблемы являлась разнообразная, в том числе фундаментальная литература по истории отдельных наук в СССР 4.
Предметом исследований во второй половине 60-х - 80-е годы стала история научной интеллигенции в период социалистического строительства. Она рассматривалась в рамках главной проблемы - формирования советской научной интеллигенции. Различные ее хронологические периоды и аспекты освещались в монографиях Б.ДЛебина (применительно к первым годам советской власти), В.П.Ульяновской (1917-1937 гг.), в отдельных разделах труда С.АФедюкипа, в не утратившем и сегодня научной ценности монографическом исследовании Л.В.Ивановой (1917-1927 гг.), в работе П.В.Алексеева5. Научная интеллигенция рассматривалась в них главным образом как объект идейно-воспитательного воздействия со стороны правящей партии и как все более активный и сознательный участник социалистических преобразований. Этим, как считалось, и обусловливалось исторически закономерное формирование новой
1 Есаков В.Д. Советская наука в годы первой пятилетки. Основные направления государственного руководства наукой. М., 1971.
2 Беляев Е.А., Пышкова Н.С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР. М, 1979.
3 Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов JI.K. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. В 2 томах. М., 1977; Кольцов A.B. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. Л., 1969; Он же. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926-1932 гг. Л., 1982.
4 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 4. М., 1966; Развитие биологии в СССР. М., 1967; Развитие физики в СССР. В 2 кн. М., 1967; История философии в СССР. Т. 5. М., 1985 и др..
5 Лебин Б Д. В.И.Ленин и научная интеллигенция. М.; Л., 1966; Ульяновская В.П. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917-1937. М., 1966; Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М., 1972; Иванова Л В. Формирование советской научной интеллигенции (1917 -1927 гг.). М., 1980; Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. М, 1987.
научной интеллигенции советско-социалистического типа. Правовые аспекты и организационные формы подбора, подготовки и аттестации научных кадров в 20-60-с годы показаны в монографии Б.Д.Лебина1.
Вклад в освещение и трактовку взаимоотношений власти и ученых в 2030-е гг. вносила и историография истории советской интеллигенции. В работах С.А.Федюкина, В.С.Волкова, М.Е.Главацкого, Ф.Н.Заузолкова, В.А.Соскина раскрывалась политика и дифференцированная тактика РКП(б)-ВКП(б) по отношению к различным группам интеллигенции, и главное внимание уделялось привлечению старых специалистов к хозяйственному и культурному строительству, формам и методам их постепенного перевоспитания, подготовке но-2
вых кадров .
Для исследований историко-партийной направленности была характерна ярко выраженная политико-идеологическая тенденциозность. Ее иллюстрацией может служить небольшая работа Е.А.Беляева, в которой кратко обобщался весь опыт руководства КПСС организацией науки3.
Изучение истории партийно-государственного руководства научным строительством в Ленинграде, осуществлявшееся в 70-е - первой половине 80-х гг, шло в общем методологическом русле советской историографии тех лет с ее достижениями и стереотипами. Заметным для своего времени явлением в историографии стало появление в самом конце 70-х гг. двух коллективных работ -«Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. 1917-1977.» (под ред. Б.И.Козлова. Л., 1979) и «Очерки истории организации науки в Ленинграде. 1703-1977.» (под ред. Б.Д.Лебина. Л., 1980). В первой из этих работ освещался (в двух первых главах) процесс создания, развития и расширения деятельности отраслевых институтов промышленности в годы нэпа, первой и второй пятилеток, содержались краткие очерки истории некоторых из них4. Во второй работе, в двух разделах, написанных А.В.Кольцовым, показаны место Ленинграда в общегосударственной системе организации науки в советский период, функции местных ведомственных органов по управлению наукой, а также рост потенциала академической, многопрофильной отраслевой, вузовской и заводской науки в годы первой и второй пятилеток5. Следует отметить, что за последующий более чем двадцатилетний
1 Лебин Б.Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров. М.; Л., 1966.
2 Советская интеллигенция (История формирования и роста. 1917-1965.). М., 1968; Фе-дюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М., 1972; Заузолков Ф.Н. Коммунистическая партия - организатор создания научной и производственно-технической интеллигенции СССР. М., 1973; Главацкий М.Е. КПСС и формирование технической интеллигенции на Урале (1926-1937 гг.). Свердловск. 1973; Соскин В.Л. Ленин, революция, интеллигенция. Новосибирск. 1973; Советская интеллигенция: Краткий очерк истории (1917-1965 гг.). М., 1977.
3 Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР. М., 1982.
4 Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. С. 27-57.
5 Очерки истории организации науки в Ленинграде. С. 115-171.
период не появилось ни одной обобщающей работы по истории организации науки в Ленинграде. Отдельные ее сюжеты затрагивались в публикациях, помещавшихся в сборниках «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов», регулярно издававшихся в те годы Ленинградским отделением Института истории естествознания и техники АН СССР1. История высшей школы Петрограда - Ленинграда в первые годы советской власти и восстановительный период, прежде всего, ее реформа исследовалась в монографии А.П.Купайгородской, но также с позиций безусловной целесообразности и в основном позитивных результатов мероприятий по советизации вузов2.
Большое число изданий посвящалось истории отдельных научных учреждений Ленинграда3. Они существенно дополняли и конкретизировали общую картину научного Ленинграда в 20-30-е гг., но обходили многие острые проблемы и трудности в развитии научных коллективов. Предметом широкого изучения являлись также биографии многих ленинградских ученых4. В те годы их авторы не могли полно и правдиво показать профессиональный и гражданский облик ученых, их общественную позицию, сложную идейную эволюцию, отношения с властью, а нередко и трагическую судьбу.
В работах В.М.Кулагиной и В.Ф.Финогенова рассматривалась деятельность Ленинградской партийной организации, научно-технических институтов, хозяйственных органов, предприятий по внедрению научных достижений и тех-
1 Макеева В.Н. К истории создания и деятельности органов по руководству наукой в Петрограде-Ленинграде в 1921-1925 гг. // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. Ш. JI., 1970. С. 214-221; Она же. Ленинградский объединенный научно-технический совет - центр по координации исследований (1926-1930 гг.) // Там же. Вып. IV. Л., 1971. С. 435-441; Павлова Г.Е. Роль ленинградских научно-исследовательских институтов Главнауки Наркомпроса в развитии народного хозяйства страны в 1918-1925 гг. //Тамже. С. 442-446.
2 Купайгородская А.П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.). Л., 1984.
3 Всесоюзный научно-исследовательский институт им. Д.И.Менделеева. Исторический очерк. Л., 1967; Государственному институту прикладной химии пятьдесят лет. 1919-1969. Л., 1970; Механобр. 50 лет со дня основания. Л., 1970; Радиевый институт им. В.Г.Хлопина. К 50-летию со дня основания. Л., 1972; Физико-технический институт им. акад. А.Ф.Иоффе. 1918-1978. Л., 1978; ВСЕГЕИ в развитии геологической науки и минерально-сырьевой базы страны. 1882-1982. Л., 1982; Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.М.Образцова. 1809-1959. М., 1965; История Ленинградского государственного университета. Очерки. 1819-1969. Л., 1969 и др.
4 Слонимский М.С. Абрам Федорович Иоффе. М.; Л., 1964; Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман. М., 1968; Лукина Т.А. Борис Евгеньевич Райков. Л., 1970; Чаикевич Е.И. Е.В.Тарле. М., 1977; Гуло Д.Д., Осиновский А.Н. Дмитрий Сергеевич Рождественский. 1876-1940. М., 1980; Асратян Э.А. И.П.Павлов. Жизнь, творчество, современное состояние учения. 2-е изд. М., 1981; Владимиров B.C., Маркуш И.И. Владимир Андреевич Стеклов -ученый организатор науки. М., 1981; Романовский С.И. А.П.Карпинский. 1847-1936. Л., 1981; Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский (1863-1945). М., 1982; Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941). Л., 1984 и др.
нических изобретений в промышленность в годы второй пятилетки'. Опыт работы партийной организации по сближению науки с производством за все годы социалистического строительства обобщался в коллективной работе, изданной в 1985 г. Ленинградским институтом истории партии2. Н.Б.Лебедевой принадлежала первая ее глава, а также глава о науке в коллективном очерке деятельности С.М.Кирова в Ленинграде, в которой показано его активное содействие развитию фундаментальных и прикладных исследований и использованию их результатов в интересах народного хозяйства3. Партийное руководство подготовкой научных кадров в Ленинграде в годы первой пятилетки исследовалось в диссертации К.Е.Печкуровой4.
Ряд монографических исследований, диссертаций и большое число статей, вышедших в 70-80-е годы, посвящался истории «вхождения» марксизма в общественные науки, а также отдельным вопросам истории научной и вузовской интеллигенции Петрограда-Ленинграда в 20-е годы. В двух монографиях В.И.Клушина, изданных на рубеже 60-70-х гг., подробно освещалась деятельность научно-марксистских учреждений и Научного общества марксистов Петрограда-Ленинграда в 1918-1925 гг., научная, преподавательская и пропагандистская работа первого поколения обществоведов-марксистов (в частности, в Петроградском университете)5. В историко-философском плане в них рассматривался процесс утверждения марксистского направления в социально-философских дисциплинах (научных и учебных) как вполне закономерное явление, обусловленное социальными переменами в стране и новыми идеологическим потребностями. Вопросы политико-идеологической работы с научно-вузовской интеллигенцией Петрограда-Ленинграда в 20- начале 30-х гг. освещались в традиционном ключе в диссертациях и статьях Л.А.Шилова, В.В.Фортунатова, Е.А.Козлова6. Один из разделов монографии по истории
1 Кулагина В.М. Ленинградские коммунисты в борьбе за освоение новой техники (19331937 гг.)- Л., 1962; Финогенов В.Ф. Ленинградские коммунисты в борьбе за техническую реконструкцию промышленности. Л., 1972.
2 Содружество науки и производства. История и современность. Деятельность Ленинградской партийной организации по развитию творческих связей науки с промышленностью. Л., 1985.
3 С.М.Киров и ленинградские коммунисты. 1926-1934 гг. Л., 1986. С. 255-272.
4 Печкурова К.Е. Партийное руководство подготовкой научных кадров в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) (па материалах Ленинграда): Автореф. канд. дис. Л., 1976.
5 Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в Ленинградском университете. Л., 1970; Он же. Первые ученые-марксисты Петрограда. Л., 1971.
6 Шилов Л.А. Группа левой профессуры (1921-1923 гг.) //Вестник Ленингр. ун-та. 1967. № 20. С. 27-38; Фортунатов В.В. Борьба большевиков против буржуазного влияния на профессорско-преподавательский состав вузов в 1923-1927 гг. //Исторический опыт борьбы Коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Межвузов, сборн. научн. тр. Л., 1987. С. 18-29; Козлов Е.А. Секция научных работников Ленинграда в годы первой пятилетки //Партийное руководство деятельностью общественных организаций интеллигенции в период социалистического строительства. Л., 1981. С. 80-95.
Академии наук в 1926-1932 гг. А.В.Кольцов отвел показу участия ее общественных организаций в перестройке АН на основе нового Устава 1930 г.1
Таким образом, направление, характер и результаты исследования проблемы власти и науки в 20-30-е гг. отражали общее кризисное состояние историографии истории советского общества, в котором она находилась в 70 - первой половине 80-х гг. под влиянием усилившихся консервативно-охранительных тенденций в политике и ужесточения идеологического контроля. Сохранявшаяся зависимость исторической науки от официальной идеологии, предопределенность выводов, отсутствие свободных дискуссий по принципиальным вопросам истории советской науки и научной интеллигенции свидетельствовали об исчерпании прежней методологии исследования и официальной концепции. В процессе анализа и использования результатов советской историографии необходимо было отделить имевшиеся в ней элементы объективности и научности от классово-партийной интерпретации, действительные достижения от политически детерминированных трактовок и выводов.
Начавшееся со второй половины 80-х гг. изучение ранее закрытых тем истории советской науки в основном концентрировалось вокруг проблемы власти и науки, которая довольно быстро трансформировалась в более широкую проблему функционирования науки в условиях тоталитарного государства. Резонанс в научном сообществе вызвала статья сотрудников Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники АН Д.А.Александрова и Н.Л.Кременцова в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», в которой были обозначены многие назревшие вопросы изучения социальной истории советской науки2. Несмотря на спорность отдельных положений и обобщений, статья способствовала разрушению старых историографических штампов и намечала направление дальнейших исследований. В статьях, помещавшихся в исторических, научных, научно-общественных и литературно общественных журналах раскрывались малоизвестные и забытые страницы из истории взаимоотношений власти с учеными, истории научных учреждений (в частности, Академии наук), биографий ученых, идеологических и политических репрессий в науке. Значительная их часть относилась к научным учреждениям и ученым Ленинграда3. Так обозначилось новое направление - социальная история совет-
1 Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926— 1932 гг. С. 186-204.
2 Александров Д.А., Кремепцов H.JL Опыт путеводителя по неизвестной Земле: Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917-1950 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 4. С. 67-79.
Алпатов В.М. К истории советского языкознания: Марр и Сталин // Вопросы истории. 1989. № 1. С. 185-188; Брачев B.C. Укрощение строптивой или как АН СССР учили послушанию // Вестник АН СССР. 1989. № 4. С. 120-127; Он же. «Дело» академика С.Ф.Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. С. 117-129; Тугаринов И.А. ВАРНИТСО и Академия наук (1927-1937 гг.). // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 4. С. 46-55; Юшкевич A.M. «Дело академика II Н.Лузина» // Вестник АН СССР. 1989. № 4. С. 102-113; Алпатов В.М. Мартиролог востоковедной лингвистики // Вестник АН СССР.
ской науки, включающая исследование различных аспектов взаимоотношений между государством и наукой, учеными и властью в условиях тоталитарного режима. Уже в первой половине 90-х гг., наряду с журнальными публикациями, вышли тематические сборники по этой многоплановой проблеме. В них выявлялись истоки и механизм управляемой науки, последствия политико-бюрократического руководства, широко раскрывался феномен репрессированной науки1.
Стали выходить и первые монографические работы по различным вопросам истории советской науки 20-60-х гг. При этом в их освещении с конца 80-х гг. наметились три основных направления - традиционно-позитивистское, ради-кально-негативистское и объективистское, последнее из которых, стремившееся к преодолению крайностей в оценках советского опыта научного строительства, постепенно стало доминирующим.
Деятельность высших органов государственной власти по руководству наукой в 20-30-е гг. в традиционной тональности рассматривалась в учебных пособиях и докторской диссертации С.П.Стрекопытова2. С аналогичных, в целом позитивных позиций Л.А.Опенкин в двух главах своей монографии рассматривал опыт КПСС по разработке и осуществлению научной политики в первые годы советской власти. Негативное влияние на развитие науки с середины 20-х гг. стали оказывать, по его мнению, искажение ленинских принципов в отношениях со старыми специалистами, а также массовые репрессии3. В политически менее ангажированной монографии Г.А.Лахтина, вышедшей в 1990 г. и написанной в академическом, объективистском ключе, выявлены многие особенности четырех, согласно периодизации автора, основных этапов в развитии организационно-управленческих структур науки в 1917 - конце 80-х гг.4 Многие характерные черты утвердившегося в 90-е годы радикально-негативистского направления в историографии присущи работе Л.Г.Белявского, посвященной
1990. № 2. С. 110-112; Григорьян H.A. Общественно-политические взгляды И.П.Павлова И Вестник АН СССР. 1991. № 10. С. 74-87; Кузнецов В.И. Возрождение правды об академике В.Н.Ипатьеве // Вопросы истории естествознания и техники. 1991. № 4. С. 65-75; Перченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья. Исторический альманах. М., 1991. С. 163-235; Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно» (Новое об изгнании духовной элиты // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 61-84; Селезнева И.Н., Яншин Я.Г. Мишень -российская наука // Вестник РАН. 1994. № 9. С. 821- 827 и др.
1 Наука и власть. Сборн. статей. М., 1990; Репрессированная наука. Под ред. М.Г.Ярошевского. Вып. I. Л., 1991; Вып. II. Л., 1994; Философские исследования. Наука и тоталитарная власть. М., 1993.
2Стрекопыгов С.П. Высший совет народного хозяйства и советская наука. 1917-1932 гг. Учеб. пособие. М., 1990; Государственное руководство наукой в СССР (1936-1958). Учеб. пособие. М., 1991; Организация управления наукой в условиях складывавшегося тоталитарного режима (20-30е годы): Автореф. докт. дис. М., 1992..
3 Опенкин Л.А. Сила, не ставшая революционной (Исторический опыт разработки КПСС политики в сфере науки и технического прогресса. 1917-1982 гг.). Ростов-на Дону. 1990. С. 12-82.
4 Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990.
проблеме воздействия политики на науку и научную интеллигенцию в 20-ЗО-е гг.1 Хотя автор упомянул о реобходимости «синтетического» подхода к изучению обозначенной проблемы с учетом многообразия точек зрения и признал существенное различие между научной политикой периода нэпа и 30-х гг. (как и взглядов большевистских вождей на нее), сам он применительно к обоим этапам придерживается односторонне разоблачительной позиции. Особое внимание уделено теме репрессий в науке, к которым в работах подобного рода фактически и сводится основное содержание научной политики тех лет. Своеобразная концепция социальной истории отечественной науки от начала XVIII до конца XX в. изложена в монографии С.И.Романовского, содержащей ряд интересных наблюдений, нетривиальных суждений и выводов2. Будучи искусственно привнесенной в русскую жизнь в результате «насильственной инъекции» Петром I, наука, подчеркивает Романовский, в условиях тоталитарного режима (монархического, а затем коммунистического) всегда находилась в полной зависимости от правительства - финансовой, бюрократической и идеологической. Власть относилась к науке потребительски, с точки зрения непосредственной выгоды, содействовала ее развитию лишь в той мере и в том направлении, которые отвечали ее экономическим и идеологическим интересам 3. Вторая часть книги отведена идеологическим «особостям» (термин автора) советской науки, сложившимся уже в 20-е гг. и сохранявшимся до конца века (преимущественно на примере Академии наук)4. При этом парадоксы и действительные болезни советской науки (по мнению автора, превратившейся в «квазинауку») интерпретируются как ее всеобщая и глубокая деградация. Абсурдность столь сурового приговора вынуждает автора делать оговорки, исключения и признания, которые явно диссонируют с основным пафосом этой части книги 5. Гораздо более объективно история советской науки, с ее парадоксами, бедами, но и крупными достижениями, представлена в очерках американского исследователя Л.Р.Грэхэма6.
В последнее десятилетие вышел ряд исследований по проблемам истории отдельных наук в 20-40-е гг.7. В работе Э.И.Колчинского подробно рассмотрены взаимоотношения между марксизмом, марксистской философией, ставшей идеологическим орудием новой власти, и биологией на социально-культурном фоне послереволюционной эпохи, история их «союза», так и несостоявшегося,
1 Белявский Л.Г. Отечественная наука и политика (1920 - 30-е годы). Ростов-на Дону. 1996.
2 Романовский С.И. Наука под гнетом российской истории. СПб., 1999.
3 Там же. С. 18-22.
4 Там же. С. 217-240.
3 Там же. С. 21,149, 155, 168, 185 - 193.
6 Грэхэм Л.Р. Очерки истории российской и советской науки.. М., 1998. С. (, 91-260.
7 Сонин A.C. «Физический идеализм»: История одной идеологической кампании. М., 1994 ; Сойфер В.Н. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993; Александров В.Я. Трудные годы советской биологии. СПб., 1992; Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки. М., 1997.
полагает автор, несмотря на огромные усилия по диалектизации биологии и формальное торжество в ней марксизма, достигнутое к началу 30-х гг.1. Критическому анализу стало подвергаться развитие исторической науки в СССР, особенно ее советоведческое направление, строившееся на принципах классовости и партийности и жестко зависевшее от официальной идеологии2.
В изданиях и публикациях 90-х гг. по истории научных учреждений с большей или меньшей полнотой затрагивается вопрос об их взаимоотношениях с органами власти в разные периоды, политизации и бюрократизации управления и тема репрессий .
Эволюция общественных умонастроений интеллигенции и в том числе деятелей науки в период с февраля по октябрь 1917 г. была показана в монографии О.Н.Знаменского, вышедшей еще в 1988 г. и потому, естественно, написанной с позиций неизбежности и закономерности Октябрьской революции4. Отдельные периоды в истории отечественной интеллигенции XX в. с разных методологических позиций освещаются в ряде монографических работ, в частности, А.В.Квакина, В.А.Куманева и А.Е.Корупаева, вышедших в 90-е гг.3 Проблемам истории отечественной интеллигенции в XX в. посвящались научные конференции, регулярно проходившие в 90-е гг. и в начале нового века в Екатеринбурге, Иванове, Новосибирске, Петербурге. На их основе вышло большое число сборников статей и тезисов докладов, издавались и тематические сборники. Обоснованной представляется предварительная оценка идейно-политической дифференциации российской интеллигенции в период гражданской войны, нэпа и в 30-е годы, данная В.С.Волковым. Он высказал и ряд ценных суждений
1 Колчинский Э. И. В поисках советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в 20-х - начале 30-х гг.). СПб., 1999.
2 Советская историография. Сборн. статей. М., 1996; Историческая наука в России в XX веке. М., 1977; Артизов А.Н. Критика М.Н.Покровского и его школы (К истории вопроса) // История СССР. 1991. № 1. С. 102-120; Кривошеее Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20 - начале 30-х годов XX века // Отечественная история. 1993. № 3. С. 143-158.
3 Первый в России исследовательский центр в области биологии и медицины. К 100-летию Ипститута экспериментальной медицины. 1890-1990. Л., 1990. С. 44-89; Косарев В.В. Физтех, Гулаг и обратно (белые пятна в истории Ленинградского физтеха) // Чтения памяти А.Ф.Иоффе. 1990. Сборн. научн. тр. СПб., 1993. С. 105 - 177; Соболев B.C. Для будущего России. СПб., 1999. С. 58-104; Кольцов A.B. Ленинградские учреждения Академии наук СССР в 1934-1945 гг. СПб., 1997; Формозов A.A. Академия истории материальной культуры - центр советской исторической мысли в 1932 - 1934 гг. // Отечественная культура и историческая мысль XVIII-XX веков. Сб. статей и материалов. Брянск. 1999 С. 5-32; Дмитриев А.Н. Институт истории науки и техники в 1932-1936 гг. (ленинградский период) // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. Ks 2. С. 3-29.
4 Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль - октябрь 1917 г.). Л., 1988.
5 Квакин A.B. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период нэпа. 1921-1927. Саратов. 1991; Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991; Корупаев А.Е. Очерки интеллигенции России. В 2 ч. М., 1995.
относительно вынужденной адаптации старых интеллигентов к новой, советской действительности и по проблеме «интеллигенция и сталинизм»1. Из немногих статей в упомянутых сборниках, посвященных научной интеллигенции, можно отметить публикации Г.Л.Соболева (о позиции ученых в 1917 г.), В.Л.Соскина (о борьбе профессуры за автономию высшей школы в 1921-1922 гг.), Д.В.Лобока (о Секции научных работников в 1923-1934 гг.), В.Л.Черняева (об ученом-правоведе Н.С.Таганцеве)2. В ряде сборников и во многих статьях проблема интеллигенции рассматривается в историко-философском плане3. Значительному обновлению подверглась обширная научно-биографическая литература последнего пятнадцатилетия, в том числе издания научно-биографической серии Института истории естествознания и техники РАН4. Авторы биографий ученых обращаются и к тем сторонам их личности и деятельности, которые
1 Волков B.C. Идейно-политические позиции интеллигенции СССР в конце 30-х гг. // Российская интеллигенция: XX век. Тез. докл. и сообщ. научн. конф. Екатеринбург. 1994. С. 32-34; Он же. Русская интеллигенция в гражданской войне: позиция, функция, роль // Интеллигенция России: уроки истории и современность. Тез. докл. межгос. научн.-теор. конф. Иваново. 1994. С. 40-41; Он же. Интеллигенция и советская власть в первое послеоктябрьское десятилетие // Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. Тез. докл. и сообщ. научн. конф. СПб., 1996. С. 6-9; Он же. Адаптация «старого» интеллигента к советской действительности //Личность и власть в истории России XIX-XX вв. Мат-лы научн. конф. СПб., 1997. С. 43-47; Он же. Интеллигенция и сталинизм: основные грани проблемы и этапы ее отечественной историографии //Интеллигенция и ин-теллигентоведение на рубеже XXI в.: Итоги пройденного пути и перспективы. Тез. докл. X международн. научн. конф. 22-24 окт. 1999 г. Иваново. 1999. С. 39-41.
2 Соболев Г.Л. Русская революция 1917 г. и ученые // Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. С. 89-92; Соскин В.Л. Борьба за автономию высшей школы в советской России (1921-1922 гг) // Интеллигенция и проблема формирования гражданского ообщества в России. Тез. докл. Всеросс. конф. 14 - 15 апреля 2000 г. Екатеринбург, 2000. С. 199-201; Лобок Д.В. Секция научных работников в 19231927 гг. // Российская интеллигенция. Страницы истории. С. 26- 43; Черняев В.Ю. Ученый, власть и революция: парабола судьбы Н.С.Таганцева // Интеллигенция и российское общество в начале Ххвека. Сб. статей. СПб., 1996. С. 161-183.
3 Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000; Соколов К.Б. Мифы об интеллигенции и историческая реальность // Там же. С. 149-208 и др.
4 Еремеева А.И. Жизнь и творчество Б.П.Герасимовича (К 100-летию со дня рождения). Историко-астрономические иследования: Минувшее. Современность. Прогнозы. М., 1989. Вып. XXI. С. 253 - 301; Ипатьев. М., 1992; Орлова Н.Б. Максимиллиан Максимиллианович Мусселиус (1884-1938) и Дмитрий Иванович Еропкин (1908-1938) // На рубежах познания Вселенной. М., 1992. С. 144 - 226; Горелик Г.Е., Френкель В.Я. Матвей Петрович Бронштейн. 1906-1938. М., 1990; Кузнецов В.И., Максименко A.M. Владимир Николаевич Ипатьев. 1867-1952. М., 1992; Каганович B.C. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995; Сонин A.C., В-Я.Френкель. Всеволод Константингович Фредерике. 1885- 1944. М., 1995; Брачев B.C. Русский историк С.Ф.Платонов. СПб., 1997; Урвалов В.А. Твой сын, Петербург. Александр Павлович Константинов (1895-1937). СПб., 1997; Аксенов Т.П. Вернадский В.И. М., 2001; Григорян H.A. Иван Петрович Павлов. 1849 - 1936. Ученый. Гражданин. Гуманист. X 150-летаю со дня рождения. М., 1999; Леонова Л.С. «Я не могу уйти в одну науку...» Общественно-политические взгляды В.И.Вернадского. СПб. 2000.
прежде из-за цензурных ограничений либо искажались, либо затрагивались поверхностно. В целом современная историография отечественной интеллигенции 20-30-х гг. отошла от многих упрощенных, идеологизированных схем, стереотипов недавнего прошлого и существенно обогатилась новыми подходами, идеями, концепциями и выводами. Складываются более адекватные представления о ее структуре, облике и общественном поведении, сложном переплетении сотрудничества с властью и различных проявлений оппозиции режиму. В то же время за весь постсоветский период по истории собственно научной интеллигенции, как это ни парадоксально, не вышло ни одного монографического исследования.
Таким образом, за последние пятнадцать лет была проделана определенная работа по переосмыслению истории советской науки в 20-30-е гг., особенно ее социальных аспектов, накоплению материала и предварительных оценок, необходимых для создания новой, современной концепции. В то же время многие вопросы организации и социальной истории советской науки в 20—30-е гг. остаются слабо исследованными или вовсе не затронутыми. В воссоздании непо-литизированной и более объективной истории научного Ленинграда в один из самых сложных и драматических периодов его развития также сделаны только первые шаги, и она представлена пока лишь отдельными разрозненными фрагментами и сюжетами.
Источниковую базу диссертации составляют как опубликованные источники, так и выявленные в отечественных архивах. Использованные в диссертации опубликованные источники по своему происхождению и содержанию представлены несколькими видами. Это, во-первых, документы и материалы высших органов партийно-советской власти и управления по вопросам восстановления и ускоренного развития народного хозяйства, преобразований в сфере культуры, высшей школы и науки - резолюции партийных съездов, конференций, Пленумов ЦК, директивы к составлению пятилетних планов, декреты и постановления Совнаркомов РСФСР и СССР. Они публиковались в официальных периодических изданиях РКП(б) - ВКП(б), советского правительства и последующих переизданиях этих документов, а также в издававшихся в разное время документальных сборниках1. Наряду с идеологическими штампами в документах формулировались долговременные цели и ближайшие задачи, намечались практические мероприятия по развитию науки и высшей школы в рамках общегосударственных преобразований.
Следующую группу источников составили документы и материалы высших партийных, советских, правительственных и научно-административных орга-
1 Справочник партийного работника. Вып. I - VIH. М., 1920-1934; Известия ЦК РКП(б). М., 1920-1929; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. М., 1918-1922; Собрание узаконения и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1922-1937; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2-7. М., 1983-1985; Декреты Советской власти. Т. III. М-, 1964; Т. IX. М., 1978; Т. XI.., 1983.
нов, непосредственно относящиеся к организации науки в стране и раскрывающие основные направления и методы руководства наукой, цели и результаты перестройки научных учреждений, процесс сближения их с социалистической практикой, реорганизацию подготовки научных кадров, содержание политико-идеологической работы с научной интеллигенцией. Постановления по этим вопросам, по результатам проверок и докладов научных учреждений, материалы инструктивно-методического и информационно-справочного характера публиковались в официальных изданиях РКП(б) - ВКП(б), Наркомпроса, ВСНХ, Наркомтяжпрома, сборниках документов, выходивших в 20-30-е гг., и в документальных сборниках по истории организации советской науки, изданных в 60-70-е гг.1 Значительная часть содержавшихся в них материалов касалась научных учреждений Ленинграда. Направления и методы политического руководства высшим научным учреждением страны - Академией наук в 20-30-е гг. раскрываются в новом документальном сборнике решений Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и материалов к ним, большая часть которых опубликована впервые2. Некоторые стороны деятельности партийных и советских органов Петрограда-Ленинграда по руководству реформой вузов и перестройкой научных учреждений, прежде всего, по решению организационных, кадровых, мате-риально-хозяйственых вопросов и политической работе с научной интеллигенцией отражены в изданиях губкома РКП(б), обкома ВКП(б), губисполкома, облисполкома и Ленсовета - бюллетенях, отчетах, материалах и резолюциях партийных конференций3. Партийные директивы, конкретизировавшие их правительственные декреты и постановления местных властей имели важное значение для научных учреждений и вузов, во многом определяли их развитие. Вместе с тем, при их анализе и оценке необходимо было отделять формулировавшиеся конкретные задачи от идеологического антуража (это особенно относится к партийным документам), учитывать практику сопровождения директив конкретизирующими их приказами и инструкциями, а также большее или меньшее расхождение между руководящими установками и фактическими результатами деятельности научных учреждений.
Для характеристики условий, основных направлений и оценки результатов деятельности научных учреждений большую ценность представляли их официальные отчеты, публиковавшиеся отдельными изданиями, а также в трудах, из' Бюллетень Наркомпроса. М., 1920-1930; Еженедельник Наркомпроса. М., 1918-1930; Директивы Наркомпроса по вопросам просвещения. М, ; Л., 1931; Организация советской науки в первые годы Советской власти (1917-1925 гг). Сборник документов. Л., 1968; Организация советской науки в 1926-1932 гг. Сборник документов. Л., 1974 и др..
2 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б). 1922-1952. М., 2000.
3 Сборник материалов Петроградского комитета РКП(б). Вып. 3-6. Пг., 1921-1923; Бюллетень Ленинградского губкома (обкома) РКП(б) - ВКП(б). Пг. - Л., 1925-1934; Ко 2-й Ленинградской областной конференции ВКП(б). Отчет областного комитета ВКП(б). Ноябрь 1927 г. - февраль 1929 г. Л., 1929; Отчет Петроградского губернского отдела народного образования. 1918-1923. Пг., 1923; Отчет о работе Секции просвещения Ленинградского Совета 11 -го созыва. Л., 1929.
вестиях, записках, бюллетенях и вестниках1. В опубликованных отчетах научных учреждений главное внимание уделялось их достижениям, отмечались также и трудности в работе, в основном, финансового и материального характера. Недовольство стилем руководства со стороны научно-административных органов выражалось в весьма сдержанных тонах. Обобщенный материал, причем, нередко с более критическими оценками и выводами, содержится в издававшихся в 20-30-е гг. сводных аналитических обзорах, составленных научно-административными органами на основе отчетов ведущих научных учреждений и вузов страны, включая ленинградские2. Достижения многих научных учреждений Ленинграда в первой и начале второй пятилетки показаны в сборнике «Научный Ленинград к XVII съезду ВКП(б)» (Л., 1934). Многие стороны деятельности Академии наук в 1917-1934 гг. (ленинградский период) отражены в ее юбилейных изданиях и документальных сборниках, изданных в 80-е гг.3
Краткие сведения о научных учреждениях и научных работниках Петрограда-Ленинграда содержатся в изданиях справочного характера, выходивших в 20-30-е гг.4 Разнообразные официальные материалы по вопросам организации науки, деятельности научных учреждений и социально-правового положения научных работников помещены в «Справочнике научного работника» (Л., 1925, 1935). Многие события и факты из истории организации науки и научно-общественной жизни в СССР и в Ленинграде в 20-30-е гг. зафиксированы в документально-хроникальных изданиях по истории советской культуры5.
Материалы по организации профессионально-союзной работы с научной интеллигенцией (научно-производственной, социально-правовой, культурно-просветительной, шефской) представлены в ряде документальных изданий -общесоюзных, республиканских и местных6.
1 Отчет о деятельности Российской академии наук за 1918 год. Пг., 1919. Подобные отчеты регулярно выходили с 1917 по 1937 г.; Отчет о деятельности Главной палаты мер и весов с IX. 1928 г.- 1. Х.1929 г. М, ; Л., 1930; Отчет о деятельности Главной астрономической обсерватории в Пулкове с 1 октября 1928 г. по 30 сентября 1929 г., составленный ее директором. Л., 1930 и др..
2 Деятельность высших учебных заведений в 1925/26 учебном году. Вып. III. Научно-исследовательская работа вузов. М., 1927; Университеты и научные учреждения к XVII съезду ВКП(б). М.,1934; Научно-исследовательские институты промышленности. М.; Л., 1935.
3 Академия наук за десять лет. 1917-1927. Л., 1927; Документы по истории Академии наук СССР. 1917-1925 гг. М., 1986; Документы по истории Академии наук СССР. 1926-1934 гг. Л, 1988.
4 Научные работники Петрограда. Пг., 1923; Научные учреждения Ленинграда. Л., 1926; Научные работники Ленинграда. Л., 1934.
5 Культурная жизнь в СССР. 1917-1927: Хроника. М., 1975; 1928-1940. М„ 1976.
6 Пять лет работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР (Цекубу). 1921-1926. М., 1927; Отчет о работе месткома Академии наук за период январь -ноябрь 1930 г. Л., 1930; Отчет Центрального комитета профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений СССР (декабрь 1934 г. - сентябрь 1937 г.). М., 1937.
Значительную часть опубликованных и использованных источников представляют документы и материалы биографического характера - речи, статьи, официальные обращения, письма, дневники, мемуары работавших в Ленинграде ученых1. На содержании биографических документальных сборников, издававшихся в 60-е - первой половине 80-х гг., отразился избирательный подход составителей и редакторов к подбору публикуемых материалов, оставлявший вне поля зрения те сведения о жизни и деятельности ученых, которые расходились с их официальными, ретушированными биографиями. Начиная с середины 80-х гг. в таких изданиях и публикациях, в том числе журнальных, стали помещаться ранее не публиковавшиеся документы и материалы. В отличие от предшествующих изданий, они полнее раскрывают научно-организаторскую и научно-общественную деятельность ученых, их профессиональную и гражданскую позицию. Для изучения методов и приемов усиливавшегося политического давления власти на старую научную интеллигенцию, оценки общественных настроений научной элиты Ленинграда, ее отношения к реорганизации Академии наук и правящему режиму определенный интерес представляет такой специфический источник, как опубликованные следственные материалы по «делу академиков» 1929-1931 гг.2. Сведения о большой группе сотрудников научных учреждений и вузов Ленинграда, репрессированных в 1937-1938 гг., содержатся в многотомном сборнике «Ленинградский мартиролог»3.
Одним из важных источников для исследования служила периодическая печать и, прежде всего, издававшиеся в 20-30-е гг. журналы - общесоюзные научные, научно-общественные и научно-идеологические («Научный работник», «Социалистическая реконструкция и наука», «Фронт науки и техники», «Вестник Академии наук СССР», «Бюллетень ВАРНИТСО», «Вестник Коммунистической академии», «Под знаменем марксизма», «Естествознание и марксизм»), периодические издания научных учреждений, организаций и обществ Петрограда-Ленинграда («Наука и ее работники», «Записки научного общества марксистов», «Проблемы марксизма»). В них содержится богатый материал официального и текущего характера по различным аспектам социальной истории науки в Ленинграде. В процессе исследования привлекались также центральные, местные, а также многотиражные газеты.
1 Научно-организационная деятельность академика А.Ф.Иоффе. Сборник документов. Л., 1980. Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. Научное наследство Т. 5. 1911 - 1928. М., 1980; Т. 10. 1929 - 1940. М., 1987; Проблемы организации науки в трудах советских ученых. 1917-1930-е годы. Сборник материалов и документов. М., 1991; В.А.Стеклов. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания. Научное наследство Т. 17. Л., 1991; Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М.> 1994; Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб., 1996; Вернадский В.И. Дневники: 1926-1934. М„ 2001 и др.
2 Академическое дело. 1929 - 1931 гг. Сборник. Вып. 1,2. СПб., 1993-1998.
3 Ленинградский мартиролог. 1937-1938. Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1-4. СПб., 1995-1999.
Важнейшую источниковую базу диссертации составляют архивные документы. Часть использованных в диссертации документов и материалов выявлена в трех российских государственных архивах, а основной их массив - в четырех архивах Санкт-Петербурга. Были изучены и использованы документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.), Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук (ПФА РАН). В РГАСПИ, в фонде ЦК РКП(б) - ВКП(б) (ф. 17) выявлены документы, охватывающие 1920-1937 гг. и раскрывающие цели и методы политической работы в сфере науки и высшей школы, в том числе в Петрограде-Ленинграде. Это материалы Отдела агитации и пропаганды о работе всероссийского совещания по вопросам народного образования, всероссийской конференции комячеек вузов; материалы о реформе высшей школы, записка А.В.Луначарского в ЦК о задачах научно-исследовательских институтов; протоколы вузовской комиссии при Орготделе ЦК и подкомиссии по подготовке научно-педагогических кадров; документы об организационно-политической работе в вузах, деятельности коммунистической профессуры и Группы левой профессуры в Петрограде, материалы Петроградского (Ленинградского) губкома РКП(б) и протоколы вузовской комиссии при его агитпропотделе, списки аспирантов ленинградских вузов, доклад об обследовании партработы в вузах Ленинграда; протоколы пленумов и заседаний бюро обкома и горкома ВКП(б) в 1936-1937 гг. Из фонда А.А.Жданова (ф. 77) извлечены и использованы его выступления на совещаниях и заседаниях бюро горкома с осуждением работы Всесоюзного института растениеводства и Педологического института.
В делах Комитета по заведыванию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР ГА РФ за 1929-1935 гг. (ф. 7668) были извлечены документы, характеризующие не только работу этого органа, но и деятельность подведомственных учреждений. Были обнаружены доклад и постановление по обследованию Арктического института (май 1931 г.), отчеты, материалы и постановления о работе Ленинградского отделения Коммунистической академии, постановление Президиума ЦИК по докладу АН СССР (август 1935 г.), переписка по вопросу о передаче Пулковской обсерватории в ведение АН СССР (1930-1931 гг.). В фонде Главнауки Наркомпроса (ф. 2307) изучена переписка с Петроградским отделением Академического центра, протоколы его коллегии, положения и уставы научных учреждений, отчеты некоторых из них, материалы обследования (в частности, Академии наук), положение о координации работы научных учреждений Наркомпроса и НТУ ВСНХ. В РГАЭ, в его фонде НТО ВСНХ (ф. 3429) выявлены постановления его коллегии, касающиеся учреждений Пет-
рограда, переписка с Петроградским отделением НТО, положения о ПОНТО и Объединенном научно-техническом совете Ленинграда, отчеты различных комиссий ОНТС. Эти документы показывают функции и роль научно-управленческих структур в организации и развитии науки в Петрограде-Ленинграде, задачи, ставившиеся перед научно-техническими институтами, результаты их деятельности и оценку руководящими инстанциями.
Впервые проведенный широкий, многоуровневый анализ различных по происхождению и содержанию документов, находящихся в ЦГАИПД СПб., в частности, в фондах губкома, обкома, горкома (и его отдела науки, научно-технических изобретений и открытий), шести райкомов РКП(б)-ВКП(б), а также партийных организаций ряда научно-исследовательских учреждений и вузов, позволил выяснить специфические функции местных партийных структур в осуществлении партийно-государственной политики в сфере науки и по отношению к научной интеллигенции. Для анализа круга полномочий и деятельности местных советских и региональных научно-административных органов по управлению научными учреждениями и вузами, оценки их места в системе централизованно-ведомственного руководства наукой большое значение имели документы, выявленные в фондах ЦГА СПб., - Ленсовета (ф. 1000, 7384), Ленинградского отделения Главнауки Наркомпроса (ф. 2555), Управления уполномоченного Наркомпроса по вузам и рабфакам (ф. 2556), Ленинградского отделения НТО ВСНХ (ф. 1178, 2279), Управления уполномоченного НКТП по Ленинграду (ф. 1957), Управления учебными заведениями НКТП, Ленинградской инспекции ГУУЗ НКТП (ф. 4441). Использованы и документы из фондов вузов этого архива (всего более 10), содержащие сведения о профессорско-преподавательском составе, финансировании и результатах научно-исследовательской работы вузов, ее связи с производством, о работе аспирантуры и результатах различных проверок. Документы, выявленные в фондах губернской, затем областной организации Секции научных работников Всераб-проса (ф. 6307), Союза работников высшей школы и научных учреждений (ф. 9363) и ВАРНИТСО (ф. 7450) раскрывают формы и методы профессионально-общественной, политико-идеологической и методологической работы с научной интеллигенцией.
Для документального анализа условий, направлений и результатов деятельности научных коллективов большую ценность представляли документы, выявленные в находящихся в ЦГАНТД СПб. фондах НИИ - межотраслевых научно-прикладных, научно-технических, сельскохозяйственных, медицинских (всего более 20). Изучение слабо освещенных сторон развития, деятельности и общественной жизни Академии наук, настроений в академической среде потребовало обращение к документам ПФЛ РАН, в частности, находящимся в фондах Конференции (Общего собрания) АН и Канцелярии Конференции (ф. 1, 2), Локального бюро СНР и организации ВАРНИТСО АН (ф. 244, 245), а также в личных фондах президента АН акад. А.П.Карпинского (ф. 265), академиков В.А.Стеклова (ф. 162), Д.С.Рождественского (ф. 341), Н.С.Державина (ф. 827),
чл.-корр. Б.Н.Меншуткина (ф. 327). В архиве были выявлены также документы Научного общества марксистов Петрограда (ф. 238), Ленинградского института марксизма (ф. 233, 2325) и его преемника Ленинградского отделения Комака-демии (ф. 225), Института естествознания ЛОКА (ф. 232), отражающие их роль в утверждении марксизма в общественных и естественных науках и в методологической переквалификации научных работников.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав (с пятью разделами в каждой), заключения, списка источников и литературы. В основу структуры диссертации положен проблемно-хронологический принцип. Три ее главы соответствуют трем своеобразным, и, вместе с тем, взаимосвязанным периодам в истории организации советской науки и научной интеллигенции - 1917-1925 гг., 1926-1932 гг., 1933 - 1937 гг. В пределах глав рассматривается комплекс основных вопросов - структура и методы руководства и управления организацией науки в Петрограде-Ленинграде, реорганизация, развитие научных учреждений, их кадровый состав, переориентация и основные направления их деятельности, создание и функционирование новой системы подготовки научных кадров, эволюция взаимоотношений власти и ученых, содержание и результаты профессионально-общественной, политико-идеологической и методологической работы с научной интеллигенцией.
П. Основное содержание диссертации
В первой главе «Новая власть и наука. 1917-1925 гг.» раскрываются формирование региональной политико-административной системы руководства и управления наукой, начало советизации научных учреждений, восстановление и развитие их материальной базы, поворот деятельности к запросам хозяйственного и культурного строительства, взаимоотношения между новой властью и научной интеллигенцией. В 1917-1925 гг. научный Петроград-Ленинград, представленный многочисленными исследовательскими институтами, лабораториями, вузами, обществами и занимавший приоритетное место в преобразовательных планах большевиков, превращался в важное звено складывавшейся системы организации и управления наукой. С учетом особого статуса научного Петрограда, быстрого расширения сети научных учреждений и их общегосударственного значения, здесь создавались представительства центральных научно-административных органов - Научный отдел Комиссариата по просвещению Союза коммун Северной области, Петроградское управление научными и научно-художественными учреждениями Академцентра Наркомпроса, Петроградская научная комиссия НТО ВСНХ, Петроградское отделение НТО ВСНХ. Параллельно с местными научно-административными органами в 1918-1922 гг. активно действовал Объединенный совет научных учреждений и высших учебных заведений, придерживавшийся не совпадавшей с правительственной линии в вопросах реформы высшей школы и намеченной перестройки научных учре-
ждений, отстаивавший их широкую автономию. С 1921 г. организация науки и, прежде всего, аппарат управления научных учреждений, их кадры, основные направления деятельности и ее идеологические аспекты становятся объектом политического руководства и контроля со стороны местных партийных органов. Практическим решением конкретных вопросов развернувшегося научного и вузовского строительства много занимались Петроградский совет и его секция народного образования, губисполком и его отделы народного и профессионального образования. В конце 1923 г. в ведении Петроградского отделения Главнауки находилось 20 научных учреждений, 4 библиотеки и 45 научных обществ. С июня 1922 г. в Петрограде при Севзаппромбюро стал функционировать Областной научно-технический совет, являвшийся координационным, научно-консультативным и экспертным органом НТО ВСНХ, призванным содействовать разрешению научно-технических вопросов, возникавших в отраслях промышленности. Действовал также институт уполномоченного НТО ВСНХ в Петрограде, осуществлявший оперативное руководство учреждениями НТО (всего более 20). В начале 1926 г. в Ленинграде действовали 191 научное учреждение, 50 вузов, 102 научных общества. Создание новых научных учреждений осуществлялось по инициативе крупных ученых-организаторов и при поддержке власти, однако расширение их сети шло во многом стихийно, без достаточного обоснования, строгого плана и без соответствующего материально-финансового подкрепления. Региональные представительства государственных научно-административных органов в Петрограде-Ленинграде выполняли роль связующих оперативно-бюрократических звеньев между центральными ведомствами и научными учреждениями. Наряду с контрольно-распорядительными и координационно-информационными функциями, они содействовали решению многих текущих и перспективных вопросов деятельности научных учреждений. Сформировавшаяся региональная система политико-административного управления наукой не отличалась рациональностью, гибкостью и эффективностью, но способна была, используя политические, административно-бюрократические и материально-финансовые рычаги, добиваться полного подчинения, советизации, восстановления и развития старых и создания новых научных учреждений, переориентации их деятельности на осуществление преобразовательных планов государства.
Выдвинутая большевиками задача «завоевания» науки предполагала коренную реорганизацию ее учреждений в ближайшей перспективе на принципах, отвечавших их представлениям о месте и роли науки в социалистическом обществе. Начавшаяся в 1918 г. советизация научных учреждений была направлена на подчинение их новой власти, включение в общегосударственную систему управления, ограничение автономии и поворот исследовательской работы к ближайшим и перспективным потребностям хозяйственного и культурного строительства. Одним из инструментов советизации научных учреждений являлись новые уставы, определявшие их статус, задачи, структуру, состав, порядок управления и формы деятельности. Одним из результатов советизации ста-
ло создание системы административно-бюрократического контроля за деятельностью научных учреждений. Советизация высшей школы превратилась в принудительную, вопреки воле большинства профессуры, форсированную и всеохватывающую реформу вузов. Она открыла высшее образование для рабоче-крестьянской молодежи, но одновременно лишила вузы их прежней автономии, резко ограничила права и роль профессуры, поставила вузы под жесткий контроль партийно-советских органов.
На динамику численности научных кадров Петрограда влияли факторы разнонаправленного действия. Первые советские годы, несмотря на большие потери и периодические сокращения штатов, отмечены скачкообразным ростом численности научных работников, увеличившейся с 1918 по 1925 г. более чем в полтора раза, с 2531 до 4 366 человек. В соответствии с новым порядком занятия вакантных должностей на основе всероссийских конкурсов, избранные действительные члены и научные сотрудники, профессора и преподаватели подлежали утверждению ГУСом или Главпрофобром Наркомпроса. В диссертации показаны динамика, структура и особенности кадрового состава многих научных учреждений и вузов Петрограда. Одной из форм бюрократического управления наукой и политического контроля за научными и научно-педагогическими работниками являлся их количественный и качественный учет, представление персональных и сводных анкет, заполнение личных листков, включавших многочисленные сведения, в том числе о социальном происхождении и отношении к политическим партиям до и после октября 1917 г.. В вузах одним из главных критериев оценки кандидатов на занятие должности профессора и преподавателя становилась политическая лояльность и отношение к реформе высшей школы. В кампаниях по выборам здесь большую роль играли вузовские (преимущественно студенческие) партячейки, по инициативе и при участии которых стали проводиться проверки, аттестации и чистки профессорско-преподавательского состава. В 1924/25 учебном году в 16 гражданских вузах Ленинграда было занято 137 преподавателей-коммунистов (главным образом, обществоведов) или 5,7% профессорско-преподавательского состава. Постепенной советизации стали подвергаться основанные до революции и новые научные общества, которых в Ленинграде в начале 1926 г. насчитывалось более 100. Она осуществлялась путем их регистрации и перерегистрации, пересмотра уставов на основе типового устава, дифференцированного финансирования, закрытия идеологически неугодных обществ.
Сложнейшей проблемой для новой власти стало сохранение кадрового состава, восстановление и развитие материальной базы науки, основательно подорванных революцией и гражданской войной. На преодоление катастрофического материально-бытового положения, в котором оказались ученые, были направлены тарифная политика, система дифференцированного распределения академических пайков, введенная декретом СПК от 19 декабря 1919 г., деятельность Центральной и Петроградской комиссий по улучшению быта ученых, губернской организации Секции научных работников Всерабпроса. Не-
смотря на номинальное повышение зарплаты, ставшей в годы нэпа основным источником доходов научных работников, она составляла (в конце 1924 г.) только пятую часть от довоенной и далеко не обеспечивала даже прожиточного минимума. Несколько улучшившееся к концу 1925 г. материальное положение научных работников по-прежнему достигалось за счет массового совместительства и многократного превышения нормальной научно-учебной нагрузки.
До нэпа централизованно распределявшиеся средства государственного бюджета были единственным источником финансирования научных учреждений и вузов. Оно осуществлялось финансовыми и хозяйственными отделами главков наркоматов, ведомств и их представительств в Петрограде. На местах финансово-хозяйственной деятельностью ведали выборные хозяйственные комитеты, подотчетные советам и правлениям научных учреждений. В результате острейшего хозяйственного кризиса, резкого сокращения государственных ассигнований на науку и высшую школу и запрета на финансово-хозяйственную самостоятельность научные учреждения и вузы Петрограда в 1918-1920 гг. быстро приходили в упадок. В более благоприятных хозяйственных условиях нэпа, в результате совместных усилий центральных и местных органов власти, самих научных работников удалось предотвратить распад инфраструктуры науки, начать постепенное восстановление и укрепление ее материальной базы, но одновременно усиливалась финансовая зависимость научных учреждений и вузов. Научные учреждения, подведомственные НТО ВСНХ, уже в начале нэпа получили право, наряду с централизованными ассигнованиями, получать дополнительные доходы за выполнение хозяйственных договоров с трестами. Несмотря на некоторое преимущество в финансировании Академии наук (добившейся особой правительственной сметы) по сравнению с другими научными учреждениями, оно не соответствовало потребностям, масштабам и государственному значению ее деятельности. Финансирование большинства других учреждений Главнауки вначале осуществлялось через ее Петроградское отделение, распределявшее кредиты и контролировавшее их использование. С 1924 г. кредиты научным учреждениям стали переводиться непосредственно из Глав-науки. Помимо планового, сметного кредитования, использовалось и целевое финансирование. Декреты СНК 1923 г. дали право научным учреждениями и вузам Наркомпроса также иметь дополнительные доходы - специальные средства за счет научно-производственной деятельности, сдачи в аренду помещений, оборудования и т. д. Главнаука, ЛОГ и их специализированные органы распределяли кредиты и контролировали их использование, оказывали практическую помощь в восстановлении и развитии хозяйственной базы научных учреждений, снабжении их необходимыми материалами, приборами, в приобретении книг и оборудования за рубежом. Первым этапом «завоевания» науки и высшей школы стало обновление, «коммунизирование» административно-хозяйственного аппарата путем продвижения в него хозяйственников-коммунистов. Восстановление и развитие материальной базы науки сдерживали не только ограниченные ресурсы государства, но и централизованная систе-
ма их распределения, жесткая регламентация хозяйственно-финансовой деятельности научных учреждений.
Составной частью реорганизации научных учреждений на новых началах являлась постепенная переориентация их деятельности на решение провозглашенных советским государством задач восстановления и развития народного хозяйства, культурной революции. В ответ на предложение Наркомпроса в феврале 1918 г. Общее собрание Академии наук заявило о готовности приступить к научной разработке задач, выдвигаемых государственным строительством, расширить прикладные исследования, активизировать работу Комиссии по изучению естественных производительных сил. Несмотря на настойчивое стремление правительства переорентировать деятельность Академии преимущественно на научное обеспечение своих хозяйственно-преобразовательных планов и соответствующий пересмотр тематики работ, она оставалась центром прежде всего широких фундаментальных исследований в области естественных и точных наук, актуальных в научном плане, а в перспективе приложимых и к практике.
Усиливалось прикладное направление в деятельности основанных до революции отраслевых научных учреждений НТО ВСНХ (в частности, Геолкома), Главнауки Наркомпроса (например, Главной российской астрономической обсерватории), созданных в послереволюционные годы и подчинявшихся НТО ВСНХ (Российского института прикладной химии, Северной научно-промысловой экспедиции), новых научно-исследовательских межотраслевых институтов Главнауки (Физико-технического, Оптического). Не подвергая сомнению необходимость сближения науки с практикой и активно содействуя ему, ученые в то же время предупреждали вышестоящие органы об опасности чрезмерной концентрации на решении узкоприкладных задач, подчеркивали базовое, стратегическое значение фундаментальной науки. Разработку многих важных технических проблем промышленности вели научно-технические лаборатории НТО ВСНХ в Петрограде - Горнометаллургическая, Центральная физико-техническая, Центральная экспериментальная электротехническая. Значительная роль в расширении и координации работы научно-технических учреждений по оказанию содействия промышленным предприятиям Петрограда и Северо-Западной области принадлежала местным органам НТО ВСНХ - уполномоченному НТО, Петроградскому отделению НТО, его Научной комиссии, Областному научно-техническому совету, деятельность которых рассматривается в диссертации. В научно-исследовательских институтах, принадлежавших отраслевым наркоматам, например, Государственном институте опытной агрономии Наркомзема, также возрастал удельный вес исследований и работ прикладного назначения. В работе старых и новых научно-медицинских учреждений, в частности, Института экспериментальной медицины, Рентгенологического и радиологического института теоретические исследования тесно переплетались с лечебно-профилактической и клинической практикой, теперь становившейся приоритетной. Интенсивную научно-исследовательскую деятель-
ность, имевшую и прикладное значение, вели созданные после революции институты Главнауки естественнонаучного профиля - Петергофский естественнонаучный институт, Научный институт им. П.Ф.Лесгафта, Географо-экономический научно-исследовательский институт. Постепенно возрождалась и расширялась научно-исследовательская работа в Университете, технических, сельскохозяйственных и медицинских вузах. Ее основной организационной формой оставались кафедры и лаборатории. Многочисленные проекты создания сети НИИ при вузах, выдвигавшиеся учеными и частично уже начавшие воплощаться, из-за отсутствия средств не получили официальной поддержки.
Исследования, проводившиеся в многочисленных социально-гуманитарных научных учреждениях и вузах Петрограда (гуманитарных отделениях Академии наук, на факультете общественных наук Петроградского университета, в находившемся при нем ПИИ сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока, Академии истории материальной культуры, на экономическом факультете Политехнического института и др.) в основном отражали ранее сложившиеся тематические интересы и методологические предпочтения, различное, но чаще негативное отношение ученых к происшедшим в стране переменам. На развитие социально-гуманитарных наук стал оказывать влияние политико-идеологический заказ, но пока он проявлялся главным образом в деятельности небольшой группы ученых марксистской ориентации. Общей бедой большинства научных учреждений были мизерные ассигнования на издательскую деятельность, отсутствие своих издательств (за исключением Академии наук), постоянные задержки выпусков периодических трудов, накопление огромного рукописного материала. После пятилетней фактической изоляции русских ученых, разрыва международных связей научные учреждения Петрограда испытывали острую потребность в их восстановлении и через различные инстанции добивались возобновления зарубежных поездок. Власть, признав заграничные научные командировки необходимыми для возрождения русской науки и повышения международного престижа советской России, разрешив в принципе, в то же время жестко ограничивала и регламентировала их, ссылаясь на нехватку валютных средств, в действительности же боясь массового исхода и невозвращения ученых.
Взаимоотношения власти с научной интеллигенцией Петрограда имели особое значение для реализации всей научной политики и, вместе с тем, свою специфику, обусловленную ее составом, прежним жизненным укладом, приверженностью преобладающей части либеральным ценностям. Подавляющее большинство работников науки одобрительно и с надеждой встретило Февральскую революцию и резко осудило захват большевиками власти в октябре 1917 г. Партийно-государственная политика по отношению к научной интеллигенции была направлена на привлечение и использование ее для осуществления преобразовательных планов, она предусматривала дифференцированную тактику по отношению к различным группам научных работников, решительное пресечение открытых антисоветских выступлений, нейтрализацию оппозици-
онных настроений, разнообразное общественно-идеологическое воздействие в целях включения в социалистическое строительство и постепенное «перевоспитание». Реально оценивая соотношение противоборствующих сторон в гражданской войне и осознавая зависимость науки от государственной поддержки, научные работники после некоторых колебаний вынуждены были, за небольшим исключением, встать на путь делового сотрудничества с новой властью, сохраняя политический нейтралитет. Политическая работа с научной интеллигенцией Петрограда определялась установками ЦК РКП(б), направлялась губ-комом РКП(б), агитпропотделом и его вузовской комиссией и осуществлялась через немногочисленную коммунистическую профессуру, Группы красной (1922 г.) и левой (1922-1923 гг.) профессуры, вузовские ячейки РКП(б). Массовые аресты деятелей науки, проводившиеся в 1918-1921 гг., роспуск Объединенного совета научных учреждений и высших учебных заведений, высылка большой группы видных представителей российской гуманитарной интеллигенции в 1922 г., последующие чистки профессорско-преподавательского состава наглядно демонстрировали условия и рамки предложенного властью компромисса и сотрудничества. Проводником партийно-государственной линии в научной среде и институтом «перевоспитания» призвана была служить созданная в мае - ноябре 1923 г. губернская организация Секции научных работников, (включенная в общую систему огосударствленного, подконтрольного профсоюза работников просвещения и социалистической культуры), развернувшая широкую социально-правовую, научно-общественную и культурно-просветительную деятельность внутри Секции и вне ее, в общегородском масштабе и на низовом уровне. Главным политическим результатом сосуществования и расширявшегося взаимодействия научной интеллигенции с новой властью к середине 20-х гг. являлось прекращение открытых антисоветских проявлений в ее среде, появление достаточно широкого слоя ученых, сделавших сознательный выбор в пользу советского строя и активного сотрудничества с властью, признание ее прочности и бесперспективности конфронтации со стороны основной группы, сохранявшей политический нейтралитет. В условиях нэпа значительная ее часть не оставляла надежды на дальнейшую либерализацию советского режима.
Начавшееся идеологическое наступление на науку и высшую школу, борьба с «буржуазно-идеалистическими» теориями и концепциями, внедрение марксистской методологии в общественные и естественные науки осуществлялись через немногочисленную коммунистическую и близкую к ней профессуру, Научное общество марксистов, Институт марксизма при Комуниверситете, а также путем закрытия оппозиционных научных обществ и изданий, высылки за границу наиболее непримиримых к советской власти ученых, идеологического контроля за издательствами и печатной продукцией. Однако подавляющее большинство научных работников не воспринимало коммунистическую идеологию, теорию и методологию марксизма, и это в годы нэпа власть еще не ставила им в вину.
В главе второй «Власть и наука на крутом повороте. 1926—1932 гг.» рассматриваются перестройка в структуре и функционировании политико-административного управления наукой в условиях форсированных преобразований в экономике и возрождавшихся командно-бюрократических методов руководства, реорганизация и развитие научных учреждений, переориентация их деятельности на прямое обслуживание потребностей народного хозяйства, формы социально-селективного отбора и подготовки научных кадров, усиление политического давления на научную интеллигенцию, методы и результаты «перевоспитания» научной интеллигенции. О политизации руководства наукой в этот период свидетельствовали ряд партийных документов, значительно возросшее внимание ЦК ВКП(б) к вопросам развития науки, многочисленные решения его Политбюро, касавшиеся реорганизации Академии наук СССР, создание в январе 1930 г. сектора науки при Культпропотделе ЦК. Централизация управления наукой проявилась в реорганизации ранее существовавших и создании новых высших органов по руководству наукой, в переподчинении научно-технических институтов и втузов. С 1928 по 1932 г. количество научно-исследовательских учреждений выросло в Ленинграде с 86 до 190, что составляло около пятой части их числа в СССР. На 1 декабря 1931 г. здесь действовало 23 института и 12 филиалов системы ВСНХ, т. е. пятая часть их числа в РСФСР. В 1926 г. была прекращена деятельность ЛОГа и все его функции перешли к Управлению уполномоченного Наркомпроса, в ведении которого теперь находились не только вузы и рабфаки, но и научные, научно-художественные и музейные учреждения. Органом, координировавшим работу НИИ и вузов по обслуживанию промышленных предприятий, оставался ЛОНТС (до его ликвидации в январе 1930 г.). На деятельности научных учреждений и вузов отрицательно сказывались частые и не всегда обоснованные реорганизации, переподчинения, узковедомственные интересы объединений и главков.
Возросшее внимание к реорганизации научных учреждений и вузов уделяли Леноблисполком, его отдел народного образования, Секция народного просвещения Ленсовета и комиссия по вузам и научным учреждениям, в 1932 г. преобразованная в самостоятельную секцию. В 1926-1932 гг. заметно активизировалась организационно-политическая работа губкома (с 1928 г. обкома) и райкомов ВКП(б) в сфере науки и высшей школы. Это нашло свое выражение в создании постоянно действующей комиссии по вузам, возросшей регулярности обсуждения соответствующих вопросов на партконференциях, заседаниях бюро, совещаниях, принятии специальных постановлений, в создании коллективов ВКП(б) во всех научных учреждениях, учащении обследований и проверок, интенсивном обмене с ЦК ВКП(б) инструктивными и информационными материалами по кадровой политике и работе в сфере науки и высшей школы. В 1929-1931 гг. обком ВКП(б) и его секретариат вместе с ЦК ВКП(б) и правительственной комиссией направляли работу по пересмотру Устава Академии наук, чистку ее аппарата, выдвижение и избрание новых членов, реорганиза-
цию Академии на основе нового Устава, организацию выездных сессий. Эффективность перестроенной политико-адмшшстративной системы управления наукой снижалась вследствие ее сверхцентрализации, ведомственной разобщенности, недостаточной компетенции руководящих органов, постоянных реорганизаций.
Радикальная реорганизация научных учреждений проводилась на рубеже 20-30-х гг. по указанию партийных, государственных и научно-административных органов, при отстраненности, пассивности и, реже, сопротивлении научных работников. Она осуществлялась с целью включения научных учреждений в систему централизованно-бюрократического управления наукой, дальнейшего ограничения их прав, перестройки внутреннего уклада, «коммунизирования» руководящего состава и персонала, утверждения единоначалия, расширения представительства заинтересованных учреждений и общественных организаций. Особое значение придавалось реорганизации Академии наук СССР. Устав 1930 г., инициированный фракцией академиков-коммунистов и навязанный под давлением сверху, положил начало ее коренной реорганизации на принципах, продиктованных властью. Происходивший в 1926-1932 гг. пересмотр уставов научно-исследовательских учреждений, подчинявшихся Наркомпросу, ВСНХ и другим ведомствам, как и в Академии, шел поэтапно, но с общей тенденцией к замене выборности руководителей их назначением, коллегиальности - единоначалием, к ограничению самостоятельности.
Быстро развивались в структурном и материально-производственном отношении Академия наук, научно-исследовательские институты, обслуживавшие отрасли народного хозяйства. В крупные научно-прикладные учреждения превращались институты, созданные в первые годы советской власти, - ГОИ, Ме-ханобр, ГИПХ, а также Геолком, переживший в 1929 -1930 гг. неоправданную реорганизацию, но вновь восстановленный в качестве Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института. Довольно быстро шло становление новых научно-исследовательских институтов промышленности и институтов Всесоюзной сельскохозяйственной академии, созданных в конце 20 -начале 30-х гг.. В 1931-1932 гг. по решению правительства происходила реорганизация Института экспериментальной медицины (переименованного во всесоюзный), создание на его базе крупного центра по комплексному изучению человеческого организма. В конце 1929 г. на базе Института марксизма создавалось Ленинградское отделение Коммунистической академии. В 1929-1933 гг. в Университете работало уже несколько НИИ, они были созданы также в ряде втузов. Их статус определялся особым положением ГУСа Ыаркомпроса. В конце 20 - начале 30-х гг. по указанию НКВД принудительной реорганизации (а в некоторых случаях и закрытию) подверглись научные общества Ленинграда с целью обновления их руководства, расширения состава, актуализации исследовательской и просветительской работы.
Ускоренное развитие сети научных учреждений и расширение объемов их работы обусловили рост госбюджетного финансирования. Относительно круп-
ные ассигнования предназначались Академии наук. Размеры ассигнований научным учреждениям Главнауки Наркомпроса значительно уступали уровню централизованного финансирования отраслевой науки. Мизерными оставались ассигнования вузовской науке, включая НИИ при некоторых вузах. Институты ВСНХ-НКТП в этом отношении находились в более благоприятном положении, но оно во многом обеспечивалось за счет значительного увеличения хоздоговорных средств, составлявших от половины (в ГОИ) до двух третей (в ГИПХ, ЦИМ) их бюджета.
В результате объединенных усилий ЦК ВКП(б), наркоматов, обкома ВКП(б) и местных научно-административных органов руководящий состав научных учреждений и вузов подвергся в конце 20 - начале 30-х гг. значительному обновлению и «коммунизированию», что привело к снижению уровня его квалификации и профессиональной компетентности. С 1928 по 1932 г. численность персонала научно-исследовательских учреждений Ленинграда выросла с 7,6 до 31 тыс., научных работников с 4,1 до 11,4 тыс., профессорско-преподавательский состав вузов с 1926 по 1932 г. увеличился с 3,2 до 10,2 тыс.. На очищение от социально чуждых, обновление и «коммунизирование» персонала была направлена проверка научных учреждений, проводившаяся в 1929-1930 гг. по указанию ЦК ВКП(б) и под контролем НК РКИ и губернской комиссии, возглавлявшейся Б.ГШозерном. Наибольший размах чистка приобрела в Академии наук (где ее проводила правительственная комиссия), Всесоюзном институте растениеводства и Геолкоме, как считалось, наиболее «засоренных» социально чуждыми элементами. В 1930 г. партийная группа среди научных работников составляла примерно 8%, что было ниже соответствующего общесоюзного показателя. Во всех научно-исследовательских институтах были созданы партийные организации, постепенно расширялась сфера их влияния и контроля.
В соответствии с партийными директивами, правительственными постановлениями и ведомственными приказами объемы и интенсивность работы научно-исследовательских учреждений должны были отвечать напряженным планам первой пятилетки, потребностям форсированной технической реконструкции. Важная роль в реализации программы ускоренного развития науки, изучения и освоения природных ресурсов и технической реконструкции народного хозяйства отводилась Академии наук. Под сильным нажимом фракции академиков-коммунистов осуществлялась перестройка научно-исследовательской работы на основе годовых и пятилетних планов учреждений и Академии в целом. Расширение работ теоретико-прикладного и прикладного характера приводило к сокращению фундаментальных исследований. Многие ученые предупреждали о возможных негативных последствиях такого перекоса для развития науки и выполнения ею прикладной функции в будущем.
Решающая роль в научном обеспечении технической реконструкции принадлежала научным институтам и учреждениям промышленности, таким как ГИПХ, Механобр, Геолком - ЦНИГРИ, ГОИ и ФТИ (после их перевода в систему ВСНХ), а также новым институтам промышленности - Всесоюзному ин-
ституту алюминиево-магниевой промышленности, НИИ водного транспорта и др. Перестройка их работы в соответствии с директивами правительства и указаниями НГУ ВСНХ - НКТП осуществлялась путем введения директивного текущего и перспективного планирования, создания новых функциональных структур (по планированию, внедрению, техпропаганде, контролю) и филиалов, значительного расширения научно-прикладных работ, прямого научно-технического обслуживания предприятий, учреждений и организаций, контроля за внедрением законченных работ, ужесточения трудовой дисциплины, возрастания роли общественных организаций в производственной жизни коллективов. Внедрявшийся в НИИ промышленности с начала 30-х гг. по указанию ВСНХ и НКТП хозрасчет означал перевод их на систему договоров с промышленными объединениями и предприятиями, а также повышение ответственности институтов и исполнителей за своевременную, качественную разработку тем и внедрение. Важная роль в организации научного обслуживания местных промышленных предприятий принадлежала ЛОНТС при областном совнархозе. После прекращения деятельности в 1930 г. его функции перешли к научно-техническому совету ЛОСНХ. Выполнение наиболее важных союзных и региональных научно-производственных программ находилось под контролем обкома ВКП(б) и лично С.М.Кирова.
Несмотря на значительные перемены, происходившие в работе Государственного института опытной агрономии, а затем Всесоюзного института растениеводства с учетом потребностей опытного и колхозно-совхозного растениеводства, критика и предвзятые обвинения в адрес института и его директора Н.И.Вавилова, особенно со стороны партийных органов и прессы, не только не смягчались, но нарастали, напряженными были отношения между партийной организацией и руководством института. Партийно-правительственная установка на превращение Всесоюзного института экспериментальной медицины в передовое учреждение советской медицинской науки, подкрепленная солидными материально-финансовыми ресурсами, способствовала развертыванию и интенсификации исследований, расширению клинической практики, связей с органами практического здравоохранения.
При сохранении ограниченного финансирования и неблагоприятных материально-производственных условий, расширялся фронт исследований, усиливалась прикладная направленность вузовской науки, чему способствовала широкая практика заключения договоров вузов с промышленными предприятиями и хозяйственными организациями. Вошедшее в практику научных учреждений директивное планирование научно-исследовательской работы способствовало более рациональному использовании и концентрации сил и ресурсов на разрешении актуальных проблем хозяйственного строительства, но вместе с тем оно превращалось в еще одно средство бюрократической регламентации и контроля. Смещение приоритетов в пользу решения прикладных задач вело к сужению функций научных учреждений, сокращению фундаментальных исследований, снижению обоснованную
ВИБЛИОТЕКА С. Петербург 03 103 кг
тревогу ученых за будущее отечественной науки. На развитие социально-гуманитарных наук все большее влияние оказывали официальная идеология, марксистская методология и цензура.
Важнейшим направлением советизации науки и высшей школы являлось создание новой системы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Она включала унификацию и регламентацию всех этапов подготовки, применение социально-селективного принципа отбора кандидатов и сопровождалась расширением масштабов, изменением содержания подготовки кадров для науки и высшей школы. Законодательные акты устанавливали порядок отбора и утверждения выпускников вузов в качестве научных сотрудников второго разряда, формы и условия их подготовки к научно-учебной деятельности. Организационно-методические вопросы подготовки научных кадров находились в ведении Главпрофобра и ГУСа Наркомпроса и под контролем ЦК РКП(б), непосредственное руководство возлагалось на Петропрофобр и Петроградское отделение Главнауки, с 1923 г. к нему подключается агитпропотдел губкома РКП(б) и его вузовская комиссия. С 1925 г. стали действовать губернская и вузовские отборочные комиссии. На начало 1926/27 учебного года в 10 ленинградских вузах обучалось 165 аспирантов, из них членов ВКП(б) 17, членов ВЛКСМ 4. Среди 122 аспирантов 15 учреждений Главнауки коммунисты составлялми только 2,3% (в Ленинграде этот показатель был более низким, чем в целом по РСФСР). Продвижению рабочей и партийной молодежи в науку должен был способствовать созданный в 1926 г. институт студентов-выдвиженцев, призванный готовить их к поступлению в аспирантуру. Среди 623 выдвиженцев, утвержденных на 1 ноября 1927 г. в вузах Ленинграда, преобладала рабоче-крестьянская и партийно-комсомольская группа. В 1926 г. НТУ ВСНХ учредил институт практикантов-стажеров из числа старшекурсников и выпускников вузов. После июльского Пленума ЦК ВКП(б) 1928 г. и выхода постановления ЦК «О научных кадрах ВКП(б)» обком ВКП(б) и местные органы Наркомпроса усилили внимание к формированию и подготовке научных кадров. В результате социально-селективного отбора рабоче-крестьянская и партийно-комсомольская молодежь в начале 30-х гг. стала преобладать в составе всех типов аспирантуры. В институтах НТУ ВСНХ использовались и такие формы продвижения рабочих в науку, как мобилизация рабочих-новаторов и рабочая аспирантура, которые, однако, из-за низкой эффективности уже вскоре пришлось свернуть. Показателем невысокой в целом результативности создававшейся системы подготовки научных кадров являлся значительный отсев из вузовской и отраслевой аспирантуры, немалую долю в котором составляли аспиранты из рабочих и коммунисты.
Особая роль отводилась аспирантуре институтов ВАСХНИЛ, призванной не только готовить научных работников советской формации, но и служить опорной базой в деле реорганизации ее учреждений. Работу аспирантуры в Академии наук СССР вначале направляла Комиссия по аспирантам, а с мая 1930 г. Комитет по подготовке кадров при Президиуме АН под председательством не-
прсменного секретаря В.П.Волгина. Для обеспечения необходимого социально-партийного состава, помимо партийных разверсток и мобилизаций, использовалось двухгодичное подготовительное отделение. В наборе 1932 г. аспиранты - члены ВКП(б) (включая подготовительное отделение) составляли уже 78%, а рабочие подавляющее большинство. В конце 1931/32 учебного года численность аспирантов АН превысила 340 человек. В 20 - начале 30-х гг. Ленинграду принадлежала исключительно важная роль в деле подготовки новых научных и научно-педагогических кадров. На начало 1932 г. здесь обучалось 4219 аспирантов (из них в вузах 2323, НИИ - 1896), что составляло 28% их общей численности в СССР. Относительно высокий в целом, несмотря на многие трудности, уровень подготовки обеспечивался благодаря более развитой научно-производственной базе, квалификации ученых дореволюционной школы. Вместе с тем, велики были издержки самой общегосударственной системы подготовки, построенной на социально-политической селекции, «поточности», унификации, принижении роли профессуры. Эффективность и качество подготовки снижались также вследствие нехватки научно-лабораторного оборудования, отвлечения учебного времени на идеологические дисциплины, бытовой неустроенности большинства аспирантов.
Добившись за годы нэпа расширения советски настроенной группы ученых, сближения и сотрудничества с основной, политически нейтральной частью научной интеллигенции, власть выдвинула задачу ускорения ее социалистического перевоспитания, методологического «перевооружения» и подчинения новому курсу. Политическая работа с научной интеллигенцией в соответствии с директивами ЦК ВКП(б) приобретает наступательный и бескомпромиссный характер. В феврале 1927 г. губком ВКП(б) наметил программу работы с научной интеллигенцией. Важная роль в планах усиления политико-идеологического влияния на научную интеллигенцию отводилась губернской Секции научных работников, превращавшейся во все более массовую, структурированную и политизированную организацию. Главным направлением ее научно-производственной деятельности становится организация социалистического соревнования в научных учреждениях и вузах, которая представляла собой долговременную кампанию с принудительным втягиванием научных работников, считавших его искусственным и неприемлемым для науки, но вынужденных принять навязанные правила. Линия на противопоставление отдельных групп научной интеллигенции («своих» и «чужих») отчетливо проявилась в создании и деятельности Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству. Учрежденное в мае 1928 г. Ленинградское отделение ВЛРНИТСО за полтора года смогло вовлечь в свои ряды только 143 человека и создать 7 первичных ячеек. В подавляющем большинстве научные работники не разделяли цели и методы работы ВЛРНИТСО, ее радикализм и претензии на авангардную роль. С 1928 г. областные организации ВКП(б), СНР, ВЛРНИТСО и их коллективы на местах втягиваются в инспирированную сверху кампанию борьбы с «вредительством», наступления на ста-
рую научную интеллигенцию. Она сопровождалась искусственной фабрикацией обвинений во вредительстве и антисоветской деятельности многих ученых, проверками личного состава научных учреждений и вузов, увольнениями социально чуждых, массовыми арестами, политизацией выборов на вакантные должности. Крупной акцией по устрашению наиболее оппозиционно настроенной части научной интеллигенции стало «дело академиков», инициированное ОПТУ с санкции Политбюро ЦК ВКП(б) в октябре - ноябре 1929 г. Типичные формы и приемы политической работы в научном учреждении вместе с некоторыми особенностями проявились в деятельности общественных организаций Академии наук - ВКП(б), СНР, ВАРНИТСО, освещаемой в диссертации. За пятнадцатилетие радикальных перемен в стране и в организации науки, непростых, нередко драматических отношений с властью произошли значительные изменения в составе, общественном сознании и позиции научной интеллигенции. Приобретя некоторые общие черты, обусловленные новой социально-политической реальностью, она оставалась весьма неоднородной в социально-профессиональном, научно-мировоззренческом и общественном плане. По отношению к власти и ее политике, степени лояльности и оппозиционности выделялось несколько групп. Внешняя политическая лояльность научной интеллигенции была не результатом ее социалистического перевоспитания, согласия или компромисса с режимом, а способом самосохранения и продолжения своей профессиональной деятельности. Одновременно в научной среде возрождалась интеллектуально-духовная оппозиция авторитарному режиму, его общегосударственной и научной политике, проявлявшаяся в открытой и в завуалированной форме. Для подавления оппозиционных настроений власть применяла разнообразные средства, включая возобновление массовых репрессий.
В главе третьей «Власть и наука в тоталитарной системе. 1933 —1937 гг.» показаны изменения в системе политико-административного руководства наукой, во внутренней структуре и управлении научных учреждений в этот период, материально-финансовом положении и кадровом составе, деятельность научных учреждений в режиме прямого обслуживания народнохозяйственной и социально-культурной практики, формы и методы методологической переквалификации научных работников и политической «профилактики» накануне и в ходе массовых репрессий 1935-1937 гг.
Тенденция к дальнейшей централизации и политизации руководства наукой выразилась в создании новых специализированных союзных органов, подчинении Академии наук непосредственно СНК СССР и переводе в Москву, в образовании в мае 1935 г. в аппарате ЦК ВКП(б) отдела науки, научно-технических изобретений и открытий, расширении влияния партийных организаций НИИ и вузов. Несмотря на сокращение количества НИИ и вузов (в 1936 г. их насчитывалось соответственно 151 и 48), Ленинград сохранял значение крупнейшего научного центра страны. Для оперативного управления и координации деятельности НИИ системы Наркомтяжпрома в 1932 г. при Управлении уполномоченного НКТП по Ленинграду и области был образован аппарат Уполномоченного
ЛенНИСа НКТП, функционировавший до 1935 г. В феврале 1935 г. в составе Ленсовета была образована самостоятельная Секция вузов и научно-исследовательских институтов. Созданный в сентябре 1935 г. в структуре горкома ВКП(б) (по аналогии с ЦК) отдел науки, научно-технических изобретений и открытий развернул интенсивную политическую, номенклатурно-кадровую и информационно-аналитическую работу. Продолжалось изменение ведомственной принадлежности, состава и структуры НИИ, их реорганизация, создание новых учреждений, объединение, территориальное перемещение. Перевод АН СССР и ВИЭМа в Москву, произведенный вопреки мнению многих ученых, дестабилизировал на значительное время научные коллективы, привел к потере для институтов многих ценных сотрудников.
В соответствии с типовым положением в уставах НИИ НКТП и других наркоматов закреплялось единоначалие как основополагающий принцип их внутреннего управления. Несмотря на рост централизованных расходов на науку, проблема финансирования и материально-технического снабжения НИИ оставалась (вследствие постоянного увеличения плановых заданий) одной из острейших, преобладающую часть бюджетов НИИ НКТП составляли теперь не централизованные ассигнования, а специальные средства. Чрезвычайная напряженность сохранялась в капитальном строительстве, обеспечении материалами и оборудованием. Хронически тяжелым оставалось положение с финансированием, оснащением и материально-техническим обеспечением вузовской науки, фактически находившейся на самофинансировании. Руководящий состав НИИ, особенно в период массовых репрессий 1935-1937 гг., отличался большой нестабильностью, существенно возросла доля в нем коммунистов, но понизился уровень квалификации. Из 29 директоров ленинградских НИИ, филиалов и лабораторий НКТП (на май 1933 г.) 25 являлись членами ВКП(б), но только половина директоров имела высшее техническое образование. Возрос процент коммунистов в среднем звене управления. Численность персонала НИИ Ленинграда сократилась с 31 тыс. в 1932 г. до 25,8 тыс. в 1936 г. По данным обследования 63 НИИ различного типа, проведенного в первой половине 1936 г., среди научных сотрудников (3 963) выходцы из рабочих составляли 10,6%, крестьян 23,5%, служащих 37,4%, прочих 28,5% (несмотря на чистки прошлых лет и новые массовые увольнения в связи арестами), члены ВКП(б) 12,5%. Социальный состав научных и научно-педагогических работников продолжал вызывать неудовлетворенность партийных и репрессивных органов. Оплата труда и социально-бытовые условия основной массы научных работников Ленинграда (как и страны) за годы второй пятилетки улучшились незначительно и оставались крайне неудовлетворительными, на что указывалось в официальных записках и справках, направлявшихся в комиссию ЦК ВКП(б) по высшей школе, возглавлявшейся ААЖдановым. Чередование сокращений и увеличений штатов, их большая текучесть, распространенность совместительства вследствие низкой оплаты труда в сочетании с постоянными реорганизациями и возобновившимся репрессиями затрудняли формирование стабильных
научных коллективов и отрицательно сказывались на результатах их деятельности.
В годы второй пятилетки перед научными учреждениями Ленинграда, многие из которых являлись головными в своих отраслях, была поставлена задача расширения, интенсификации и повышения качества научно-исследовательской работы, усиления ее практической направленности, прямого воздействия на работу промышленных предприятий, увеличения вклада в реализацию общесоюзных и региональных народнохозяйственных и научно-производственных программ. Продолжался рост численного состава партийных организаций научно-исследовательских институтов, укреплялось их представительство в органах управления, возрастало политическое влияние. Постановление Президиума ЦИК СССР по докладам трех академий (АН СССР, Всеукраинской и Белорусской академий; июнь 1933 г.) определило программу деятельности Академии наук СССР. Утвержденный Общим собранием перспективный план научных работ вместе с постановлением Президиума ЦИК был основным документом АИ на пятилетку. Важное место в нем занимали работы по освоению природных ресурсов страны, развитию энергетики, рациональному размещению промышленных объектов, химизации народного хозяйства, помощь сельскому хозяйству. Перестраивалась работа СОПС, Геологической, Химической и Биологической ассоциаций, впервые стали проводиться отраслевые конференции, вступили в силу генеральные договоры о сотрудничестве АН с наркоматами тяжелой промышленности и земледелия, создавались специализированные комиссии по актуальным проблемам реконструкции народного хозяйства.
В диссертации анализируется и обобщается деятельность ленинградских научных учреждений различного статуса и профиля в годы второй пятилетки. В соответствии с установками партийных органов и ведомственных структур они стремились повысить интенсивность и народнохозяйственную отдачу свой деятельности главным образом за счет внутренних резервов - кадровых, материально-технических, организационно-управленческих, путем устранения много-темности, совершенствования хозрасчета, развертывания стахановского движения, ужесточения административного и общественного контроля. Расширение и повышение результативности НИР во втузах сдерживали прежние неблагоприятные факторы - устарелость оборудования, мизерные ассигнования и, как следствие, преобладание хоздоговорных, узкоприкладных работ, слабая разработка проблемно-теоретических и межотраслевых тем, недостаточная внутри-вузовская координация и степень внедрения, неэффективная система оплаты труда, массовое совместительство и педагогическая перегрузка профессорско-преподавательского состава. Одним из средств повышения производственной активности научных работников должно было стать социалистическое соревнование и такая его форма, как стахановское движение, настойчиво внедрявшееся в НИИ и вузах, но практически мало влиявшее на научно-производственный процесс. Деятельность обществоведческих и гуманитарных исследовательских и учебных институтов все больше подчинялась социально-культурным и идео-
логическим задачам завершения строительства основ социализма в СССР, испытывала нараставшее политико-идеологическое давление тоталитарного режима, усилившееся с 1935 г. в связи с возобновлением массовых репрессий и разоблачений «вредительства» в социально-экономических и гуманитарных науках. Система руководства и управления наукой, отличавшаяся крайней политизированностью, волюнтаристскими методами, недоверием к ученым, не позволяла в полной мере и эффективно использовать возраставший потенциал научного Ленинграда в интересах государства, науки и общества.
Значительное сокращение по сравнению с предыдущим периодом количества аспирантов в ленинградских вузах и НИИ (с 4 219 в начале 1932 г. до 2 602 в 1933/34 учебном году) объяснялось уменьшением их числа и установкой на повышение качества подготовки, которое в целом оставалось невысоким. Организация аспирантуры в новых условиях регламентировалась постановлением СНК СССР «О подготовке научных и научно-педагогических работников» от 13 января 1934 г.. Руководство аспирантурой возлагалось на дирекцию, кафедры и научных руководителей, предусматривались индивидуальные планы аспирантов, публичная защита кандидатских диссертаций. Крупной базой подготовки научных и научно-педагогических кадров был Ленинградский университет, где на 1 марта 1934 г. в 7 НИИ обучалось 212 аспирантов, в том числе из рабочих 31%, крестьян 32%, служащих 35%, прочих 3%, партийно-комсомольская группа составляла от 50 до 75%. Подготовка кадров для науки и высшей школы в технических вузах Ленинграда продолжала количественно расти, рабочая и партийно-комсомольская группа среди аспирантов здесь была более многочисленной, но качество подготовки в разных втузах существенно различалось и эффективность ее в целом оставалась невысокой. На несоответствие подготовки научных кадров в вузах растущим потребностям науки и высшей школы указывало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 июня 1936 г., наметившее и ряд мер общегосударственного характера. Предпринимавшиеся на всех уровнях усилия по преодолению серьезных просчетов не устраняли многих бед плановой, регламентированной, но малозатратной и поточной системы подготовки новых научных кадров через аспирантуру (и в первую очередь большой отсев), которые превращались в хронические. Наряду с общими для аспирантуры всех типов трудностей, подготовка аспирантов в отраслевых НИИ Наркомтяжпрома, ВАСХНИЛ, в ВИЭМ имела ряд преимуществ - большее участие научных специалистов в отборе кандидатов и руководстве аспирантами, более целенаправленная специальная подготовка. По новому положению в аспирантуру Академии наук могли поступать только прошедшие полный курс вузовской аспирантуры, вводились прикрепление аспирантов к руководителям из числа академиков и крупных специалистов, отчетность перед квалификационной комиссией, с 1934 г. - представление и публичная защита кандидатской диссертации. В январе 1934 г. в аспирантуре АН состояло 192 человека, из них из рабочих 25%, крестьян 40%, служащих 29%, прочих 6%, членов ВКП(б) 51%, членов ВЛКСМ 19%. Всего с 1931 по 1935 г. аспирантуру АН окончило
237 человек, но и отчислено за это время было 220, т. е. 40% первоначального набора.
Наряду с аспирантурой большую роль в формировании и повышении квалификации научных кадров играли конкурсы на замещение вакантных должностей, система профессионального роста и должностного продвижения научных и научно-педагогических работников. В результате быстрого увеличения численности научных и научно-педагогических кадров на рубеже 20-30-х гг. уровень квалификации, особенно в среднем звене, заметно снизился. Осознав остроту и значимость этой проблемы, наркоматы, администрация НИИ и вузов, партийные органы стали уделять ей больше внимания. Этому способствовала реализация постановления СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» от 13 января 1934 г., вводившего новый порядок аттестации научных и научно-педагогических кадров. В диссертации анализируются организация, трудности и первые результаты развернувшейся в вузах и НИИ работы по переаттестации научных и научно-педагогических кадров в соответствии с новым положением, в том числе деятельность Ленинградской квалификационной комиссии ГУУЗ НКТП. Недостаточная квалификация была одной из главных причин низкой научной продуктивности большой части научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава. Это проявлялось, в частности, в малочисленности случаев защиты диссертаций, частых отказах в присвоении ученого звания, массовом занятии должностей без соответствующей ученой степени и звания. Сама процедура и практика массовой аттестации научных и научно-педагогических кадров в 1934-1936 гг. носила характер форсированной кампании с неизбежными издержками и политико-идеологическими компонентами, существенно снижавшими объективность ее результатов.
Реорганизация науки на рубеже 20-30-х гг. имела целью и перестройку ее общетеоретических основ на базе марксизма, переквалификацию научных работников посредством овладения марксистской методологией и применения ее в своей исследовательской и преподавательской практике, форсированного внедрения марксизма в науку. Происходившая уже с начала 20-х гг. методологическая перестройка осуществлялась теперь путем тотального наступления марксизма по всему фронту общественных и естественных наук и имела ярко выраженную идеологическую направленность. Исследовательским и методическим центром в области марксистской методологии общественных и естественных наук в Ленинграде являлся Институт марксизма, в конце 1929 г. преобразованный в Ленинградское отделение Коммунистической академии. Определенную роль в пропаганде марксизма играло Научное общество марксистов, закрытое, однако, в конце 1929 г. по причине недостаточной наступательности и массовости. Новым требования в большей степени соответствовало Ленинградское отделение Общества воинствующих материалистов-диалектиков, оформившееся в апреле 1929 г. и имевшее свои ячейки в ряде НИИ и вузов, а также специализированные научно-марксистские общества. Действовала все более разветленная система организованной марксистско-методологической
учебы научных работников и преподавателей, в том числе в общегородском масштабе, уровень которой часто не соответствовал квалификации и запросам слушателей. В результате интенсивной работы с применением разнообразных средств возросли внимание и интерес к мировоззренческим проблемам науки, многие ученые, прежде всего коммунисты и идеологически близкие к ним беспартийные, стали осваивать и применять марксистскую методологию. При этом серьезная научная постановка методологической работы была исключением, преобладала вульгаризация марксизма и способов его применения для трактовки научных проблем и в исследовательской практике. В условиях жесткого идеологического давления большинство научных работников вынуждено было приспосабливаться к методологии, ставшей официальной, и применять ее не на основе глубокого знания и убеждений, а формально, путем цитирования первоисточников и партийных вождей. Субъективное отношение ученых не только старшего, но и нового поколения к марксизму как теории и методологии, его восприятие и характер применения, при внешнем всеобщем признании, в действительности были очень разными и варьировались от искренней приверженности, творческого осмысления и использования до спекулятивного манипулирования или полного отрицания. Принудительная методологическая переквалификация научных работников, внедрение марксизма и формальный триумф его методологии не произвели ожидаемого переворота в отечественной науке и не принесли обещанного превосходства над наукой «буржуазной», напротив, осложнили и ограничили ее развитие, создали тяжелую обстановку в научном сообществе, трагически отозвались на судьбах многих ученых. Запрету подверглись перспективные направления в общественных и естественных науках как противоречившие марксизму и официальной идеологии. В период массовых репрессий 1935-1937 гг. кампания борьбы с «идеологической контрабандой» и «вредительством» в науке получила новый размах. Методологическая переквалификация в 1933-1937 гг. подкреплялась системой политико-профилактических мер, направленных на подавление оппозиционных общественных настроений среди научной интеллигенции, окончательное ее социалистическое «перевоспитание», подчинение и приручение. Политическая работа с научной интеллигенцией в соответствии с ужесточившимися критериями опиралась на партийные организации НИИ и вузов. Институтом организованного общественного воздействия оставалась Ленинградская областная Секция научных работников, объединявшая в 1934 г. более 15 тыс. членов. В декабре 1934 г. из профсоюза работников просвещения выделился профсоюз работников высшей школы и научных учреждений, в который вошли все вузы и большинство научно-исследовательских учреждений Ленинграда. Но в составе нового профсоюза сохранялась Секция научных работников. По положению о местных организациях СНР, они объединяли наиболее квалифицированных работников из профессорско-преподавательского состава и научного персонала и должны были, мобилизовывать их на решение задач, поставленных партией и правительством перед высшей школой и научными учреждениями, строить всю ра-
боту в тесном взаимодействии с месткомами. Деятельность областной организации ВАРНИТСО (в апреле 1937 г. в ней числилось 687 членов, председатель президиума проф. А.В.Немилов) сосредоточивалась на научно-производственной и идеологической работе. Вскоре ВАРНИТСО была распущена, поскольку, как считалось, выполнила свое назначение. Репрессии 1935— 1937 гг., сопровождавшиеся новой волной разоблачений «вредительства», в той или иной мере охватили практически все научные учреждения и вузы Ленинграда, во многих из них они имели массовый характер. Партийные организации НИИ и вузов в одних случаях превращались в невольных соучастников, в других сами выступали в роли инициаторов, но одновременно были и первыми жертвами репрессий. Двадцать советских лет созидания и разрушения, мощное политико-идеологическое давление, подкреплявшееся террором НКВД, оказали большое воздействие на общественное сознание преобладающей части научной интеллигенции, включая ее старшее поколение, обусловили его советско-социалистический вектор. В то же время массовый террор побуждал многих к критическому осмыслению окружающей действительности, становился катализатором инакомыслия в научной среде, умножал число противников сталинско-советского режима. Власть использовала репрессии для устрашения и уничтожения не только вымышленной, но и реально существовавшей оппозиции в среде научной интеллигенции.
В Заключении формулируются основные выводы диссертации, касающиеся отдельных этапов, направлений и результатов взаимодействия и противостояния науки и власти в Петрограде-Ленинграде в 1917-1937 гг. В политике советского государства в сфере науки, в ее организации, системе управления и во взаимоотношениях власти с научной интеллигенцией в 1917-1937 гг. выделяются три основных, своеобразных, но тесно связанных этапа, отражавшие эволюцию большевистского режима, смену приоритетов в экономической и социально-культурной политике и определявшие главный вектор развития научного Петрограда-Ленинграда. Сложившиеся здесь в 1917-1937 гг. региональная структура и механизм управления сферой наукой являлись частью общегосударственной системы и воплощали ее основные принципы и характерные черты, заключавшиеся в сочетании политического руководства с централизованно-ведомственным, оперативно-распорядительным управлением, в тенденции ко все большей централизации, регламентации деятельности подведомственных учреждений и усилению политико-административного контроля. Структура и полномочия представительств государственных научно-административных органов со временем менялись, главные же функции оставались неизменными и состояли в содействии осуществлению государственной политики в области науки. Система политического руководства и административного управления наукой, частью которой были ее региональные органы, позволяла сосредоточить ресурсы и научные силы на решении наиболее важных с точки зрения государства задач, в то же время тормозящее воздействие на организацию и развитие науки оказывали такие ее изъяны, как сверхцентрализация,
унификация, низкая компетентность управленческого аппарата, ведомственная разобщенность, директивно-бюрократический стиль руководства, утверждавшийся взгляд на науку сквозь призму политики.
Советизация научных учреждений в ее «умеренном» варианте, осуществленная в первой половине 20-х гг. на основе партийно-правительственных решений путем введения новых у ставов, подчинила их новой власти, ограничила автономию, положила начало изменению внутреннего уклада и регламентации деятельности. Реорганизация научных учреждений, проведенная принудительно, сверху в конце 20 - начале 30-х гг., включила их в систему централизованного управления, изменила статус и функции, внутреннюю организацию и формы деятельности, привела к установлению единоначалия и бюрократической регламентации. Радикальная перестройка сопровождалась значительным увеличением числа научных учреждений и внедрением в их работу принципов плановости, хозрасчета, коллективности, соревновательности, резким усилением прикладной направленности. Ограниченная самостоятельность, жесткая зависимость от властных структур крайне негативно отражались на результатах деятельности научных учреждений, не позволяли в полной мере использовать их потенциал.
Медленное восстановление и развитие материально-технической базы науки в первой половине 20-х гг. объяснялось не только общим состоянием народного хозяйства, ограниченностью централизованно выделявшихся средств, но и отсутствием у научных учреждений достаточной хозяйственной самостоятельности. Существенно укрепившаяся за годы двух пятилеток производственно-техническая база ленинградской науки в целом, тем не менее, продолжала отставать от возраставших плановых объемов работы научных учреждений. Отсутствие у администрации научных учреждений достаточной хозяйственно-финансовой самостоятельности, жесткая зависимость от централизованного распределения материально-финансовых ресурсов порождали бюрократическую регламентацию расходования выделяемых средств, лоббирование в руководящих сферах, иждивенческие настроения.
На изменения в численном составе научных и научно-педагогических кадров Петрограда-Ленинграда в 1918-1925 гг. влияли высокая смертность среди ученых, миграция и эмиграция, быстрое увеличение количества научных учреждений и вузов, колебания в штатной политике. В условиях форсированного увеличения численности научных работников на рубеже 20-30-х гг. политически мотивированная кадровая практика (включавшая социальные чистки, снижение профессиональных критериев отбора и служебного продвижения, «коммунизирова-ние») обеспечивала внедрение, а затем и преобладание коммунистов в руководящем звене и административно-управленческом аппарате научных учреждений, увеличение партийной прослойки и доли выходцев из рабочих и крестьян, но одновременно ухудшила качественный состав научных и научно-педагогических работников. Большая текучесть научных кадров, особенно среднего звена, обусловленная низкой оплатой труда, нестабильность научных коллективов, вы-
званная постоянными реорганизациями, а также дефицит квалифицированных специалистов усилились вследствие массовых репрессий 1935-1937 гг.
В 1918-1925 гг. старые и вновь созданные учреждения академической, отраслевой и вузовской науки, после спада и несмотря на тяжелые материальные условия, возобновили и расширили фундаментальные теоретические и прикладные исследования во многих областях естественных, точных и технических наук. В соответствии с заданиями правительственных и ведомственных органов их деятельность стала направляться на научное разрешение задач восстановления и развития народного хозяйства, социально-культурного строительства. Достигавшееся согласие относительно необходимости повышения практической отдачи науки сочеталось с серьезными расхождениями между властью и учеными в понимании роли науки, значения фундаментальных исследований и наиболее эффективных форм связи науки с государственными потребностями. Деятельность научных учреждений в 1926-1937 гг. определялась задачами форсированной технической реконструкции, осуществлялась во все возраставших масштабах на основе как экстенсивного роста, так и интенсификации исследовательского труда, она концентрировалась на решении народнохозяйственных проблем пятилеток. Научно-производственная деятельность перестраивалась путем внедрения директивного планирования, хозрасчета, бригадных форм организации труда, повышения ответственности за качество и внедрение научных разработок, использовалось социалистическое соревнование (в целом малоэффективное), ужесточение административного и общественного контроля. При резком увеличении прикладных исследований и разработок, масштабов прямого научно-технического обслуживания предприятий и отраслей, снижались уровень и качество научной работы, сужался фронт фундаментальных исследований. Деятельность научных учреждений социально-гуманитарного профиля все жестче определялась идеологическим заказом власти.
Организация и результаты подготовки новых научных кадров обусловливались взаимодействием различных факторов — принципов создававшейся общегосударственной системы (социально и политически детерминированный отбор кандидатов, унификация, регламентация и идеологизация обучения), более благоприятных условий в исследовательских учреждениях и вузах Петрограда-Ленинграда (наличие многоотраслевой научной базы, большого числа научных специалистов высшей квалификации), а также изъянов самой практики подготовки - поточность, ограниченность выделявшихся средств, снижение квалификационных требований, отстранение профессуры от участия в отборе, нерациональная постановка научно-учебного процесса.
Несмотря на некоторые особенности, обусловленные составом, мировоззрением и первоначальными либерально-демократическими симпатиями большей части научной интеллигенции Петрограда-Ленинграда, взаимоотношения с ней власти в 20-30-е гг. отражали общую тенденцию, заключавшуюся в переходе от острой взаимной конфронтации в первый послеоктябрьский период к сближению и широкому деловому сотрудничеству в период нэпа, к последующему (с
конца 20-х гг.) усилению политического давления на старую и инакомыслящую часть научных работников, тотальному контролю и массовым репрессиям в середине 30-х 1Т. Достигнутая с применением разнообразных средств воздействия внешняя лояльность к правящему режиму не отражала реального спектра политических настроений научной интеллигенции, варьировавшихся от полной его поддержки или умеренной критики до резкого осуждения и интеллектуально-духовной (открытой и завуалированной) оппозиции. Начавшееся с первых послеоктябрьских лет организованное внедрение марксизма в науку с конца 20-х гг. превратилось в тотальное наступление и массовую методологическую переквалификацию научных работников, которые приобрели ярко выраженный идеологический контекст. Они обеспечили формальный триумф марксистской методологии в общественных и естественных науках, но сопровождались травлей и осуждением многих известных ученых, запретом перспективных научных направлений, привели к методологическому монополизму, догматизму и приспособленчеству в науке.
Масштабные изменения в организации науки, крупные успехи научных учреждений Петрограда-Ленинграда в 20-30-е гг. и их огромный вклад в экономическое и социально-культурное развитие страны были достигнуты в результате реализации позитивных компонентов государственной научной политики, конструктивного взаимодействия между властью и работниками науки. Деструктивные стороны научной политики, вызванные сущностными чертами тоталитарного режима, придавали их взаимоотношениям напряженный, конфликтный характер и обусловили колоссальную цену достигнутых наукой успехов, многие упущенные возможности и невосполнимые потери, нанесшие огромный ущерб науке, государству и обществу.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования содержащихся в ней материалов, выводов и обобщений при создании фундаментальных работ по истории организации науки в СССР, социальной истории советской науки, истории научного Ленинграда, в вузовских курсах лекций и спецкурсах по истории отечественной науки и культуры.
Основные положения диссертации получили апробацию в докладах на трех межвузовских научных конференциях, проходивших в Республиканском гуманитарном институте Санкт-Петербургского государственного университета в 2001-2003 гг., а также в опубликованных работах общим объемом около 49 п. л.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Курепин А.А. Научный Ленинграда в 1921-1937 гг. Депон. рукопись. // Новая советская литература по общественным наукам (история, археология, этнография: ИНИОН АН СССР. 1991. № 12. 238 с. 15 п. л. "
2. Курепин А.А. Наука и власть в Ленинграде. 1917-1937 гг. СПб.: Нестор. 2003. 22,5 п. л.
3. Курепин А.А. Организационно-политическое укрепление вузовских партийных организаций Ленинграда в 1921-1927 гг. //Вестник Ленингр. ун-та. 1979. №8. С. 105-108. 0,3 п. л.
4. Курепин А.А. Кафедра социально-гуманитарных наук (история и современность). В соавторстве //Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова: 90 лет. СПб.: СПбГМА. 1997. 0,2 п. л.
5. Курепин АА Академическая оппозиция в Ленинграде в конце 20-х — 30-е годы //Общество и власть. Мат-лы республ. научн. конф. В 2 ч. Ч. I.: СПб.: СПбГУКИ. 2001. С 142 - 150. 0,5 п. л.
6. Курепин А.А. Власть и ленинградская наука в 1926-1932 гг.: политико-административный механизм управляемой науки //Проблемы социально-экономической и политической модернизации в России. Сборн. научн. статей. СПб.; ЦИГИС «Клио». 2001. С. 84-91. 0,5 п. л.
7. Курепин А.А. Из истории органов управления наукой в Петрограде - Ленинграде. 1921 - 1925 гг. //Третьи петровские чтения. Сборн. научн. тр. СПб.: ПАНИ. 2001. С. 94-97. 0,3 п. л.
8. Курепин А.А. Наука и власть в Ленинграде: 1933-1937 гг. //Клио. Журнал для ученых. СПб. 2001. №2. С. 113-122. 1,8 п. л.
9. Курепин А.А. Власть и научная интеллигенция Ленинграда (из истории «перевоспитания»): 1926-1932 гг. //Клио. Журнал для ученых СПб. 2002. № 4. С 83-92.1,5 п. л.
10. Курепин А.А. Власть и профессиональное объединение научных работников Ленинграда. 1923-1925 гг. //Общество и власть: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: СПбГУКИ. 2002. С. 269-276. 0,5 п. л.
11. Курепин А.А. «Коммунизирование» руководящего состава научных учреждений Ленинграда в конце 20-х - начале 30-х годов //Взаимодействие личности, образования и общества в России в изменяющихся социокультурных условиях Межвуз. сборн. научн. тр. В 2 ч. Ч. 2. СПб.: ЛОИРО. 2002. С. 175-178. 0,3 п. л.
12. Курепин А.А. Уставы научных учреждений Петрограда - Ленинграда как инструмент их советизации. //Народы России, Советского Союза: взгляд в прошлое и будущее. Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: Нестор. 2002. С. 99106. 0,6 п. л.
13. Курепин А.А. Финансирование научно-исследовательских учреждений Ленинграда. 1928-1932 гг. //Экономические проблемы истории России и пути их решения: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: Нестор. 2002. С. 169-175. 0,5 п. л.
14. Курепин А.А. Органы управления учреждениями науки в Ленинграде. 1926-1932 гг. //Общество и власть: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: СПбГУКИ. 2003. С. 276-284. 0,8 п. л.
15. Курепин А.А. Научные кадры Ленинграда. 1926-1932 гг. //Общество и власть: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: СПбГУКИ. 2003. С. 285-293.0,8 п. л.
16. Курепин Л.Л. Социально-селективная подготовка научных кадров в Ленинграде. 1921-1927 гг. //История Санкт-Петербурга глазами современного ученого: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: Нестор. 2003. С.99-106. 0,5 п. л.
17. Курепин А.А. Реорганизация научных учреждений в Ленинграде в 1926— 1932//Вопросы истории. 2003. № 12. С. 142-147. 1,2 п. л.
18. Курепин А.А. Социально-партийный состав научных кадров Ленинграда. 1933 - 1937 гг. // Классы и социальные группы в судьбах России: Мат-лы всеросс. научн. конф. СПб.: Нестор. 2003. С. 264-268.0,4 п. л.
19. Курепин А.А. Методологическое «перевооружение» научных работников Ленинграда в 1920-30-е гг. // Клио. Журнал для ученых. СПб. 2004. № 1. 1,8 п. л.
20. Курепин А.А. Из истории реорганизации научно-медицинских учреждений Ленинграда конца 1920-х - начала 30-х гг. // Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И.Мечникова. 2004. № 1.0,3 п. л.
Лицензия ЛР№065394 от08.09.97
Подписано в печать b~.05.2CC4. Формат 60x84 1/16. Объем,л. Тираж /00экз. Заказ № З^й.
Отпечатано в издательстве «Нестор» 195251. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29
№ 1 3 6 02
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора исторических наук Курепин, Александр Алексеевич
Введение.
Глава I. Новая власть и наука. 1917 - 1925 гг.
1. Формирование политико-административной системы руководства и управления наукой.
2. Советизация научных учреждений.
3. Восстановление и развитие материальной базы.
4. Поворот к хозяйственному и культурному строительству.
5. Власть и научная интеллигенция: от конфронтации к сближению.
Глава И. Власть и наука на крутом повороте. 1926 -1932 гг.
1. Перестройка политико-административногоуправления наукой.
2. Реорганизация и развитие научных учреждений.
3. Подчинение науки форсированным преобразованиям.
4. Социально-селективная подготовка научных кадров.
5. Политическое наступление на научную интеллигенцию.
Глава III. Власть и наука в тоталитарной системе. 1933 -1937 гг.
1. Политико-административная власть и научные учреждения.
2. Обслуживание народнохозяйственной и социально-культурной практики.
3. Подготовка и аттестация научных кадров.
4. Методологическая переквалификация научных работников.
5. Власть и научная интеллигенция в условиях тоталитарного режима.
Введение диссертации2004 год, автореферат по истории, Курепин, Александр Алексеевич
Двадцатилетие, прошедшее после Октябрьской революции, оказалось наиболее противоречивым и драматическим периодом в истории отечественной науки в XX веке. Именно в это время сложились основы взаимоотношений между государством и наукой, властью и учеными, которые обусловливались формировавшимся тоталитарным режимом, подчинялись осуществлению провозглашенной социально-преобразовательной и культурно-идеологической программы и определяли развитие отечественной науки в течение всей советской истории. Начиная со второй половины 80-х гг., историки и науковеды проделали большую работу для преодоления стереотипов, устоявшихся в советской историографии, и более объективного изучения различных вопросов истории организации советской науки и научной интеллигенции в самое сложное для них время - 20-30-е гг. Обозначилось и дало первые результаты новое направление — исследование социальной истории советской науки, охватывающей весь спектр взаимоотношений между властью, наукой и обществом. Однако интенсивнее и результативнее связанные с ней проблемы изучаются в общероссийском масштабе и в контексте истории отдельных наук. Региональный срез, а также их преломление в развитии и деятельности научных учреждений пока остаются вне достаточного внимания историков.
Актуальность темы диссертации обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, научный Петроград, несмотря на большие людские и материальные потери за время революции и гражданской войны, оставался крупнейшим (вторым после Москвы) центром отечественной науки и на всех этапах советской истории занимал приоритетное место в преобразовательных планах и научной политике большевиков. Здесь находилась (до 1934 г.) Российская (с 1925 г. Всесоюзная) Академия наук, значительная часть старых и созданных в советское время научных учреждений различного типа, подчинения и профиля, вузов, научных обществ. Уникальный по своему дисциплинарно-отраслевому многообразию, составу и квалификации работников, социально-культурной роли, научный Петроград - Ленинград усилиями центральной и местной власти превращался в важнейшую составную часть огосударствленной науки, ее регионально-структурную модель. Во-вторых, в процессе упадка, медленного восстановления и последующего трудного развития он, его учреждения и работники испытывали общие для всей отечественной науки потрясения, коллизии в отношениях с властью, переживали последствия перманентных реорганизаций и большевистских экспериментов. Вместе с тем, научный Петроград - Ленинград оказывал значительное влияние на становление всей советской науки. В третьих, потребность в такого рода исследовании вытекает из того, что в довольно обширной современной историко-научной литературе, освещающей различные вопросы социальной истории советской науки, пока еще крайне редки попытки целостного, всестороннего их исследования в широких хронологических и региональных рамках и, одновременно, с отражением повседневной многообразной деятельности научных учреждений. В четвертых, в истории научного Ленинграда, взаимоотношений его учреждений и работников с властью отчетливо и своеобразно проявились многие закономерности и характерные черты, позитивные элементы и изъяны советского типа организации науки, цели, методы и последствия деятельности партийно-государственных структур в сфере науки в 20 - 30-е гг. Таким образом, актуальность представленного исследования определяется как особым местом и ролью научного Ленинграда в истории организации советской науки, так и слабой изученностью с современных методологических позиций многих вопросов его развития и функционирования, в которых отразились основные тенденции и противоречия научного строительства в СССР в этот период. Комплексное изучение данной темы является поэтому весьма важной истори-ко-научной и социально-культурной задачей.
Цель диссертации заключается в исследовании механизма и основных направлений и форм взаимодействия, сотрудничества и противостояния между властью и наукой (ее учреждениями, организаторами, работниками) в условиях социалистического строительства и формирования тоталитарного режима, особенностей их взаимоотношений в Петрограде - Ленинграде, поэтапной эволюции и крайне противоречивых результатов.
Исходя из этой цели, были поставлены следующие главные задачи:
- раскрыть сущность партийно-государственной политики в сфере науки, научного строительства и по отношению к научной интеллигенцией на отдельных этапах;
- проанализировать структуру регионального управления, оценить его роль в централизованно-ведомственной системе руководства наукой, выяснить специфические функции партийных органов;
- проследить эволюцию уставов научных учреждений, закреплявших их статус, структуру, функции и все более ограниченную автономию;
- выявить особенности основных этапов и направлений восстановления, советизации и коренной реорганизации научных учреждений;
- показать общие тенденции и отличительные особенности в положении и развитии старых и новых научных учреждений различного типа, подчинения и профиля,
- раскрыть цели кадровой политики в сфере науки и методы ее проведения;
- рассмотреть изменения в руководящем звене научных учреждений, а также количественную, социально-партийную и качественную динамику их кадрового состава;
- осветить основные направления деятельности научных учреждений, а также практику внедрения новых принципов и форм организации научного труда;
- изучить систему подготовки новых научных кадров, ее основные формы, достоинства и просчеты;
- исследовать формы, методы и последствия политической и методологической работы с научной интеллигенцией, показать роль в ней общественных организаций и объединений;
- проанализировать эволюцию общественной и научно-мировоззренческой позиции различных групп научной интеллигенции;
- раскрыть причины и формы ее противостояния власти, обобщить практику идеологических и политических репрессий в науке.
Изучение обратного влияния - науки на власть не входило в число главных задач работы. Этот аспект затрагивается в основном на примере профессиональной и общественной деятельности ученых. В процессе исследования обозначенной проблемы диссертант считал необходимым уделить больше внимания ее локальному преломлению, изучению внутренних процессов в научных учреждениях, выявлению общих черт и отраслевых особенностей их «внешнего» и «внутреннего» положения, развития и деятельности, показу роли личностного фактора в становлении советской науки.
Одним из главных объектов исследования являются местные органы власти - партийной, советской и научно-административной. В центре исследования находятся многие работавшие в Петрограде-Ленинграде крупнейшие научные учреждения страны, в частности, Академия наук, научно-прикладные межотраслевые институты и отраслевые институты промышленности, исследовательские институты сельскохозяйственного профиля, медицинские научно-практические институты, социально-гуманитарные институты, научно-идеологические учреждения, некоторые вузы и их НИИ, а также научные общества. Исследование охватывает и организации научной интеллигенции Ленинграда - политические, профессиональные, общественные.
Предметом исследования являются направления, каналы и методы нараставшего многопланового воздействия власти на организацию науки, развитие и деятельность научных учреждений и на научную интеллигенцию, «ответ» научного сообщества на постепенно ужесточавшиеся императивы и результаты взаимодействия, сотрудничества и противостояния власти и работников науки в 1917 - 1937 гг.
Хронологические рамки диссертации обусловлены рядом обстоятельств. Во-первых, именно в 1917-1937 гг. окончательно сложились, утвердились и в полной мере реализовались (как в общегосударственном масштабе, так и на региональном уровне) принципы и формы взаимотношений между новой властью и наукой, которые основывались на их взаимозависимости, все большем огосударствлении и подчинении науки, на противостоянии власти значительной части научной интеллигенции (то смягчавшемся, то обострявшемся). Во-вторых, основные этапы послеоктябрьской истории — гражданская война, нэп, восстановление (1918-1925 гг.), индустриализация и коллективизация (1926-1932 гг), развернутое социалистическое строительство (♦ (1933-1937 гг.) определяли особенности и приоритеты научной политики партийно-государственного руководства и взаимоотношений власти с работниками науки. В третьих, составной частью первых двух пятилетних планов развития народного хозяйства СССР являлись научные пятилетки, в которых намечались главные направления, параметры развития и задачи науки, а тем самым и стратегия деятельности научных учреждений. В 1937 г. особенно явственно проявились контрасты и противоречия партийно-государственной по-♦ литики в области науки. В связи с двадцатилетием Октябрьской революции требовалась демонстрация достижений науки в стране победившего социализма - реальных и мнимых. Но одновременно пика достигают массовые репрессии против работников науки. В последующий период научная политика во многом диктовалась потребностями укрепления обороны страны в условиях приближавшейся большой войны.
Территориальные рамки исследования определены исходя из той важной роли, которую Ленинград играл в становлении, организации и развитии советской науки в указанные годы. Он располагал многоотраслевой фундаментальной и прикладной наукой, научными учреждениями всех типов, примерно четвертью (в 1933 г.) действовавших в стране исследовательских институтов, многочисленными и наиболее квалифицированными кадрами научных работников (от одной трети в 1918 г. до одной четверти в 1933 г.) и оказывал огромное влияние на весь ход научного строительства в СССР. В Ленинграде был сформирован и действовал механизм партийно-государственного управления наукой, воспроизводивший многие черты общесоюзной системы руководства этой сферой. В развитии научного Ленинграда наглядно и особенно болезненно проявились многие колизии социальной истории советской науки в 20-30-е годы.
Методологическую основу диссертации составляют базовые принципы исторического исследования и, прежде всего, принципы научной объективности и историзма. Феномен «управляемой» науки, сложившийся в СССР в 2030-е гг. XX в., отражал черты советской системы, цели государственной политики и методы ее осуществления на отдельных этапах, новые общественные условия функционирования и развития науки. Современная интерпретация истории организации науки и взаимоотношений власти с ее работниками во многом зависит от взгляда исследователя на советскую историю в целом, оценки ее содержания, результатов и причин заката на рубеже 80 - 90-х гг., т. е. в конечном счете от его общественной и научно-мировоззренческой позиции. В общеметодологическом плане диссертант не рассматривает советский период как случайное и аномальное явление в отечественной истории и не считает его всего лишь неудавшимся социальным экспериментом. В условиях советского строя, на наш взгляд, тесно переплетались различные, подчас противоположные тенденции, развертывание созидательного. потенциала общества сочеталось с его подавлением и разрушением, поэтому и конечные результаты развития страны, в том числе и ее науки, оказывались крайне противоречивыми. В процессе изучения исследуемой проблемы учитывались особенности статуса науки и ее функционирования в дореволюционной России, преемственность некоторых черт научной политики советского правительства с предшествующим периодом, а также внешние факторы и, прежде всего, возрастание регулирующей роли государства в организации науки в развитых капиталистических странах в первой трети XX в. Диссертант придерживался методологической установки на непредвзятое и вне политико-идеологических пристрастий изучение и объективную оценку как определенных достоинств и достижений в научном строительстве в СССР и в Ленинграде, так и очевидных его изъянов, упущенных возможностей и огромных потерь. Этот противоречивый опыт не вписывается ни в официальные схемы, господствовавшие в советской историографии и исходившие из бесспорных преимуществ советской организации науки, ни в односторонне негативную его интерпретацию в некоторых современных работах. Диссертант исходил из многофакторности, противоречивых тенденций и неоднозначности во взаимоотношениях советского государства и науки, власти и ученых (в том числе и на региональном уровне) и поэтому старался учитывать всю совокупность достоверных фактов и следовать логике их непредвзятого анализа и обобщения. В диссертации использованы когнитивные возможности различных, традиционных и новых, методологических концепций, не утратившие научного значения результаты советской историографии истории организации науки и научной интеллигенции, а также новые методологические подходы и достижения современных исследователей социальной истории отечественной науки. Комплексный, системный подход к изучению поставленных вопросов сочетается в работе с рассмотрением их на трех взаимосвязанных уровнях - общегосударственном, региональном и локальном, а также с применением методов фактологического, хронологического, статистического и сравнительно-исторического анализа. С учетом задач диссертации, имеющей социально-историческую направленность, понятие «наука» применяется главным образом в значении ее общей организации, базовых основ функционирования (управленческих, институциональных, кадровых, материально-технических), а также индивидуальной и коллективной деятельности ученых. В контексте диссертации оно не включает те аспекты развития науки, которые являются предметом специальных исто-рико-научных и науковедческих исследований. Научная политика рассматривается как совокупность целей и задач в области организации и развития науки, формулировавшихся в директивах, постановлениях и распоряжениях центральных партийных, советских и научно-административных органов, а также методов их практического осуществления и оценки результатов. Социально-исторический ракурс исследования, предполагающий выяснение воздействия государства, общества, социальных факторов на науку и ученых, обусловил использование в соответствующих разделах понятия «научная интеллигенция». В рамках исследования оно обозначает две основных профессиональных группы — научных работников исследовательских учреждений и профессоров и преподавателей вузов (часто их функции совмещались). Объединяя их по профессиональным признакам и роли в обществе, являясь объектом особого внимания со стороны власти, научная интеллигенция советского периода была весьма неоднородной в квалификационно-должностном и социально-культурном отношении, по своей общественной позиции и идейным взглядам она также разделялась на несколько групп.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые комплексно исследуются реализация основных направлений государственной научной политики в Петрограде-Ленинграде, роль в ее осуществлении региональных научно-административных структур и местных партийно-советских органов; реорганизация, развитие и деятельность крупнейших научных учреждений различного статуса и профиля; эволюция взаимоотношений власти с научной интеллигенцией, формы и результаты политической и методологической работы с ней в условиях социалистического строительства 1917—1937 гг. и формирования тоталитарного режима. В частности, раскрываются следующие неизученные и слабо освещенные в современной литературе вопросы:
- система и функции ведомственно-административного управления наукой в Петрограде - Ленинграде в 1917- 1937 гг.;
- специфическая роль местных партийных органов, а также коммунистов в сфере науки;
- этапы и процесс советизации и коренной реорганизации учреждений академической, отраслевой и вузовской науки, развития их финансовой и материально-технической базы;
- переориентация научных учреждений на обслуживание хозяйственных, социально-культурных и идеологических потребностей советского государства и «социалистического» Ленинграда;
- социально и идеологически детерминированная кадровая политика и практика в сфере науки;
- система социально-селективного отбора и подготовки научных и научно-педагогических кадров;
- деятельность общественных организаций и объединений научной интеллигенции, формы и методы ее «перевоспитания» и методологической переквалификации;
- эволюция общественно-политической позиции и научно-мировоззренческих взглядов научной интеллигенции, причины и формы ее оппозиции власти.
Таким образом, диссертация представляет собой и первое в современном науковедении комплексное исследование вопросов социальной истории науки в Петрограде-Ленинграде в ее переломный, драматический период.
Историография проблемы. Предметное изучение на документальной основе партийно-государственной политики в области организации науки и ее практического осуществления на первых этапах социалистического строительства началось с середины 60-х годов XX в. За последующее двадцатилетие эта проблема освещалась во многих фундаментальных работах, обобщающих коллективных трудах, монографических и диссертационных исследованиях, документальных изданиях1. Под влиянием послесталинской «оттепели» их авторы постепенно отходили от жестких догм, упрощенных схем и прямоли
1 См.: КПСС и научно-технический прогресс. Указатель советской литературы, изданной в 1918 - 1974 гг. Свердловск, 1975; Развитие советской науки за 50 лет. Указатель юбилейной литературы. М., 1972; КПСС и научно-технический прогресс. Список литературы, изданной в 1975 - 1980 гг. Свердловск, 1982. нейной апологетики власти, характерных для всей советской историографии 30-х - середины 50-х гг. Расширялась проблематика изучения истории организации науки в СССР, источниковая база, в научный оборот вводились новые документы, восстанавливались многие факты, события, имена, совершенствовалась методология и методика исследования. В результате коллективных усилий большого числа историков создавалась в целом более объемная, сложная и приближенная к исторической реальности картина научного строительства в СССР. Раскрывались цели и задачи партийно-государственной политики в области науки в переходный период, выявлялись особенности отдельных этапов и тенденции в организации и развитии науки в советских условиях. Некоторое подновление прежних методологических стереотипов, смягчение идеологических запретов и ограничений создавали более благоприятные условия для углубления историко-научных исследований, но не отменяли классово-партийных критериев научности и объективности. Руководствуясь ими и собственными научно-идейными убуждениями, историки стремились показывать благотворное воздействие партийно-государственной политики на научное строительство и развитие науки. Эти позитивные последствия прослеживались в масштабе науки в целом, на примере развития отдельных ее отраслей и многих учреждений, они подкреплялись некоторыми качественными неособенно, количественными показателями роста. Затрагивались и некоторые трудности процесса становления советской науки, которые обыкновенно объяснялись объективными причинами. Акцент делался на их успешном преодолении благодаря правильному руководству В.И.Ленина, партии большевиков, а также преимуществам социалистического строя и растущей поддержке ученых. При этом, однако, многие сложные, болезненные процессы в сфере науки в 20-30-е гг., вызванные радикальными политическими и социальными переменами, напряженные взаимоотношения, порой острые столкновения между властью и учеными игнорировались, смягчались либо приподносились упрощенно. Тенденциозность, односторонность подхода наиболее выпукло проявлялась в литературе юбилейного характера и выражалась, в частности, в стремлении преувеличить реальные достижения отечественной науки за двадцать советских лет, противопоставить ее «буржуазной» науке, уравнять с мировой наукой и даже возвысить над ней1. Из обширной историографии проблемы наибольшую ценность представляют работы, относящиеся к первым годам послереволюционных преобразований, поскольку в них дается более достоверная, хотя и далеко не полная картина взаимоотношений между правящей партией, советским государством и наукой, ее деятелями. Б.М.Кедров, Ю.С.Мелещенко и С.В.Шухардин, А.Д.Педосов и другие авторы обобщали взгляды В.И.Ленина на роль науки и научно-технического прогресса в строительстве социалистического общества, показывали начало осущестл вления его идей, установок и рекомендаций . В работах Е.Н.Городецкого и Э.Б.Генкиной затрагивалась законотворческая и организаторская деятельность Ленина по руководству научным строительством в годы советской власти и преобразований в науке 3. Некоторые направления научного строительства в 1917-1924 гг. раскрывались в очерках С.И.Мокшина4. Начальный этап разработки советской научной политики и научного строительства (1917— 1922 гг.) всесторонне рассматривался в монографии М.С.Бастраковой 5. В ней показаны положение и организация науки в начале XX в. и в предоктябрьский период, проекты и попытки ученых по ее реформированию, подробно освещаются создание советской системы организации и управления научной деятельностью, структура и функции общегосударственных и ведомственно-отраслевых органов по руководству наукой, становление и развитие сети ис
1 См.: Ленин и наука. М., 1960; Ленин и современная наука. 1870 - 1970. В 2-х кн. М., 1970; .Октябрь и научный прогресс. М., 1977; Октябрь и наука (1917 - 1977). Сб. статей. М., 1977; Советская наука: Итоги и перспективы. М., 1982.
2 Мелещенко Ю.С., Шухардин С.В. В.ИЛенин и научно-технический прогресс. Л., 1969; Педосов А.Д. Партия большевиков и технический прогресс. М., 1969; Ленин и современная наука. 1870 - 1970. В 2 кн. М., 1970; Кедров Б.М. Ленин, наука и социальный прогресс. М., 1982.
3 Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства. 1917 - 1918. М., 1965; ГенкинаЭ.Б. Государственная деятельность В.И.Ленина. 1921 - 1923. М., 1969.
4 Мокшин С.И. Семь шагов по земле. Очерки становления и развития советской науки. 1917- 1924. М., 1972.
5 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917 - 1922 гг.). М., 1973. следовательских учреждений различного типа и профиля. В работе отмечалось, что основополагающим принципом партийно-советским принципом научной политики стало централизованное государственное руководство наукой. Он изначально был заложен не с одобрения ученых, а по воле большевистского руководства и стал «краеугольным камнем» научного строительства1. Несомненной заслугой упомянутых исследователей является проведенный ими впервые в советской историографии документированный, системный и конкретный анализ проблемы становления и функционирования советской организации науки, роли в ней высших партийно-государственных структур. Вместе с тем, на исследованиях лежит печать своего времени, идеологического заказа. Поэтому, в частности, идеи, суждения и указания В.И.Ленина, решения партийных и государственных органов, касавшиеся науки, должны были трактоваться как безупречные, единственно правильные и приносившие только положительный результат. В соответствии со сложившейся схемой историки должны были оценивать деятельность партийных и государственных органов в сфере науки исключительно в позитивном плане и обходить наиболее острые углы и коллизии «завоевания» науки, принудительной советизации научных учреждений, затяжного противостояния власти и ученых.
Вопросы государственного руководства наукой в годы первой пятилетки освещались в монографии В.Д.Есакова2. В ней показаны изменения в научной политике советского государства, подчинение ее задачам индустриализации, реорганизация науки, включая Академию наук СССР, • освещаются рост сети научных учреждений, организация научно-исследовательской работы для нужд промышленности, создание и деятельность ВАСХНИЛ. В соответствии с устоявшимися представлениями, не только перестройка отраслевой науки, но и радикальная реорганизация Академии наук рассматривалась как назревшая и объективно необходимая задача, обусловленная потребностями индустриализации. Под этим углом зрения анализировались принятие нового устава, кам
1 Там же. С. 12,96,108,117.
2 Есаков В.Д. Советская наука в годы первой пятилетки. Основные направления государственного руководства наукой. М., 1971. пания по выборам действительных членов, развитие и перестройка деятельности академических научных учреждений1. В историографии тех лет не принято было подвергать сомнению комадно-бюрократические, принудительные методы реорганизации, не ставился вопрос о последствиях жесткого подчинения науки запросам производства, обходилась тема политизации науки и борьбы с «вредительством». Развитие сети учреждений науки за все годы социалистического строительства прослежено Е.А.Беляевым и Н.С.Пышковой 2. Начальный советский период в истории Академии наук обобщенно отражен в двухтомном труде Г.Д.Комкова, Б.В.Левшина и Л.К.Семенова 3. Этому периоду посвящались монографии А.В.Кольцова, в которых подробно анализировались важнейшие аспекты развития Академии наук - государственное управление, развитие сети учреждений, филиалов и баз, изменения в Уставе и персональном составе, финансирование, планирование, роль общественных организаций, основные результаты исследовательской, экспедиционной и издательской деятельности, международные связи4. Весьма содержательные, построенные на богатом фактическом материале, эти работы были заметным явлением в историографии истории отечественной академической науки. Из-за идеологических и цензурных ограничений в них не вскрывалась вся сложность взаимоотношений между новой властью и Академией наук в послеоктябрьский период, их резкое обострение на рубеже 20-30-х гг., вызванное принудительной, радикальной перестройкой, хотя сама реорганизация справедливо названа «коренным переломом» в истории и деятельности Академии. Важной и вместе с тем специфической частью историографии исследуемой проблемы являлась разнообразная, в том
1 Там же. С. 79-218.
2 Беляев Е.А., Пышкова Н.С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР. М., 1979.
3 Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов JI.K. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. В 2 томах. М., 1977; .
4 Кольцов А.В. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. Л., 1969; Он же. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926 — 1932 гг. Л., 1982 числе фундаментальная литература по истории отдельных наук в СССР \ В ней освещались этапы их институционального оформления в советский период, раскрывались закономерности развития под влиянием различных факторов, основные направления и результаты фундаментальных и прикладных исследований, вклад отдельных научных коллективов и ученых, в том числе и Ленинграда, значение достигнутых результатов для страны и мировой науки. Однако слабо учитывались негативное воздействие социально-политических условий конца 20-30-х гг., масштабы и последствия нараставшей идеологизации науки, грубого вмешательства власти во внутринаучные процессы и дискуссии, запрета многих перспективных научных направлений. Все это не игнорировалось исследователями, но в соответствии с официальными идеологическими установками расценивалось как частное проявление деформаций в социалистическом строительстве, вызванных культом личности Сталина.
Существенный вклад (прямой и косвенный) в освещение и трактовку взаимоотношений власти и ученых в 20-30-е гг. вносила историография истории советской интеллигенции. Быстро развиваясь в 60-70-е гг. в количественном, тематическом и качественном отношении,' она одновременно задавала общий вектор изучения данной проблемы и во многом определяла его методологию. В работах С.А.Федюкина, В.С.Волкова, М.Е.Главацкого, Ф.Н.Заузолкова, В.Л.Соскина и других историков раскрывалась политика и дифференцированная тактика РКП(б)- ВКП(б) по отношению к различным группам интеллигенции, деятельность партийно-государственных органов и общественных организаций по созданию новой, советской интеллигенции на общесоюзном и региональном конкретно-историческом материале и на примере отдельных различных профессиональных групп2. Главное внимание уделя
1 См.: Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 4. М., 1966; Развитие биологии в СССР. М., 1967; Развитие физики в СССР. В 2 кн. М., 1967; История философии в СССР. Т. 5. М., 1985 и др.
2 Советская интеллигенция (История формирования и роста. 1917 - 1965). М., 1968; Федю-кин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М.,1972; Заузолков Ф.Н. Коммунистическая партия — организатор создания научной и производственно-технической интеллигенции СССР. М., 1973; Главацкий М.Е. КПСС и формирование технической интеллигенции на Урале (1926 - 1937 лось привлечению старых специалистов к хозяйственному и социально-культурному строительству, формам и методам их постепенного перевоспитания, подготовке новых кадров. Историкам следовало показывать изменения, происходившие в составе, идейном облике и общественной роли интеллигенции, преодоление прежнего идейно-политического размежевания, сближение с рабочим классом и партией. Доминировавший классово-партийный подход и официальные установки не позволяли глубоко изучать реальные процессы внутри интеллигенции в 20-30-е гг, рассматривать ее в качестве самостоятельного субъекта истории и объективно оценивать ее отношения с властью 1.
Предметом исследований во второй половине 60-х - 80-е годы стала история научной интеллигенции в период социалистического строительства, вопросы ее состава, общественного положения, профессиональной организации и деятельности, идейно-политического облика. Различные хронологические периоды и аспекты формирования советской научной интеллигенции освещались в монографиях Б.Д.Лебина, В.А.Ульяновской, Л.В.Ивановой, в отдельных разделах уже упоминавшегося фундаментального труда С.А.Федюкина . В монографии В.А.Ульяновской давалась характеристика положения научной интеллигенции в дореволюционной России, обобщалась практика привлечения ее к сотрудничеству с властью после октября 1917 г., ее деятельность в течение всего двадцатилетнего периода социалистического строительства и делался вывод о формировании новой, социалистической научной интеллигенции 3. Широтой охвата проблемы, содержательностью и фактологической насыщенностью отличалось исследование Л.В.Иваной, которое хотя и воспроизводило господствовавшие тогда методологические стереотипы, тем не менее и гг.). Свердловск., 1973; Соскин B.JI. Ленин, революция, интеллигенция. Новосибирск., 1973; Советская интеллигенция: Краткий очерк истории (1917 - 1965 г.). М., 1977.
1 Подробный анализ историографии 60-х - первой половины 80-х гг. см.: Олейник О.Ю. Советская интеллигенция в 30-е гг. (теоретико-методологический и историографический аспекты). Иваново. 1997.
2 Лебин Б.Д. В.И.Ленин и научная интеллигенция. М.; Л., 1966; Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917 - 1937 . М., 1966; Л.В. Иванова Формирование советской научной интеллигенции (1917 - 1927 гг.). М.,. 1980.
Ульяновская В.А. Указ. соч. сегодня не утратило историографической ценности и научной значимости. В нем подробно рассматривалась система партийно-государственного руководства наукой, политика в области ее организации и по отношению к старой научной интеллигенции, анализировались состав, условия деятельности научных работников, показаны создание и деятельность их профессонального объединения — Секции научных работников Всерабпроса, изменения в их общественно-политической позиции1. В работе П.В.Алексеева обосновывалась закономерность постепенной идейно-философской эволюции ученых-естествоиспытателей в 20-х годах в сторону марксизма под влиянием общеметодологического кризиса в мировой науке и социальных преобразований в стране2. Все исследователи истории научной интеллигенции отмечали наличие в ней в первый послеоктябрьский период нескольких общественных групп и преобладание негативного или настороженного отношения к новой власти. Главной причиной недоверия считались буржуазно-демократические пристрастия ученых дореволюционного поколения и, частично, левацкие перегибы отдельных большевистских функционеров. Сама политика и тактика большевиков по отношению к научной интеллигенции (включаяя применение репрессивных мер) связывалась с В.И.Лениным и поэтому не подвергалась сомнению. Научная интеллигенция рассматривалась главным образом как объект идейно-воспитательного воздействия со стороны правящей партии и как все более активный и сознательный участник социалистического строительства. Этим, как считалось, и обусловливалась исторически закономерное формирование новой научной интеллигенции советско-социалистического типа. Принудительное внедрение марксизма в науку и методологическое «перевооружение» научных работников также приподносились как объективно неизбежный процесс, ускоривший их переход на прогрессивные научно-методологические позиции. Вывод о формировании новой, социалистической научной интеллигенции обосновывался примерами деятельности ученых, тес
1 Иванова J1.B J1.B. Указ. соч.
2 Алексеев П.В Революция и научная интеллигенция. М., 1987. но сотрудничавших с властью и идейно близких к ней, а также многих работников науки нового поколения. Общественная и идейная позиция других групп научной интеллигенции тщательному анализу не подвергалась и фактически игнорировалась. Считалось, что к середине 30-х гг. были окончательно преодолены аполитичность и нейтрализм среди научных специалистов. Такие вопросы, как свертывание автономии научных учреждений, утилитарно-потребительское отношение власти к ученым, подавление их гражданских и личных прав, массовые репрессии против интеллигенции в 1918-1922 гг, на рубеже 20-30-х гг., в 1935-1937 гг., также глубоко не исследовались. Правовые аспекты и организационные формы подбора, подготовки и аттестации научных кадров в 20-60-е годы показаны в монографии Лебина Б.Д
Для исследований по истории организации науки, написанных в истори-ко-партийном ключе, характерна была ярко выраженная политико-идеологическая тенденциозность. Ее иллюстрацией может служить небольшая работа Е.А.Беляева, в которой кратко обобщался весь опыт руководства КПСС организацией науки 2. Этот опыт представлен только положительной стороной и проигнорированы негативные его составляющие. Разноплановая, преимущественно историко-партийная литература по истории советской высшей школы указывала на сопротивление профессуры послереволюционным преобразованиям, но подчеркивала прогрессивный, демократический их характер, не вскрывала острые коллизии в ее развитии и практически не касалась вопросов организации научной работы в вузах3.
Изучение истории партийно-государственного руководства научным строительством непосредственно в Ленинграде, осуществлявшееся в 70— первой половине 80-х гг., шло в общем методологическом русле советской историографии тех лет. На этом направлении были и важные приобретения, дос
1 Лебин Б.Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров. М.; Л., 1966.
2 Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР. М., 1982.
3 См.: Украинцев В.В. КПСС - организатор революционного преобразования высшей школы. М., 1963; Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы (1917 - 1938). Уфа, 1973; Сафразьян Н.Л. Борьба КПСС за строительство советской высшей школы (1921 - 1927 гг.). М., 1977 и др. тижения, обусловленные благотворными последствиями оттепели и существенно отличавшие историографию 70-х гг. от псевдоистории советского общества сталинского периода, и сохранявшиеся стереотипы, вытекавшие из убежденности (чаще искренней) в закономерности и прогрессивности социалистического строя и преимуществах советской науки. Заметным для своего времени явлением в историографии стало появление в самом конце 70-х гг. двух коллективных работ - «Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. 1917-1977.» (под ред. Б.И.Козлова. Л., 1979) и «Очерки истории организации науки в Ленинграде. 1703-1977.» (под ред. Б.Д.Лебина. Л., 1980). В первой из этих работ освещался (в двух первых главах) процесс создания, развития и расширения деятельности отраслевых институтов промышленности в годы нэпа, первой и второй пятилеток, а также содержались краткие очерки истории некоторых из них 1 . Во второй работе, в двух разделах, написанных А.В.Кольцовым, показаны место Ленинграда в общегосударственной системе организации науки в послереволюционный период, функции местных ведомственных органов по управлению наукой, а также рост потенциала академической, многопрофильной отраслевой, вузовской и заводской науки в годы первой и второй пятилеток 2. Следует отметить, что за последующий более чем двадцатилетний период не появилось ни одной обобщающей работы по истории организации науки в Ленинграде. Отдельные вопросы истории организации науки в Ленинграде затрагивались в публикациях, помещавшихся в сборниках «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов», регулярно издававшихся в те годы Ленинградским отделением Института истории естествознания и техники АН. Из них следует выделить статьи В.Н.Макеевой, посвященные созданию и деятельности местных органов по руководству наукой и координации научно-исследовательской работы в 1917-1930 гг., а также статью Г.Е.Павловой о деятельности ленинградских научных институтов Главнауки
1 Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. С. 27-57.
Очерки истории организации науки в Ленинграде. С. 115 - 171.
Наркомпроса в 1918-1925 гг.1. История высшей школы Петрограда-Ленинграда в первые годы советской власти и восстановительный период, прежде всего ее реформа исследовалась в монографии А.П.Купайгородской, но также с позиций безусловной целесообразности и в основном позитивных результатов. При этом резко отрицательное отношение большей части профессуры к навязанной властью реформе, как и ее огромные издержки оказались не раскрытыл ми . В монографии обобщенно показан поворот научно-исследовательской работы вузов к потребностям хозяйственного восстановления и развития3.
Большое число изданий посвящалось истории отдельных научных учреждений Ленинграда4. Они существенно дополняли и конкретизировали общую картину научного Ленинграда в 20-30-е годы. Но большинство из них носило юбилейный характер и обычно очень кратко показывало основные вехи их развития и деятельности. Главное внимание обращалось на достижения институтов и вклад ведущих сотрудников. Проблемы и трудности в развитии институтов, отношения с властью, внутренняя жизнь, деятельность общественных организаций по осуществлению партийно-государственной научной политики, масштабы и последствия борьбы с «вредительством», репрессий выпадали из поля зрения или затрагивались вскользь. Предметом широкого
1 Макеева В.Н. К истории создания и деятельности органов по руководству наукой в Петрограде - Ленинграде в 1921 - 1925 гг. // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. III. Л., 1970. С. 214 - 221; Она же. Ленинградский объединенный научно-технический совет - центр по координации исследований (1926 - 1930 гг.) // Там же. Вып. IV. Л., 1971. С. 435 - 441; Павлова Г.Е. Роль ленинградских научно-исследовательских институтов Главнауки Наркомпроса в развитии народного хозяйства страны в 1918 - 1925 гг.//Тамже. С.442-446.
2 Купайгородская А.П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917 — 1925 гг.). Л., 1984.
3 Там же. С. 174 - 178.
4 Всесоюзный научно-исследовательский институт им. Д.И.Менделеева. Исторический очерк. Л., 1967; Государственному институту прикладной химии пятьдесят лет. 1919 -1969. Л., 1970; Механобр. 50 лет со дня основания. Л., 1970; Радиевый институт им. В.Г.Хлопина. К 50-летию со дня основания. Л., 1972; Физико-технический институт им. акад. А.Ф.Иоффе. 1918- 1978. Л., 1978; ВСЕГЕИ в развитии геологической науки и минерально-сырьевой базы страны. 1882- 1982. Л., 1982; Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.М.Образцова. 1809- 1959. М., 1965; История Ленинградского государственного университета. Очерки. 1819 - 1969. Л., 1969 и др. изучения являлись также биографии многих ленинградских ученых Но в те годы их авторы, к сожалению, не могли полно и правдиво показать профессиональный и гражданский облик ученых, их общественную позицию, сложную идейную эволюцию, отношения с представителями власти, а нередко и трагическую судьбу.
В работах В.М.Кулагиной и В.Ф.Финогенова рассматривалась деятельность Ленинградской партийной организации, научно-технических институтов, хозяйственных органов, предприятий по внедрению научных достижений л и технических изобретений в промышленность в годы второй пятилетки . Опыт работы партийной организации по сближению науки с производством за все годы социалистического строительства обобщался в коллективном труде, изданном в 1985 г. Ленинградским институтом истории партии3. В его первой главе, подготовленной Н.Б.Лебедевой, рассматривалось практическое осуществление выдвинутой большевиками идеи союза науки и труда на примере ленинградских НИИ, заводских лабораторий, сотрудничества ученых с промышленными предприятиями1 . Упрощенный взгляд большевистских руководителей на взаимосвязь теории и практики, их убежденность в абсолютном приоритете производства по отношению к науке, призванной обслуживать его потребности, нанесли немалый ущерб и оказали большое влияние на последующее изучение этой проблемы, особенно на историко-партийные исследования. Н.Б.Лебедевой принадлежит и глава о науке в коллективном очерке
1 Слонимский М.С. Абрам Федорович Иоффе. М. ; Л., 1964; Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман. М., 1968; Лукина Т.А. Борис Евгеньевич Райков. Л., 1970; Чапке-вичЕ.И. Е.В.Тарле. М., 1977; ГулоД.Д., Осиновский А.Н. Дмитрий Сергеевич Рождественский. 1876 - 1940. М., 1980; Асратян Э.А. И.П.Павлов. Жизнь, творчество, современное состояние учения. 2-е изд. М., 1981; Владимиров B.C., МаркушИ.И. Владимир Андреевич Стеклов - ученый организатор науки. М., 1981; Романовский С.И. А.П.Карпинский. 1847- 1936. Л., 1981; Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский (1863 - 1945). М., 1982; Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891 - 1941). Л., 1984 и др.
2 Кулагина В.М. Ленинградские коммунисты в борьбе за освоение новой техники (1933 -1937 гг.). Л., 1962; Финогенов В.Ф. Ленинградские коммунисты в борьбе за техническую реконструкцию промышленности. Л., 1972.
Содружество науки и производства. История и современность. Деятельность Ленинградской партийной организации по развитию творческих связей науки с промышленностью. Л., 1985. деятельности С.М.Кирова в Ленинграде, в которой показано его активное содействие развитию фундаментальных и прикладных исследований и использованию их результатов в интересах народного хозяйства2. Эта сторона деятельности С.М.Кирова кратко отражена в книге С.В.Красникова3. Биографы Кирова не смогли тогда преодолеть идеализации образа этого, несомненно, талантливого и неординарного руководителя, в деятельности которого проявились противоречия той эпохи, личные качества и типичные черты партийного функционера высшего ранга. Партийное руководство подготовкой научных кадров в Ленинграде в годы первой пятилетки исследовалось в диссертации К.Е.Печкуровой4. Основное внимание в ней уделено совершенствованию форм и расширению подготовки научных кадров, негативные ее стороны (классовый отбор, регламентация и идеологизация подготовки, вовлечение аспирантов в наступление на старую научную интеллигенцию) не затрагивались.
Ряд монографических исследований, диссертаций и большое число статей, вышедших в 70-80-е годы, посвящались истории «вхождения» марксизма в общественные науки, а также отдельным вопросам истории научной и вузовской интеллигенции Петрограда-Ленинграда в 20-е годы. В двух монографиях В.И.Клушина, изданных на рубеже 60-70-х гг., подробно освещалась деятельность научно-марксистских учреждений и Научного общества марксистов Петрограда-Ленинграда в 1918-1925 гг., научная, преподавательская и пропагандистская работа первого поколения обществоведов-марксистов (в частности, в Петроградском университете). В историко-философском плане в них рассматривался процесс утверждения марксистского направления в социально-философских дисциплинах (научных и учебных) как вполне закономерное явление, обусловленное социальными и идеологическими переменами в
1 Там же. С. 16-56.
2 С.М.Киров и ленинградские коммунисты. 1926 - 1934 гг. Л., 1986. С. 255-272.
3 Красников С.В. С.М.Киров в Ленинграде. Л., 1966. С. 96 - 111, 117 - 125.
4 Печкурова К.Е. Партийное руководство подготовкой научных кадров в годы первой пятилетки (1928 - 1932 гг.) (на материалах Ленинграда): Автореф. канд. дис. Л., 1976. стране после Октябрьской революции1. Современный взгляд на эту проблему подводит к выводу о том, что решающую роль в начавшемся в первой половине 20-х гг. внедрении марксизма и его методологии в философские, социальные и другие науки играла не исследовательская и пропагандистская активность немногочисленной группы философов и обществоведов-марксистов, а политические факторы — целенаправленное давление партийных и научно-административных органов, запретительное и репрессивные меры против немарксистского обществоведения и представлявших его ученых, все более ограничивавшие возможность и поле для свободных научных дискуссий. Вопросы политико-идеологической работы с научно-вузовской интеллигенцией Петрограда-Ленинграда в 20 - начале 30-х гг. освещались в традиционном ключе в диссертациях и статьях Л.А.Шилова (Группа левой профессуры), В.В.Фортунатова (политическая работа с научной интеллигенцией, Секция научных работников), Е.А.Козлова (Секция научных работников в годы первой пятилетки, марксистские научные общества), А.А.Курепина (формы методологической работы) . Один из разделов монографии по истории Академии
1 Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в Ленинградском университете. Д., 1970; Он же. Первые ученые - марксисты Петрограда. Л., 1971.
2 Шилов Л.А. Группа левой профессуры (1921 - 1923 гг.) // Вестн. Ленингр. ун-та. 1967. № 20. С. 27 - 38; Фортунатов В.В. Секция научных работников как проводник идейного влияния Коммунистической партии на старую научную интеллигенцию (1923 — 1934 гг.) // Исторический опыт борьбы КПСС против буржуазной идеологии, оппортунизма и современность. Сборн. научн. тр. Л., 1979. С. 53 - 60; Он же. Борьба большевиков против буржуазного влияния на профессорско-преподавательский состав вузов в 1921 — 1927 гг. // Исторический опыт борьбы Коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Межвузов, сборн. научн. тр. Л., 1987. С. 18 - 29; Козлов Е.А. Из истории марксистских обществ научной интеллигенции в годы первой пятилетки // Партийное руководство общественными организациями в условиях строительства социализма в СССР. Л., 1981; Он же. Секция научных работников Ленинграда в годы первой пятилетки // Партийное руководство деятельностью общественных организаций интеллигенции в период социалистического строительства. Л., 1981. С. 80 - 95; Курепин А.А. Партийное руководство методологической перестройкой естествознания на базе диалектического материализма в период социалистического строительства (на материалах Ленинградской партийной организации ) // Исторический опыт борьбы Коммунистической партии против буржуазной идеологии в высшей школе в период строительства социализма. Л., 1987. С. 68 - 80. наук в 1926-1932 гг. А.В.Кольцов отвел показу участия ее общественных организаций в перестройке АН на основе нового Устава 1930 г.
Таким образом, направление, характер и результаты исследования проблемы власти и науки в 20-30-е гг. отражали общее кризисное состояние историографии истории советского общества, в котором она находилась в 70 -первой половине 80-х гг. под влиянием усилившихся консервативно-охранительных тенденций в политике и ужесточения идеологического контроля. Сохранявшаяся зависимость исторической науки от официальной идеологии, табу на изучение многих вопросов, предопределенность выводов, отсутствие свободных дискуссий по принципиальным вопросам истории советской науки и научной интеллигенции свидетельствовали об исчерпании прежней методологии и официальной концепции и лишали это направление в отечественной историографии благоприятной перспективы. Тем не менее, изучение проблемы власти и науки невозможно без учета результатов советской историографии. Во-первых, потому что она не оставалась застывшей, не была одноликой и не сводилась к догматике и апологетике. Во-вторых, критическое осмысление ее достижений и заблуждений необходимо для разработки современной неидеологизированной методологии исследования. Историки применяли единую для всех марксистско-ленинскую методологию, но достигали неодинаковых результатов. Работы по истории организации советской науки и научной интеллигенции отличались уровнем научности и объективности, глубиной анализа и проникновения в конкретно-исторические реалии, степенью ангажированности и мерой апологетики власти. В работах советского периода обобщен огромный фактический материал, в них содержится много ценных наблюдений и суждений, аргументированных оценок и заключений частного характера. В процессе анализа и использования результатов советской историографии необходимо было отделить имевшиеся в ней элементы научности и
1 Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926 -1932 гг. С. 186-204. объективности от классово-партийной интерпретации, действительные достижения от политически детерминированных трактовок и выводов.
Наступившая с середины 80-х гг. эпоха перестройки и гласности оказала позитивное воздействие на отечественную историческую науку, открыла возможность широкого обсуждения и изучения прежде закрытых тем, заполнения белых пятен, переоценки устоявшихся стереотипов и, тем самым, переосмысления на новой методологической основе взаимоотношений государства и науки, власти и научной интеллигенции, всего сложного пути, пройденного советской наукой и особенно его начального, наиболее драматического этапа. Идеологический плюрализм разрушил прежнюю монополию официальной версии советской истории, способствовал зарождению нескольких концептуально-методологических направлений в новейшей историографии науки советского периода. Существенное влияние на постановку и исследование проблемы власти и науки оказывали возвращавшиеся на родину труды и воспоминания ученых из первой и третьей волн эмиграции из СССР, документы и материалы, помещавшиеся в печатных органах и изданиях российской эмиграции, зарубежная историография, расширявшийся доступ к ранее закрытым архивным материалам, публикация новых документов по истории науки в СССР, а также прежде не издававшихся писем известных ученых.
Начавшееся со второй половины 80-х гг. интенсивное изучение ранее запретных тем истории советской науки в основном концентрировалось вокруг проблемы власти и науки, которая довольно быстро трансформировалась в более широкую проблему функционирования науки в условиях тоталитарного государства. Первым результатом ее изучения стало появление в конце 80 — начале 90-х гг. большого числа публикаций, на новом материале освещавших различные аспекты истории советской науки. Резонанс в научном сообществе вызвала статья сотрудников Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники АН Д.А.Александрова и Н.Л.Кременцова в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», в которой были обозначены многие назревшие вопросы изучения социальной истории советской науки (ее огосударствление, идеологизация, монополизация, практика и последствия бюрократического планирования, принудительного обновления научных кадров, отставание вузовской науки, постепенное свертывание международных связей и др.) и содержались некоторые предварительные оценки1. Несмотря на спорность отдельных положений и обобщений, статья способствовала разрушению старых историографических штампов и намечала направление дальнейших исследований. В статьях, помещавшихся в исторических, научных, научно-общественных и литературно-общественных журналах, раскрывались малоизвестные и забытые страницы из истории взаимоотношений власти с учеными, истории научных учреждений (в частности, Академии наук), биографий ученых, идеологических и политических репрессий в науке. Значительная их часть относилась к научным учреждениям и ученым Ленинграда2. В журналах и сборниках стали публиковаться ранее не издававшиеся документальные материалы по истории советской науки, в том числе письма видных ученых различным адресатам3. Так обозначилось новое направление — соци
1 Александров Д.А., Кременцов H.JI. Опыт путеводителя по неизвестной Земле: Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917 - 1950 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. №4. С. 67-79.
2 Алпатов В.М. К истории советского языкознания: Марр и Сталин // Вопросы истории. 1989. № 1. С. 185 - 188; Брачев B.C. Укрощение строптивой или как АН СССР учили послушанию // Вестник АН СССР. 1989. № 4. С. 120 - 127; Он же. «Дело» академика С.Ф.Платонова //Вопросы истории. 1989. №5. С. 117-129; Тугаринов И.А. ВАРНИТСО и Академия наук (1927 - 1937 гг.). // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 4. С. 46 - 55; Юшкевич A.M. «Дело академика Н.Н.Лузина» //Вестник АН СССР. 1989. №4. С. 102 - 113; Алпатов В.М. Мартиролог востоковедной лингвистики // Вестник АН СССР. 1990. № 2. С. 110 - 112; Григорьян Н.А. Общественно-политические взгляды И.П.Павлова // Вестник АН СССР. 1991. № 10. С. 74 - 87; Кузнецов В.И. Возрождение правды об академике В.Н.Ипатьеве // Вопросы истории естествознания итехники. 1991. № 4. С. 65 - 75; Перченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» // Звенья. Исторический альманах. М., 1991. С. 163 - 235; Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно» (Новое об изгнании духовной элиты // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 61 - 84; Селезнева И.Н., Яншин Я.Г. Мишень - российская наука // Вестник РАН. 1994. № 9. С. 821 -827 и др.
3 Самойлов В., Виноградов Ю. Иван Павлов и Николай Бухарин //Звезда. 1989. №10. С. 94 - 120; «Я верю в силу свободной мысли.» Письма В.И.Вернадского И.И.Петрункевичу //Новый мир. 1989. №12. С. 204 - 221; Вернадский В.И. Из писем разных лет. Публ. и прим. С.Р.Микулинского // Вестник АН СССР. 1990. № 5. С. 77 -125; Слово в защиту культуры. Письма советских ученых руководителям партии и государства (1922 - 1934) // Вестник АН СССР. 1990. № 10. С. 110 - 117; Исповедь узника ОГПУ (неизвестная рукопись академика С.Ф.Платонова. Вступ. ст. и публ. В.С.Брачева // альная история советской науки, ставшее ведущим в историографии последнего десятилетия и включавшее исследование различных аспектов взаимоотношений между государством и наукой, учеными и властью в условиях тоталитарного режима. Уже в первой половине 90-х гг., наряду с журнальными публикациями, вышли первые тематические сборники по этой многоплановой проблеме. В них выявлялись истоки и механизм управляемой науки, последствия политико-бюрократического руководства, широко раскрывался феномен репрессированной науки \ Среди авторов сборников были В.М.Алпатов, В.В.Бабков, Г.Е.Горелик, Т.И.Грекова, Э.И.Колчинский, К.А.Ланге, И.И.Молчанов, Н.И.Невская, П.М.Полян, И.А.Тугаринов, М.Г.Ярошевский и другие. Постановочный, методологический характер имела вводная статья редактора двух сборников «Репрессированная наука» М.Г.Ярошевского, в которой показано влияние сталинизма на судьбы отечественной науки. Говоря о первых симптомах и прецедентах политизации науки (аресты и высылка ученых, начало принудительного внедрения марксизма в науку и др.), он, как и многие другие историки, указывал на существенное различие между относительно свободным положением науки и ученых в годы нэпа и той нездоровой обстановкой, которая искусственно нагнеталась вокруг и внутри науки в ходе «великого перелома» на рубеже 20-30-х г.г. В названных сборниках рассматривались особенности идеологизации, происходившей в отдельных науках (истории, политэкономии, психологии, педологии, языкознании, биологии, генетике), освещались малоизвестные, преимущественно мрачные и трагические страницы из истории этих наук, некоторых научных учреждений, в том числе Ленинграда (Института экспериментальной медицины, Пулковской астрономической обсерватории, Центрального географического музея), и биографий работавших здесь ученых — Н.И.Вавилова, В.Н.Ипатьева, П.Л.Капицы, Н.П.Лихачева, НЛ.Марра, В.П.Семенова-Тян-Шанского,
Вестник РАН. 1992. №9. С. 118-128; Каганович Б.С. Начало трагедии (Академия наук в 1920-е годы по материалам архива С.Ф.Ольденбурга //Звезда. 1994. №12. С. и др.
Л.С.Термена других. Стали выходить и первые монографические работы по различным вопросам истории советской науки 20-60- х гг. При этом в их освещении в конце 80-90- х гг. наметились три основных направления, так или иначе отражавшие различное отношение исследователей к советской истории, менявшуюся общественно-политическую ориентацию и научную позицию. Условно их можно назвать традиционно-позитивистским, радикально-негативистским и объективистским. Первое из них довольно быстро утратило свое прежнее безраздельное положение и оказалось вытесненным на историографическую периферию под усиливавшимся натиском представителей новой, радикально-негативистской волны. Однако возраставшая вначале популярность и, тем более, научная продуктивность этого направления вскоре также стали падать, поскольку слишком очевидной становилась его полемическая заостренность, предвзятость и политическая ангажированность. Выход из вновь возникшего историографического кризиса предложили сторонники третьего, объективистского направления, стремящиеся к преодолению крайностей в оценке исторического прошлого и воссозданию реального процесса научного строительства в 20-30-е годы во всей его сложности и противоречивости.
Деятельность высших органов государственной власти по руководству наукой в 20-30-е гг. (Ученого комитета ЦИК СССР, Комитета содействия работам АН СССР, Отдела научных учреждений СНК, Комитета содействия ученым при СНК СССР, НТО ВСНХ - Наркомтяжпрома) в традиционной тональности рассматривалась в учебных пособиях и докторской диссертации С.П.Стрекопытова . Отказываясь от некоторых апологетических моментов в освещении истории государственного руководства наукой, автор, по его признанию, исходил из категорий исторического материализма и поэтому одной
1 Наука и власть. Сборн. статей. М., 1990; Репрессированная наука. Под ред. М.ГЛрошевского. Вып. I. Л., 1991; Вып. II. Л., 1994; Философские исследования. Наука и тоталитарная власть. М., 1993.
2 Стрекопытов С.П. Высший совет народного хозяйства и советская наука. 1917 — 1932 гг. Учеб. пособие. М., 1990; Государственное руководство наукой в СССР (1936 - 1958). из причин деформаций в руководстве наукой и ее политизации с конца 20-х годов считал неправомерный механический перенос идей Ленина и классового подхода к научной политике, оправданного для эстремальной послереволюционной ситуации, в радикально изменившиеся условия. С аналогичных, в целом позитивных позиций Л.А.Опенкин в двух главах своей монографии рассматривал опыт КПСС по разработке и осуществлению научной политики в первые годы советской власти. Негативное влияние на развитие науки с середины 20-х гг. стали оказывать, по его мнению, искажение ленинских принципов в отношениях со старыми специалистами, а также массовые репрессии1. В политически менее ангажированной монографии Г.А.Лахтина, вышедшей в 1990 г., написанной в академическом, объективистском ключе, выявлены многие характерые черты и особенности четырех, согласно периодизации автора, основных этапов в развитии организационно-управленческих структур науки в 1917 - конце 80-х гг., отдельных ее секторов, кадрового, технического и информационного потенциала, а также в эволюции методов и функций управления (планирование, хозрасчет, оценка эффективности и результатов научной, оплата труда). В работе не затрагивались политическая составляющая, игравшая весьма важную роль в управлении наукой, процесс его бюрократизации, вопрос о статусе научных учреждений и работников, влияние репрессий на кадровый потенциал2.
Многие характерные черты утвердившегося в 90-е годы радикально-негативистского направления в историографии присущи работе Л.Г.Белявского, посвященной проблеме воздействия политики на науку и научную интеллигенцию в 20-30-е гг.3. В ней нет четкой постановки вопросов исследования, отсутствует документальная источниковая база, вместо анализа
Учеб. пособие. М., 1991; Организация управления наукой в условиях складывавшегося тоталитарного режима (20 - 30- е годы): Автореф. докт. дис. М., 1992.
1 Опенкин JI.A. Сила, не ставшая революционной (Исторический опыт разработки КПСС политики в сфере науки и технического прогресса. 1917 - 1982 гг.). Ростов-на Дону. 1990. С. 12-82.
ЛахтинГ.А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990.
3 Белявский Л.Г. Отечественная наука и политика (1920 - 30-е годы). Ростов-на Дону. 1996. проблемы изобилуют ссылки на публикации 90-х гг. и обличительные формулировки. Обозначенная как исследовательская, работа больше напоминает историографический обзор, в котором развенчиваются все позитивные оценки научной политики 20-30-х гг. в советской историографии и отдано безоговорочное предпочтение негативным выводам, преобладавшим в ту пору в исто-рико-научной литературе. В книге содержится много бездоказательных утверждений. Например о том, что создание Секции научных работников в 1923 г. было некой «компенсацией» научной интеллигенции за роспуск большинства (?) научных обществ, о полной неэффективности отраслевой науки, поддерживавшейся якобы исключительно из-за предпочтений и политических соображений большевистского руководства1. Хотя автор упомянул о необходимости некого «синтетического» подхода к изучению обозначенной проблемы с учетом многообразия точек зрения и признал существенное различие между научной политикой периода нэпа и 30-х гг. (как и взглядов большевистских вождей на нее), сам он применительно к обоим этапам придерживается односторонне разоблачительной позиции. Особое внимание уделено теме репрессий в науке, к которым в работах подобного рода фактически и сводится основное содержание научной политики тех лет. Книга не добавляет ничего нового в исследование и подлинное переосмысление проблемы науки и власти, она представляет собой свод уже не раз повторявшихся суровых обвинений в ее адрес за репрессивную политику по отношению к науке и научной интеллигенции.
Своебразная концепция социальной истории отечественной науки от начала XVIII до конца XX в. изложена в монографии С.И.Романовского, содерл жащей ряд интересных наблюдений, нетривиальных суждений и выводов . В основе его концепции лежит положение об особом статусе науки, изначально сложившемся, закрепившемся под «гнетом российской истории» и сохранившемся вплоть до демонтажа советского строя. Будучи искусственно прив
1 Там же. С. 21,96. л
Романовский С.И. Наука под гнетом российской истории. СПб., 1999. несенной в русскую жизнь в результате «насильственной инъекции» Петром I, наука, подчеркивает Романовский, в условиях тоталитарного режима (монархического, а затем коммунистического) всегда находилась в полной зависимости от правительства — финансовой, бюрократической и идеологической. Академия наук являлась обычным казенным учреждением, обслуживающим государственные интересы и была лишена возможности нормально, свободно функционировать. Власть относилась к науке потребительски, с точки зрения непосредственной выгоды, содействовала ее развитию лишь в той мере и в том направлении, которые отвечали ее экономическим и идеологическим интересам \ В книге содержится ряд оригинальных, хотя и нё бесспорных суждений - о союзе советской власти и науки как браке по расчету, о разбухании, экстенсивном развитии, бюрократизации и оскудении советской науки и др. 2. Вторая ее часть отведена идеологическим «особостям» (термин автора) советской науки, сложившимся уже в 20-е гг. и сохранявшимся цо конца века (преимущественно на примере Академии наук)3. К сожалению, их анализ и аргументация выдвинутых положений подменяются очередным гневным обличением научной политики большевиков, инвентаризацией ее пороков. Используя резкие определения и выражения, автор бездоказательно утверждает об утрате Россией половины своего интеллектуального потенциала в результате послереволюционной эмиграции, говорит о бредовых намерениях большевиков по отношению к науке, о бесполезности многих институтов и учреждений Академии наук, созданных в 20-е гг., об «оскоплении» русской науки, мутации ее в советскую, т. е. квази- и антинауку, о превращении гуманитарных наук в «стерильно марксистские» уже к концу 20-х гг., о быстром выращивании неполноценной в своей массе советской, псевдонаучной интеллигенции и полной изоляции советской науки от мировой4. Таким образом, парадоксы и действительные болезни советской науки интерпретируются как
1 Там же. С. 18-22.
2 Там же. С. 22, 131,152 - 153, 217 - 240.
3 Там же. 217-240.
4 Там же. С. 151, 155- 156, 161, 171, 185- 186,189,217-219. ее всеобщая и глубокая деградация. Абсурдность столь сурового приговора вынуждает автора делать оговорки, исключения и признания (о сохранении традиционного внутреннего уклада в Академии наук в течение первого десятилетия советской власти, о неодинаковой степени «стерилизации» различных наук и соответствии некоторых из них мировому уровню), которые явно диссонируют с основным пафосом книги1.
Гораздо более объективно история советской науки в контексте политических и социальных условий представлена в очерках американского исследователя Л.Р.Грэхэма, большая часть которых охватывает 20 - 30-х гг. XX в. Уникальность организационной структуры и этоса науки в советской России и СССР состояла, полагает автор, в синтезе дореволюционных форм и традиций и послереволюционных новаций, в сочетании факторов, стимулировавших развитие науки и тормозивших и даже исключавших его. Значительные достижения в ряде областей точных, технических и естественных наук в 20 — 50-е гг. объяснялись, по его мнению, несколькими причинами - весомым дореволюционным научным заделом, наличием большой группы выдающихся ученых и их учеников, огромной материальной и институциональной поддержкой науки со стороны советского правительства, сохранением Академии наук как центра фундаментальных исследований, развертыванием широкой сети прикладных НИИ, тотальной погруженностью многих ученых в научное творчество и их тогдашней интегрированностью в мировую науку. В то же время общие результаты и эффективность деятельности огромного научного сообщества в СССР оказались, отмечает Грэхэм, невысокими вследствие авторитарных методов руководства наукой, чрезмерной централизации управления и контроля на всех уровнях, ограниченной самостоятельности и инициативы научных работников, затратной системы финансирования, непредоленного разрыва между наукой и производством, политического давления на ученых.2
1 Там же. С. 21, 149, 155, 168, 185 - 193.
2 Грэхэм Л.Р. Очерки истории российской и советской науки. М., 1998. С. 9,92 - 109, 179-226.
В последнее десятилетие вышел ряд исследований по проблемам истории отдельных наук в 20-40-е гг. А.С.Сонин в своей работе подробно осветил истоки и этапы многолетней идеологической кампании в отечественной физике, направленной на борьбу с идеализмом, агностицизмом и релятивизмом, роль ее главных участников, в основном, философов-марксистов (с позиций классической физики выступавших против новейших открытий начала XX в.) и позицию оппонентов в лице видных ученых-физиков (А.Ф.Иоффе, С.И.Вавилов, Я.И.Френкель, Л.Д.Ландау, М.П.Бронштейн, В.А.Фок, И.С.Тамм)1. Противостояние власти и ученых в отечественной биологии, олицетворявшееся двумя фигурами - Н.И.Вавилова и Т.Д.Лысенко и приведшее в конечном счете к запрету научной генетики, подробно показано в книге В.Н.Сойфера, эмигрировавшего в конце 80-х гг. из СССР2. Драматические страницы в истории отечественной биологии воссозданы в книгах Александрова В.Я. и Шноля С.Э. . В работе Э.И.Колчинского подробно рассмотрены взаимоотношения между марксизмом, марксистской философией, ставшей идеологическим орудием новой власти, и биологией на социально-культурном фоне послереволюционной эпохи, история их «союза»', так и несостоявшегося, полагает автор, несмотря на огромные усилия по диалектизации биологии и формальное торжество в ней марксизма, достигнутое к началу 30-х гг. Анализ теоретических аспектов этой проблемы сочетается в книге с освещением ее конкретно-исторической, фактической стороны - деятельности марксистских учреждений, объединений, роли периодических органов естественнонаучного профиля, в том числе в Ленинграде, вклада отдельных диалектизаторов биологии и позиции большинства сообщества ученых-биологов \ Критическому анализу стала подвергаться советская историография (особенно ее советовед-ческое направление), развитие которой строилось на принципах классовости и
1 Сонин А.С. «Физический идеализм»: История одной идеологической кампании. М., 1994. л
Сойфер В.Н. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993.
3 Александров В.Я. Трудные годы советской биологии. СПб., 1992; Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки. М., 1997. партийности исторической науки и было тесно связано с зигзагами официальной идеологии. Социально-политические и научно-организационные условия ее становления и развития, основные этапы и результаты раскрываются в ряде сборников и статей . Общим недостатком многих постсоветских работ по истории отдельных наук является их односторонняя концентрация на ограничительно-запретительных и репрессивных сторонах научной политики, действительно нанесших колоссальный ущерб развитию науки. Она естественно объясняется прежней закрытостью для исследования именно такого рода вопросов. Но если автор в угоду собственной негативистской концепции замалчивает противоречащие ей факты, то создается новая, якобы объективная, а в действительности также тенденциозная (хотя и с противоположным знаком) картина. Односторонне негативистский подход не отражает реального сложного пути, пройденного советской наукой и не способствует его глубокому переосмыслению.
В изданиях и публикациях 90-х гг. по истории научных учреждений с большей или меньшей полнотой затрагиваются вопросы об их взаимоотношениях с органами власти в разные периоды, политизации и бюрократизации управления и тема репрессий. Новый взгляд на пройденный путь определенно просматривается, например, в юбилейном издании Института экспериментальной медицины. Разделы по истории развития и деятельности института в 1917-1941 гг. и его Ленинградского филиала после переезда института в Моу скву в 1934 г. написаны Т.И.Грековой . Значительная часть вышедшего в 1993 г. сборника памяти А.Ф.Иоффе и, прежде всего, очерк В.В.Косарева посвящены «белым пятнам» в истории Ленинградского физико-технического
1 Колчинский Э.И. В поисках советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в 20-х - начале 30-х гг.). СПб., 1999.
Советская историография. Сборн. статей. М., 1996; Историческая наука в России в XX веке. М., 1997; Артизов А.Н. Критика М.Н.Покровского и его школы (К истории вопроса) //История СССР. 1991. №1. С. 102 - 120; Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20 - начале 30-х годов XX века // Отечественная история. 1993. № 3. С. 143 - 158; Овсянников В.И. Историософские поиски на пороге XXI века. Научно-аналитический обзор. М., 1997.
3 Первый в России исследовательский центр в области биологии ,и медицины. К 100-летию Института экспериментальной медицины. 1890 - 1990. JL, 1990. С. 44-89. института1. На основе документов, опубликованных материалов и воспоминаний в нем показаны этапы репрессий, прослежены вехи биографии, причины и обстоятельства арестов и последующие судьбы многих крупных ученых и рядовых сотрудников института (с приложением указателя их имен). Подробные сведения о структуре, личном составе, основных направлениях и результатах деятельности ленинградских учреждений Академии наук СССР в первые годы после ее переезда в Москву содержатся в первом разделе книги А.В.Кольцова2. В нем упоминаются имена членов Академии и многих сотрудников ее ленинградских учреждений, подвергшихся репрессиям в эти годы. Некоторые эпизоды сложных, подчас напряженных отношений Академии наук с органами власти в 20-е гг. описаны в одном из разделов монографии В.С.Соболева3. Деятельность Академии истории материальной культуры после ее реорганизации в конце 20-х гг., замены вице-президентов академиков В.В.Бартольда и С.А.Жебелева партийными выдвиженцами и массовой кадровой чистки показана в статье А.А.Формозова4. О первом, ленинградском периоде в деятельности Института истории науки и техники АН, включая массовые репрессии, идет речь в статьях А.Н.Дмитриева и Э.И.Колчинского5.
Болезненный процесс обновления государственных устоев, происходивший с конца 80-х гг., обусловил повышение общественного и научно-профессионального интереса к проблемам прошлого, настоящего и будущего отечественной интеллигенции, переосмыслению ее роли в истории страны и особенно в переломные эпохи. В результате заметно оживились дискуссии и активизировалась исследовательская работа по этой теме историков, филосо
1 Косарев В.В. Физтех, Гулаг и обратно (белые пятна в истории Ленинградского физтеха) //Чтения памяти А.Ф.Иоффе. 1990. Сборн. научн. тр. СПб., 1993. С. 105- 177.
2 Кольцов А.В. Ленинградские учреждения Академии наук СССР в 1934 - 1945 гг. СПб., 1997. С. 9-87.
3 Соболев B.C. Для будущего России. СПб., 1999. С. 58- 104.
4 Формозов А.А. Академия истории материальной культуры — центр советской исторической мысли в 1932 - 1934 гг. // Отечественная культура и историческая мысль XVIII - XX веков. Сб. статей и материалов. Брянск. 1999. С. 5-32.
5 Дмитриев А.Н. Институт истории науки и техники в 1932 - 1936 гг. (ленинградский период) // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 2. С. 3 - 29; Колчинский Э.И. фов, науковедов. Эволюция общественных умонастроений интеллигенции и в том числе деятелей науки в период с февраля по октябрь 1917 г. была показана в монографии О.Н.Знаменского, вышедшей еще в 1988 г. и потому, естественно, написанной с позиций неизбежности и закономерности Октябрьской революции Тем не менее, данная проблема раскрыта весьма обстоятельно, на богатом фактическом материале и в целом объективно. Смену общественного подъема интеллигенции в первый послереволюционный период растерянностью и апатией летом - осенью 1917 г. автор объяснял ее буржуазным и мелкобуржуазным составом, слабой самоорганизацией, продолжавшимся при Временном правительстве расстройством хозяйства, культуры, науки, наконец, неверием в созидательные возможности рабочего класса, большевиков и социалистической революции В 90-х гг. нарастала интенсивность исследований по истории интеллигенции дореволюционного, советского и постсоветского периодов, происходила смена методологических координат, значительно обогатилась источниковая база, существенно обновилась тематика исследований. Оценка советской историографии варьировалась от умеренно критической до резко негативной. Осваивались и использовались новые методологические подходы к изучению истории отечественной интеллигенции. Утверждалась западно-либеральная концепция, возрождалась старосменовеховская традиция, заявили о себе неомарксистское и неославянофильское направления. Активизация исследований выражалась в возраставшем количестве статей, монографий, диссертаций, документальных публикаций, в заметно оживившихся дискуссиях. На исследования большое влияние оказывают другие, также обновляющиеся гуманитарные науки - философия, социология, социальная психология, культурология. А.В.Квакин исследовал идейно-политическую структуру интеллигенции в годы нэпа, дал характеристику ее основных слоев и групп, принципиально не отличающуюся от той, что уже давно утвердилась
История науки в городе на Неве //Вопросы истории естествознания и техники. 2003. №3. С.3-45;
1 Знаменский О.Н. Интеллигенция накануне Великого Октября (февраль - октябрь 1917 г.). Л., 1988. в исторической литературе . В книге В.А.Куманева обобщены многочисленные факты принуждения, насилия и террора (идеологического и политического) власти по отношению к интеллигенции в 30-е годы . Оригинальный подход к проблеме представлен в очерках А.Е.Корупаева, посвященных теории и истории интеллигенции в России (включая советский период). Однако содержащийся в них анализ, на наш взгляд, не всегда глубок и часто подменяется заостренной публицистичностью4. Проблемам истории отечественной интеллигенции посвящались научные конференции, регулярно проходившие в 90-е гг. и в начале нового века в Екатеринбурге, Иванове, Новосибирске, Петербурге. На их основе вышло большое число сборников статей и тезисов докладов, издавались и тематические сборники 5. Некоторые из публикаций, помимо конкретно-исторического анализа, содержали обобщения и выводы, с определенной коррекцией применимые ко всем группам интеллигенции, в том числе и к научным работникам. Обоснованной представляется, в частности, предварительная оценка идейно-политической дифференциации российской интеллигенции в период гражданской войны, нэпа и в 30-е годы, данная В.С.Волковым. Он высказал и ряд ценных суждений, касающихся такого широко распространенного явления, как вынужденное приспособление старых интеллигентов к новой, советской действительности, а также некоторые мето
1 Там же. 298 - 335.
2 Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период нэпа. 1921-1927. Саратов. 1991.
3 Куманев В.А. 30-е г. в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991.
4КорупаевА.Е Очерки интеллигенции России. В 2-х частях. М., 1995.
5 Российская интеллигенция. Страницы истории. Межвуз. сборн. научн. тр. СПб., 1991; Судьбы российской интеллигенции. Мат-лы дискуссии. 1923 - 1925. Новосибирск. 1991; Российская интеллигенция: XX век. Тез. докл. и собщ. научн. конф. Екатеринбург, 23 - 24 февраля 1994. Екатеринбург. 1994; Интеллигенция России; уроки и истории и современность. Тез. докл. межгос. научн,- теор. конф. Иваново, 20 - 22 сент. 1994. Иваново, 1994; Интеллигенция. Общество. Власть: Опыт взаимоотношений (1917 - конец 1930-х гг.). Сб. научн. тр. Новосибирск, 1995; Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. Тез. докл. и собщ. научн. конф., Санкт-Петербург, 19-20 марта 1996. СПб., 1996; Интеллигенция России: традиции и новации. Тез. докл. межгос. научн.-теор. конф., Иваново, 25 - 27 сент. 1997. Иваново. 1997; Интеллигенция России в истории XX века: неоконченные споры: К 90-летию сборника. «Вехи» Тез. докл. и сообщ. все-росс. научн. конф. 24 - 25 дек. 1998. Екатеринбург, 1998; Русская интеллигенция: История и судьбы: Сборн. ст. Вып. 1.М., 1999; Вып. 2. М., 2000. дологические положения по проблеме «интеллигенция и сталинизм»1. Из немногих статей в упомянутых сборниках, посвященных научной интеллигенции, можно отметить публикации Г.Л.Соболева (о позиции ученых в 1917 г.), В.Л.Соскина (о борьбе профессуры за автономию высшей школы в 1921—1922 гг.), Д.В.Лобока (о Секции научных работников в 1923-1934 гг.), В.Л.Черняева (об ученом-правоведе Н.С.Таганцеве) . В ряде сборников и во многих статьях проблема интеллигенции рассматривается в историко1 философском плане . Значительному обновлению подверглась обширная научно-биографическая литература последнего пятнадцатилетия, в том числе издания научно-биографической серии Института истории естествознания и техники РАН 4. Многие авторы биографий работавших в Ленинграде ученых
1 Волков B.C. Идейно-политические позиции интеллигенции СССР в конце 30-х гг. // Российская интеллигенция: XX век. Тез. докл. и сообщ. научн. конф. С. 32 - 34; Он же. Русская интеллигенция в гражданской войне: позиция, функция, роль // Интеллигенция России: уроки истории и современность. С. 40-41; Он же. Интеллигенция и советская власть в первое послеоктябрьское десятилетие // Российская интеллигенция на историческом переломе. С. 6 - 9; Он же. Адаптация «старого» интеллигента к советской действительности //Личность и власть в истории России XIX-XX вв. Мат-лы научн. конф. СПб., 1997. С. 43 - 47; Он же. Интеллигенция и сталинизм: основные грани проблемы и этапы ее отечественной историографии //Интеллигенция и интеллигентоведение на рубеже XXI в.: Итоги пройденного пути и перспективы. Тез. докл. Х-й международ, научн-теорет. конф. 22 — 24 окт. 1999 г. Иваново. 1999. С. 39-41.
2 Соболев Г.Л. Русская революция 1917 г. и ученые // Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. С. 89 - 92; Соскин В.Л. Борьба за автономию высшей школы в советской России (1921 - 1922 гг) // Интеллигенция и проблема формирования гражданского ообщества в России. Тез. докл. всеросс. конф. 14 - 15 апреля 2000 г. Екатеринбург, 2000. С. 199 - 201; Лобок Д.В. Секция научных работников в 1923 - 1927 гг. // Российская интеллигенция. Страницы истории. С. 26 - 43; Черняев В.Ю. Ученый, власть и революция: парабола судьбы Н.С.Таганцева // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. Сб. статей. СПб., 1996. С. 161 -183.
Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2000; Соколов К.Б. Мифы об интеллигенции и историческая реальность //Там же. С. 149-208 и др.
4 Еремеева А.Й. Жизнь и творчество Б.П.Герасимовича (К 100-летию со дня рождения). //Историко-астрономические иследования: Минувшее. Современность. Прогнозы. М., 1989. Вып. XXI. С. 253 - 301; Орлова Н.Б. Максимиллиан Максимиллианович Мусселиус (1884 - 1938) и Дмитрий Иванович Еропкин (1908 - 1938) // На рубежах познания Вселенной. М., 1992. С. 144 - 226; Горелик Г.Е., Френкель В.Я. Матвей Петрович Бронштейн. 1906 - 1938. М., 1990; Кузнецов В.И., Максименко A.M. Владимир Николаевич Ипатьев. 1867- 1952. М., 1992; Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995; Сонин А.С., В.Я.Френкель. Всеволод Константинго-вич Фредерике. 1885- 1944. М., 1995; Брачев B.C. Русский историк С.Ф.Платонов. СПб., 1997; Урвалов В.А. Твой сын, Петербург. Александр Павлович Константинов (1895 -1937). СПб., 1997; Аксенов Т.П. Вернадский В.И. М., 2001; Твардовская В.А. Николай теперь обращаются и к тем сторонам их личности и деятельности, которые прежде из-за цензурных ограничений либо искажались, либо излагались поверхностно. Речь идет не только об их реакции на Октябрьскую революцию и большевистский режим, но и общественно-политической позиции в целом, мировоззренческих взглядах, отношении к проводимой научной политике, реорганизациям, чисткам, репрессиям, взаимодействии и нередких столкновениях с властью. Подробно освещаются обстоятельства арестов и последующие судьбы репрессированных ученых. Вопросу о гражданской и научно-мировоззренческой позиции И.П.Павлова отведена большая глава его фундаментальной биографии, опубликованной Н.А.Григорян1. Монография Л.С.Леоновой целиком посвящена анализу эволюции научно-мировоззренческих и общественно-политических взглядов В.И.Вернадского . Оба великих ученых, как показывают их биографы, резко осудили октябрьский переворот большевиков. Не разделяя их социальную утопию и идеологию, они, тем не менее, тесно сотрудничали с новой властью во имя развития отечественной науки, занимали активную государственно-патриотическую позицию и признавали созидательный компонент в действиях советской власти. Но одновременно ученые резко выступали против подчинения науки политике и идеологии, насильственного насаждения марксизма (научную значимость которого подвергали сомнению), решительно осуждали репрессивные направления в политике и пытались им противодействовать3.
В целом современная историография отечественной интеллигенции 2030-х гг. отошла от многих упрощенных, идеологизированных схем, стереотипов недавнего прошлого и существенно обогатилась новыми подходами, идеями, концепциями и выводами. Разрушен прежний миф об исключительно
Морозов: от революционера-террориста к ученому-эволюционисту //Отечественная история. 2003. №2. С. 50-72 и др.
Григорян Н.А. Иван Петрович Павлов. 1849 - 1936. Ученый. Гражданин. Гуманист. К 150-летию со дня рождения. М., 1999. С. 131 -172.
2 Леонова Л.С. «Я не могу уйти в одну науку.» Общественно-политические взгляды В.И.Вернадского. СПб., 2000.
3 Григорян Н.А. Указ. соч. С. 137 - 146, 170 - 171: Леонова Л.С. Указ. соч. С. 224-228, 254-285, 309-331.
РОССИЙСКАЯ 41 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
Б'ЛБ/иФТЕЯА благотворном влиянии на интеллигенцию Октябрьской революции и политики большевиков, постепенном ее перевоспитании и окончательном превращении (к середине 30-х гг.) в социалистическую. Складываются более адекватные представления о ее структуре, облике и общественном поведении, сложном переплетении сотрудничества с властью и различных проявлений оппозиции режиму. Появились различные оценки советской интеллигенции, ее типологических черт, места и роли в обществе. Выявляются преемственность и особенности дореволюционной, советской и постсоветской генераций интеллигенции. Анализируются многие ранее не затрагивавшиеся аспекты взаимоотношений власти и интеллигенции в советский период, в том числе проблема интеллигенции и тоталитаризма, конформизма, его форм, границ и последствий. Современная историография интеллигенции 20-30-х m переживает болезненный процесс поиска новой методологии, на этом пути получены первые важные результаты. И все же пока преобладает критика официальной советской концепции, устоявшихся ранее представлений. Многие вопросы только обозначены, на смену старым подчас приходят новые мифы, редки примеры всестороннего, комплексного анализа и глубоких новаторских обобщений. Что же касается истории собственно научной интеллигенции в 20-30-е гг., то ее современная концепция формируется в виде отдельных элементов, преимущественно в контексте истории советской науки и интеллигенции в целом и пока что не выделена в самостоятельную проблему. За весь пстсоветский период, как это ни парадоксально, не вышло ни одной монографии и какой-либо крупной публикации, хотя уже изданные новые документальные материалы, казалось бы, создают предпосылки для обобщающих исследований. К позитивному вкладу современной историографии истории науки и научной интеллигенции следует отнести начавшееся с конца 80-х гг. широкое исследование темы репрессий (идеологических и политических) в науке в 20-50-е гг. Чаще и успешнее этим занимаются историки науки. Она раскрывается в масштабе страны, на материалах истории отдельных наук, регионов, учреждений, в том числе Ленинграда, и трагических судеб многих известных ученых и рядовых тружеников науки.
Таким образом, за последние пятнадцать лет была проделана определенная работа по переосмыслению истории советской науки в 20- 30-е гг., особенно ее социальных аспектов, накоплению материала и предварительных оценок, необходимых для создания новой, современной концепции. Наиболее заметные результаты были достигнуты в изучении многоплановых последствий подчинения науки и ученых формировавшемуся тоталитарному режиму и его политике, процесса идеологизации науки, трагических страниц в истории отдельных научных учреждений и биографии ученых. В то же время многие вопросы организации и социальной истории советской науки в 20-30-е гг. остаются слабо исследованными или вовсе незатронутыми. К ним относятся деятельность местных партийных и советских органов по руководству наукой, советизация, радикальная реорганизация, внутреннее управление и деятельность научных учреждений в новых условиях, их взаимоотношения с властными структурами, политика и практика формирования научных кадров, роль общественных организаций, методы «перевоспитания» и методологического «переворужения» научных работников, общественная и научно-мировоззренческая позиция различных слоев научной интеллигенции, формы ее противостояния власти в разные периоды. В воссоздании неполитизиро-ванной и более объективной истории научного Ленинграда в один из самых сложных и драматических периодов его развития также сделаны только первые шаги, и она представлена пока лишь отдельными разрозненными фрагментами и сюжетами.
Источниковую базу диссертации составляют как опубликованные источники, так и выявленные в отечественных архивах. Использованные в диссертации опубликованные источники по своему происхождению и содержанию представлены несколькими видами. Это, во-первых, документы и материалы высших органов партийно-советской власти и управления по вопросам восстановления и ускоренного развития народного хозяйства, преобразованиям в сфере культуры, высшей школы и науки — резолюции партийных съездов, конференций, Пленумов ЦК, директивы к составлению пятилетних планов, декреты и постановления Совнаркомов РСФСР и СССР. Они публиковались в официальных периодических изданиях РКП(б) - ВКП(б), советского правительства и их последующих переизданиях, а также в издававшихся в разное время документальных сборниках1. Эти документы более или менее адекватно отражали реальную политику РКП(б) — ВКП(б) и советского правительства в сфере науки и высшей школы. Наряду с идеологическими штампами и пропагандистскими лозунгами в них формулировались долговременные цели и ближайшие задачи, давались конкретные указания, намечались практические мероприятия по развитию науки и высшей школы в рамках общегосударственных преобразований.
Следующую группу источников составили документы и материалы высших партийных, советских, правительственных и научно-административных орган, непосредственно относящиеся к организации науки в стране и раскрывающие основные направления и методы руководства наукой, цели и результаты перестройки научных учреждений, процесс сближения их с социалистической практикой, реорганизацию подготовки научных кадров, содержание политико-идеологической работы с научной интеллигенцией. Постановления по этим вопросам, по результатам проверрк и докладов научных учреждений, материалы инструктивно-методического и информационно-справочного характера публиковались в официальных изданиях РКП(б) -ВКП(б), Наркомпроса, ВСНХ, Наркомтяжпрома, сборниках документов, выходивших в 20-30-е гг., и в документальных сборниках по истории организации советской науки, изданных в 60-70-е гг. . Значительная часть содержав
1 Справочник партийного работника. Вып. I - VIII. М., 1920 - 1934; Известия ЦК РКП(б). М., 1920 - 1929; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. М., 1918 - 1922; Собрание узаконения и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1922 - 1937; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2 - 7. М., 1983 - 1985; Декреты Советской власти. Т. III. М., 1964; Т. IX. М., 1978; Т. XI., 1983.
2 Бюллетень Наркомпроса. М., 1920 - 1930; Еженедельник Наркомпроса. М., 1918 - 1930; Директивы Наркомпроса по вопросам просвещения. М,; JL, 1931; Организация советской шихся в них материалов касалась научных учреждений Ленинграда. Направления и методы политического руководства высшим научным учреждением страны - Академией наук в 20-30-е гг. раскрываются в новом документальном сборнике решений Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и материалов к ним, большая часть которых опубликована впервые \ В партийных документах главное внимание уделялось задачам кадровой политики, советизации и «коммунизированию» руководящего состава научных учреждений и вузов, ускорению их реорганизации, идеологическим аспектам, подготовке новых кадров для науки и высшей школы. Директивы ведомственных научно-административных органов охватывали все стороны деятельности научных учреждений и нацеливали на повышение ее конечных результатов, сближение с практикой.
Некоторые стороны деятельности партийных и советских органов Петрограда-Ленинграда по руководству реформой вузов и перестройкой научных учреждений, прежде всего, по решению организационных, кадровых, матери-ально-хозяйственых вопросов и политической работе с научной интеллигенцией отражены в изданиях губкома РКП(б), обкома ВКП(б), губисполкома, облисполкома и Ленсовета - бюллетенях, отчетах, материалах и резолюциях партийных конференций . По содержанию эти документы и материалы отличались бессистемностью и фрагментарностью. В них оценивалось, часто тенденциозно, выполнение партийно-правительственных установок на преобразование науки и высшей школы, с учетом местных условий намечались очередные задачи и практические меры для их решения. Партийные директивы, конкретизировавшие их правительственные декреты и постановления местных науки в первые годы Советской власти (1917 - 1925 гг.). Сборник документов. Л., 1968; Организация советской науки в 1926 - 1932 гг. Сборник документов. Л., 1974 и др.
1 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б). 1922 - 1952. М., 2000.
2 Сборник материалов Петроградского комитета РКП(б). Вып. 3-6. Пг., 1921 - 1923; Бюллетень Ленинградского губкома (обкома) РКП(б) - ВКП(б). Пг. - Л., 1925 - 1934; Ко 2-й Ленинградской областной конференции ВКП(б). Отчет областного комитета ВКП(б). Ноябрь 1927 г. - февраль 1929 г. Л., 1929; Отчет Петроградского губернского отдела народного образования. 1918-1923. Пг., 1923; Отчет о работе Секции просвещения Ленинградского Совета 11-го созыва. Л., 1929. властей имели важное значение для научных учреждений и вузов, во многом определяли их развитие. Вместе с тем, при их анализе и оценке необходимо было отделять формулировавшиеся конкретные задачи от идеологического антуража (это особенно относится к партийным документам), учитывать практику сопровождения директив конкретизирующими их приказами и инструкциями, а также большее или меньшее несоответствие между руководящими установками и фактическими результатами деятельности научных учреждений.
Для характеристики условий, основных направлений и оценки результатов деятельности научных учреждений большую ценность представляли их официальные отчеты, публиковавшиеся отдельными изданиями, а также в трудах, известиях, записках, бюллетенях и вестниках1. В опубликованных от-щ четах научных учреждений главное внимание уделялось их достижениям, отмечались также и трудности в работе, в основном, финансового и материального характера. Недовольство стилем руководства со стороны научно-административных органов выражалось в этих отчетах в весьма сдержанных тонах. В первое советское десятилетие критика в адрес руководящих инстанций еще могла быть острой и нелицеприятной, с конца 20-х гг. она резко сокращается и ее тональность значительно смягчается. Обобщенный материал, % причем, нередко с негативными оценками и выводами, содержится в издававшихся в 20-30-е гг. сводных аналитических обзорах, составленных научно-административными органами на основе отчетов ведущих научных учреждений и вузов страны, включая ленинградские2. Достижения многих научных учреждений Ленинграда в первой и начале второй пятилетки показаны в сбор
1 Отчет о деятельности Российской академии наук за 1918 год. Пг., 1919. Подобные отчеты регулярно выходили с 1917 по 1937 г.; Отчет о деятельности Главной палаты мер и весов с IX. 1928 г. по 1. Х.1929 г. М.,; Л., 1930; Отчет о деятельности Главной астрономической обсерватории в Пулкове с 1 октября 1928 г. по 30 сентября 1929 г., составленный ее директором. Л., 1930 и др.
2 Деятельность высших учебных заведений в 1925/26 учебном году. Вып. III. Научно-исследовательская работа вузов. М., 1927; Университеты и научные учреждения к XVII
Щ съезду ВКП(б). М., 1934; Научно-исследовательские институты промышленности.
М.-Л., 1935. нике «Научный Ленинград к XVII съезду ВКП(б)» (Л., 1934). Многие стороны деятельности Академии наук в 1917 - 1934 гг. (ленинградский период) отражены в ее юбилейных изданиях и документальных сборниках, изданных в 80-е гг.1.
Важные для исследования данные о научных учреждениях и научных работниках Петрограда - Ленинграда содержатся в изданиях справочного характера, выходивших в 20-30-е гг.2. Следует иметь в виду,' однако, что имеющаяся в них информация крайне лаконична и сводится к самым общим сведениям. Разнообразные официальные материалы по вопросам организации науки, деятельности научных учреждений и социально-правового положения научных работников помещены в «Справочнике научного работника» (Л., 1925, 1935). Многие события и факты из истории организации науки и научно-общественной жизни в СССР и в Ленинграде в 20-30-е гг. зафиксированы в документально-хроникальных изданиях по истории советской культуры3.
Материалы по организации профессионально-союзной работы с научной интеллигенцией (научно-производственной, социально-правовой, культурно-просветительной, шефской) представлены в ряде документальных изданий -общесоюзных, республиканских и местных4.
Значительную часть опубликованных и использованных источников представляют документы и материалы биографического характера — речи, статьи, официальные обращения, письма, дневники, мемуары работавших в Ленинграде ученых5. На структуре и содержании документальных сборников,
1 Академия наук за десять лет. 1917 - 1927. JL, 1927; Документы по истории Академии наук СССР. 1917 - 1925 гг. М., 1986; Документы по истории Академии наук СССР. 1926-1934 гг. Л., 1988.
Научные работники Петрограда. Пг., 1923; Научные учреждения Ленинграда. Л., 1926; Научные работники Ленинграда. Л., 1934.
3 Культурная жизнь в СССР. 1917-1927: Хроника. М., 1975; 1928 - 1940. М„ 1976.
4 Пять лет работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР (Цекубу). 1921 - 1926. М., 1927; Отчет о работе месткома Академии наук за период январь - ноябрь 1930 г. Л., 1930; Отчет Центрального комитета профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений СССР (декабрь 1934 г. - сентябрь 1937 г.). М., 1937. е
Научно-организационная деятельность академика А.Ф.Иоффе. Сборник документов. Л., 1980. Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. Научное наследство. Т. 5. издававшихся в 60-е — первой половине 80-х гг., отразился избирательный, тенденциозный подход составителей и редакторов к подбору публикуемых материалов, призванный замалчивать те сведения о жизни и деятельности ученых, которые расходились с их официальными, ретушированными биографиями. Начиная с середины 80-х гг. в таких изданиях и публикациях, в том числе журнальных, стали помещаться ранее не публиковавшиеся документы и материалы. В отличие от предшествующих изданий, они .полнее раскрывают многие стороны и малоизвестные факты научно-организаторской и научно-общественной деятельности ученых, их профессиональную и гражданскую позицию. Для оценки общественной позиции различных групп научной элиты Ленинграда, их отношения к реорганизации Академии наук, правящему режиму и его политике определенную ценность представляют опубликованные следственные материалы по «делу академиков» 1929-1931 гг.1. При этом следует иметь в виду обстоятельства их появления, жесткое давление, использованное органами ОГПУ для получения от С.Ф.Платонова и Е.В.Тарле признательных показаний, сфальсифицированный характер большинства предъявленных им обвинений. Сведения о большой группе сотрудников научных учреждений и вузов Ленинграда, репрессированных в 1937-1938 гг., содержатся в многотомном сборнике «Ленинградский мартиролог»2.
Одним из важных источников для исследования служила периодическая печать и, прежде всего, издававшиеся в 20-30-е гг. журналы - общесоюзные научные, научно-общественные и научно-идеологические («Научный работник», «Социалистическая реконструкция и наука», «Фронт науки и техники», «Вестник Академии наук СССР», «Бюллетень ВАРНИТСО», «Вестник Ком
1911 - 1928. М.,' 1980; Т. 10. 1929 - 1940. М., 1987; Проблемы организации науки в трудах советских ученых. 1917 - 1930-е годы. Сборник материалов и документов. М., 1991; . В.А.Стеклов. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания. Научное наследство. Т. 17. Л., 1991; Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М., 1994; Ухтомский А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб., 1996; Вернадский В.И. Дневники: 1926 - 1934. М., 2001 и др.
1 Академическое дело. 1929- 1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993; Вып. 2.4.1-2. СПб., 1998.
2 Ленинградский мартиролог. 1937 - 1938. Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1 -4. СПб., 1995-1999. мунистической академии», «Под знаменем марксизма», «Естествознание и марксизм»), периодические издания научных учреждений, организаций и обществ Петрограда-Ленинграда («Наука и ее работники», «Записки научного общества марксистов», «Проблемы марксизма»). В них содержится богатый материал официального и текущего характера по различным аспектам социальной истории науки в Ленинграде. В процессе исследования привлекались также центральные и местные газеты («Правда», «Известия», «Петроградская правда», «Ленинградская правда»), многотиражные газеты некоторых научных учреждений (в том числе «За социалистическую науку» — орган общественных организаций Академии наук). Периодическая печать чутко отражала менявшуюся атмосферу в стране, происходившую с конца 20-х гг. политизацию науки и наступление на старую интеллигенцию, она всегда оставалась рупором официального общественного мнения.
Важнейшую источниковую базу диссертации составляют архивные документы. Часть использованных в диссертации документов и материалов выявлена в трех российских государственных архивах, а основной их массив — в четырех архивах Санкт-Петербурга. Были изучены и использованы документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.), Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.), Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук (ПФА РАН). В РГАСПИ, в фонде ЦК РКП(б) - ВКП(б) (ф. 17) выявлены документы, охватывающие 1920-1937 гг. и раскрывающие цели и методы политической работы в сфере науки и высшей школы, в том числе в Петрограде - Ленинграде. Это материалы Отдела агитации и пропаганды о работе всероссийского совещания по вопросам народного образования, всероссийской конференции комячеек вузов; материалы о реформе высшей школы, записка А.В.Луначарского в ЦК о задачах научно-исследовательских институтов; протоколы вузовской комиссии при Орготделе ЦК и подкомиссии по подготовке научно-педагогических кадров; документы об организационно-политической работе в вузах, деятельности коммунистической профессуры и Группы левой профессуры в Петрограде, материалы Петроградского (Ленинградского) губкома РКП(б) и протоколы вузовской комиссии при его агитпропотделе, списки аспирантов ленинградских вузов, доклад об обследовании партработы в вузах Ленинграда; протоколы пленумов и заседаний бюро обкома и горкома ВКП(б) в 1936-1937 гг. Из фонда А.А.Жданова (ф. 77) извлечены и использованы его выступления на совещаниях и заседаниях бюро горкома с осуждением работы Всесоюзного института растениеводства и Педологического института.
В делах Комитета по заведыванию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР ГА РФ за 1929-1935 гг. (ф. 7668) были извлечены документы, характеризующие не только работу этого органа, но и деятельность подведомственных учреждений. Были обнаружены доклад и постановление по обследованию Арктического института (май 1931 г.), отчеты, материалы и постановления о работе Ленинградского отделения Коммунистической академии, постановление Президиума ЦИК по докладу АН СССР (август 1935 г.), переписка по вопросу о передаче Пулковской обсерватории в ведение АН СССР (1930-1931 гг.). В фонде Главнауки Наркомпроса (ф. 2307) изучена переписка с Петроградским отделением Академического центра, протоколы его коллегии, положения и уставы научных учреждений, отчеты некоторых из них, материалы обследования (в частности, Академии наук), положение о координации работы научных учреждений Наркомпроса и НТУ ВСНХ. В РГАЭ, в фонде НТО ВСНХ (ф. 3429) выявлены постановления его коллегии, касающиеся учреждений Петрограда, переписка с Петроградским отделением НТО, положения о ПОНТО и Объединенном научно-техническом совете Ленинграда, отчеты различных комиссий ОНТС. Эти документы показывают функции и роль научно-управленческих структур в организации и развитии науки в Петрограде-Ленинграде, задачи, ставившиеся перед научно-техническими институтами, результаты их деятельности и оценку руководящими инстанциями.
Впервые проведенный широкий, многоуровневый анализ различных по содержанию и назначению документов, находящихся в ЦГАИПД СПб., в частности, в фондах губкома, обкома, горкома, шести райкомов РКП(б)-ВКП(б), а также партийных организаций ряда научно-исследовательских учреждений и вузов (постановления, протоколы, отчеты, материалы обследований, сводки, докладные записки, письма, обращения и др.), позволил выяснить специфические функции местных партийных структур в осуществлении партийно-государственной политики в сфере науки и по отношению к научной интеллигенции. Для анализа круга полномочий и деятельности местных советских органов по управлению научными учреждениями и вузами, оценки их места в системе централизованно-ведомственного руководства наукой большое значение имели документы, выявленные в фондах ЦГА СПб., - Ленсовета (ф. 1000, 7384), Ленинградского отделения Главнауки Наркомпроса (ф.
2555), Управления уполномоченного Наркомпроса по вузам и рабфакам (ф.
2556), Ленинградского отделения НТО ВСНХ (ф. 1178, 2279), Управления уполномоченного НКТП по Ленинграду (ф. 1957), Управления учебными заведениями НКТП, Ленинградской инспекции ГУУЗ НКТП (ф. 4441). Изучены были также содержащиеся в этих фондах отчеты научных учреждений, обществ и вузов, результаты их проверок, материалы различных совещаний, информационно-аналитические сводки о состоянии материально-технической базы, организации научно-исследовательской работы, усилении ее связи с потребностями производства, обновлении руководящего состава, подготовке и аттестации научных и научно-педагогических кадров, мерах по улучшению их материально-бытовых условий. Они позволили выяснить основные тенденции, общие проблемы и трудности в развитии и деятельности научных учреждений и вузов, положении работников науки и высшей школы, а также результативность мер, предпринимавшихся для их разрешения. Использованы и документы из фондов вузов этого архива (всего более 10), содержащие сведения о профессорско-преподавательском составе, финансировании и результатах научно-исследовательской работы вузов, ее связи с производством, о работе аспирантуры и результатах различных проверок. Документы, выявленные в фондах губернской, затем областной организации Секции научных работников Всерабпроса (ф. 6307) и Союза работников высшей школы и научных учреждений (ф. 9363) раскрывают основные направления, формы и результаты их работы по «перевоспитанию» научной интеллигенции.
Для изучения производственных и социальных условий деятельности научных коллективов большую ценность представляли документы, выявленные в находящихся в ЦГАНТД СПб. фондах НИИ - межотраслевых научно-прикладных, отраслевых научно-технических, сельскохозяйственных, медицинских. Всего было изучено более 20 фондов научных учреждений. Они отличаются степенью сохранности, полнотой отражения отдельных периодов развития и направлений деятельности институтов, но в совокупности дают богатый и ничем невосполнимый материал для исследования. Это документы директивного-инструктивного характера, материалы о финансировании, бюджетах, состоянии материальной базы, направлениях и итогах научно-исследовательской и научно-производственной работы, выполнении планов, по вопросам организации и условий труда, руководящему и личному составу, материалы проверок, обследований, письменные и устные доклады в вышестоящих органах и решения по ним, сведения об арестах сотрудников и др. Для изучения слабо освещенных сторон развития, деятельности и общественной жизни Академии наук, настроений в академической среде потребовалось обращение к документам ПФА РАН, в частности, находящимся в фондах Конференции (Общего собрания) АН и Канцелярии Конференции (ф. 1, 2), Локального бюро СНР и организации ВАРНИТСО АН (ф. 244, 245), а также в личных фондах президента АН акад. А.П.Карпинского (ф. 265), академиков В.А.Стеклова (ф. 162), Д.С.Рождественского (ф. 341), Н.С.Державина (ф. 827), чл.-корр. Б.Н.Меншуткина (ф. 327). В архиве были выявлены также документы Научного общества марксистов Петрограда (ф. 238), Ленинградского института марксизма (ф. 233, 2325) и его преемника Ленинградского отделения Комакадемии (ф. 225), Института естествознания ЛОКА (ф. 232). Документы этих фондов редко привлекали внимание исследователей, между тем упомянутым учреждениям принадлежала значительная роль во внедрении марксизма в общественные и естественные науки, методологическом «перевооружении» научных работников. Ранее не предпринимавшийся комплексный анализ архивных документов местных партийных, советских, научно-административных органов, а также научных учреждений и вузов, общественных организаций научной интеллигенции позволил осветить многие неизученные вопросы и малоизвестные аспекты социальной историй научного Петрограда-Ленинграда, развертывавшейся под жесткой опекой власти и нелегким бременем ее политики.
В основу структуры диссертации положен проблемно-хронологический принцип. Три ее главы соответствуют трем взаимосвязанным и, вместе с тем, своеобразным периодам в организации советской науки и истории научной интеллигенции. В 1917- 1925 гг. происходило становление советской системы управления и организации науки, направленной на ее возрождение, развитие и подключение научных работников к хозяйственно-культурному строительству. В 1926-1932 гг., в условиях резкого поворота в политике осуществлялась радикальная перестройка организации науки, усиливались политизация и централизация управления, давление на научную интеллигенцию с целью полного подчинения новому курсу и поворота науки к потребностям форсированных преобразований. В 1933-1937 гг. окончательно сложились принципы, формы и характерные черты системы организации, руководства и управления наукой, взаимоотношений с научной интеллигенции, соответствовавшие условиям и требованиям тоталитарного государства, его политическим и социально-экономическим целям. В пределах глав хронологически последовательно рассматривается комплекс основных вопросов, относящихся к руководству, управлению, организации науки и функционированию научных учреждений, а также касающихся положения научных работников и их роли как субъекта научно-производственной и научно-общественной деятельности и, вместе с тем, как объекта возраставшего политико-идеологического воздействия со стороны властных структур и общественных институтов.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Власть и наука. 1917-1937 гг."
Заключение
В политике советского государства в сфере науки, в ее организации и системе управления, во взаимоотношениях власти с научной интеллигенцией в 1917-1937 гг. выделяются три основных, своеобразных, но взаимосвязанных этапа. Они отражали эволюцию большевистского режима, изменения в его стратегическом курсе, смену приоритетов в экономической и социально-культурной политике и определяли главный вектор развития научного Петрограда-Ленинграда. В 1917-1925 гг. закладывались основы общегосударственного, централизованного и политически ориентированного управления наукой, его региональная структура, в стране и в Петрограде быстро расширялась сеть научных учреждений различного типа, началась их постепенная советизация. Работники науки привлекались к решению государственных задач, острая конфронтация между властью и учеными сменилась их деловым сотрудничеством. 1926-1932 гг. стали для отечественной и, в том числе, ленинградской науки временем крутого поворота, усиления централизации, бюрократизации и политизации управления наукой, наступления на старую научную интеллигенцию," радикальной перестройки научных учреждений. Их деятельность подчинялась амбициозным планам ускоренного социалистического строительства. На управление наукой и ее организацию, деятельность научных учреждений и взаимоотношения власти с научной интеллигенцией в 1933 — 1937 гг. решающее воздействие оказывали условия, цели и методы сложившегося тоталитарного режима, установка на завершение строительства основ социализма.
Сложившиеся в 1917-1937 гг. в Петрограде - Ленинграде региональная структура и механизм управления наукой являлись частью общегосударственной системы и воплощали ее основополагающие принципы и характерные черты. Важнейшая особенность ее заключалась в сочетании политического руководства, осуществлявшегося партийными органами, с централизованно-ведомственным и оперативно-распорядительным управлением, в преобладании директивно-бюрократического стиля управления, в тенденции ко все большей его централизации, регламентации деятельности подведомственных учреждений и усилению политико-административного контроля.
С учетом огромного потенциала, статуса и значения научного Петрограда в 1918-1925 гг. здесь были созданы и действовали представительства государственных научно-административных органов, выполнявшие функции регионально-оперативных звеньев централизованно-ведомственной системы управления наукой и высшей школой. Их структура, функции и полномочия со временем менялись, главное же предназначение заключалось во всемерном содействии осуществлению государственной политики в области науки. Вначале, когда партийно-государственная власть не имела прочной опоры в научной среде, но была крайне заинтересована в использовании знаний и опыта ученых, внедрявшиеся административно-бюрократические методы руководства применялись с учетом своеобразных условий деятельности научных учреждений, позиции их руководителей и коллективов по научно-организационным вопросам. С 1921 г. организация науки и прежде всего аппарат управления научных учреждений, их кадры, основные направления деятельности и ее идеологические аспекты становятся объектом политического руководства и контроля со стороны местных комитетов РКП(б). Поворот во власти и политике в конце 20-х - начале 30-х гг. существенным образом повлиял на всю систему руководства и управления наукой в Ленинграде. Курс на усиление прикладной направленности науки привел к переводу многих научных учреждений в подчинение руководящим органам промышленности — НТО ВСНХ, его главкам, затем объединениям, с 1932 г. в ведение НИС НКТП. Резкое увеличение количества и реорганизация научных учреждений и вузов, новые требования к ним обусловили значительное расширение поля деятельности и управленческих функций представительств государственных научно-административных органов и местных органов власти, усиление партийно-политического руководства и контроля в сфере науки и высшей школы. Основным методом управления наукой являлись директивы, постановления, распоряжения государственных, ведомственных и научно-административных органов, регулярные отчеты научных учреждений, доклады их руководителей и решения по ним, систематические проверки и обследования, кадровые назначения. Повышению действенности политического руководства способствовали образование и рост партийных организаций во всех научных учреждениях, приближение к ним райкомов ВКП(б), создание в 1935 г. в аппарате горкома ВКП(б) (по примеру ЦК) специализированной структуры - отдела науки, научно-технических изобретений и открытий. Система руководства наукой, частью которой были ее региональные органы, создавалась в целях планомерной организации научной работы в общегосударственном масштабе, рационального распределения необходимых для нее ресурсов и широкого использования науки в интересах осуществления преобразований в стране. Функционирование этой системы принесло положительный результат, оно позволяло направлять научные силы и средства на решение наиболее важных с точки зрения государства задач. Деятельность местных представительств центральных научно-административных органов, охватывавшая многие научные учреждения своего ведомства, позволяла выявлять общие проблемы и трудности, встававшие перед ними, доводить их до вышестоящих инстанций и содействовать разрешению. В то же время, тормозящее воздействие на науку оказывали такие изъяны действовавшей системы, как сверхцентрализация и унификация, низкая компетенция управленческого аппарата и ведомственная разобщенность, несогласованность, директивно-бюрократический стиль руководства и взгляд на науку сквозь призму политики. Значительная часть усилий управленческих структур направлялась не на рациональную организацию научно-исследовательской работы и создание необходимых условий для нее, а на распределение заданий и регламентацию посредством приказов, инструкций распоряжений, контроля за их исполнением. Со временем власть все меньше считалась с позицией ученых и все чаще навязывала собственные сценарии и рецепты решения возникавших научно-организационных и научно-производственных проблем. Внимание партийных органов фокусировалось не столько на вопросах оптимизации деятельности научных учреждений, сколько на ее политико-идеологических аспектах.
Советизация научных учреждений, осуществленная в первой половине 20-х гг. на основе партийно-правительственных решений и путем введения новых уставов, подчинила их новой власти, ограничила автономию, передала ключевые управленческие функции государственным органам, положила начало изменению внутреннего уклада, регламентации деятельности, обеспечивала поворот ее к потребностям восстановления и подъёма народного хозяйства, начавшегося социально-культурного строительства. Ограниченная автономия научных учреждений, закрепленная в новых уставах и формально сохранявшая некоторые ее элементы, отвечала условиям и задачам первого этапа советизации в ее «умеренном» варианте и была результатом вынужденного компромисса между властью и работниками науки, в котором тогда одинаково были заинтересованы обе стороны. Утвердившиеся в результате советизации принципы организации, управления и деятельности научных учреждений уже соотносились с требованиями зарождавшейся централизованной системы управления, но еще сочетались с признанием особенностей отдельных учреждений, их исторических традиций, профиля, персонального состава и государственного значения. Советизация высшей школы, осуществленная в 1918 -1922 гг. вопреки позиции преобладающей части профессуры, лишила ее прежней автономии, подчинила государственно-административному управлению и партийно-политическому контролю. Помимо комитетов РКП(б), важным звеном системы этого контроля являлись вузовские партячейки и немногочисленная коммунистическая профессура. К немногим положительным последствиям реформы высшей школы относилось учреждение при некоторых вузах научно-исследовательских институтов.
Реорганизация научных учреждений, осуществленная принудительно, «сверху» в конце 20-х - начале 30-х гг., означала новый этап советизации и привела к их радикальной перестройке. Она изменила статус, функции, внутреннюю организацию и формы деятельности научных учреждений. Результатом перестройки стали их включение в систему централизованного управления, подчинение ведомствам, главкам, минимизация автономии, бюрократическая регламентация, политически мотивированное обновление руководящего состава, установление единоначалия. Радикальная перестройка сопровождалась значительным увеличением числа научных учреждений и внедрением в их работу принципов плановости, хозрасчета, коллективности, соревновательности, резким усилением прикладной направленности. Тем самым она способствовала расширению и интенсификации научно-исследовательской работы, повышению ее практической значимости. Вместе с тем, ограниченная самостоятельность, жесткая зависимость от властных структур разного уровня, их давление и прямое вмешательство создавали неустойчивую обстановку в научных учреждениях, не позволяли эффективно использовать их потенциал, осложняли процесс развития и, в конечном счете, крайне негативно отражались на результатах деятельности. Зависимость от ведомственных органов, наказуемость несанкционированной инициативы и самостоятельных решений, кроме того, снижали ответственность администрации научных учреждений за свою деятельность, могли использоваться ею для оправдания собственных просчетов.
Медленное восстановление и развитие материальной базы науки в 20-е гг. объяснялось общим состоянием народного хозяйства, ограниченностью централизованно выделявшихся средств, а также отсутствием у научных учреждений достаточных прав на хозяйственную самостоятельность. Материально-финансовое положение и производственно-техническая база ленинградской науки за годы первых двух пятилеток существенно укрепились, но оснащение и обеспечение научных учреждений зависели от их профиля, ведомственной принадлежности, соотношения различных источников финансирования и от поступлений средств по хоздоговорам. В целом материально-техническая база большинства научно-технических институтов по-прежнему не соответствовала быстро возраставшим планово-директивным объемам их работы. На минимальном уровне централизованно финансировалась научноисследовательская работа технических вузов и деятельность социально-гуманитарных научных учреждений. Отсутствие у администрации научных учреждений достаточной хозяйственно-финансовой самостоятельности, жесткая зависимость от системы централизованного распределения ассигнований, оборудования и материалов порождали практику бюрократической регламентации расходования выделяемых средств, лоббирования в руководящих сферах, иждивенческие настроения.
Изменения в составе научных и научно-педагогических кадров Петрогра-да-Ленинрада в 1918-1925 гг. происходили под влиянием высокой смертности среди ученых, миграции в годы гражданской войны, эмиграции, быстрого увеличения количества научных учреждений и вузов, колебаний в штатной политике. Вступивший в эти годы в силу новый порядок избрания на вакантные должности, начавшаяся практика кадровых чисток и «коммунизирования» руководящего аппарата и персонала на этом этапе обновили кадровый состав исследовательских институтов и вузов лишь в незначительной степени. Реорганизация научных учреждений и вузов в 1926-1932 гг. включала широкое «коммунизирование» директората, аппарата управления, научного и педагогического состава, систематические проверки и массовые социальные чистки, активное использование кампаний по переизбранию для обновления кадров политически надежными людьми. Форсированное увеличение численности научных работников в эти годы, социальные чистки, занижение профессиональных и применение политических критериев отбора, аттестации и продвижения исключали здоровую конкуренцию в науке и имели следствием значительное ухудшение качественного состава, снижение уровня квалификации научных кадров. В результате настойчивого «коммунизирования» персонала во всех научных учреждениях были созданы партийные организации, постепенно укреплялось их положение, расширялась сфера политического влияния и контроля. Привилегированный статус выдвиженцев-коммунистов обеспечивал многим из них быструю служебную карьеру, занятие руководящих административных должностей без повышения профессиональной квалификации и при отсутствии заметных научных результатов. Так внутри научных учреждений складывался партийно-номенклатурный слой управленцев, не обремененных полноценной исследовательской работой, но обладавших широкими административными полномочиями.
Незначительный рост заработной платы научных и научно-педагогических работников вместе с некоторыми профессиональными льготами существенно не улучшил их материальное положение и не сократил масштабы вынужденного совместительства, отрицательно сказывавшегося на научной работе. Политически ориентированная кадровая работа обеспечила к середине 30-х гг. преобладание коммунистов в руководящем и административно-управленческом звене научных учреждений и вузов, обновление их личного состава, увеличение партийной прослойки (в массе своей малоквалифицированной) и доли выходцев из рабочих и крестьян. Но несмотря на огромные усилия по орабочиванию, обе эти категории по численности по-прежнему заметно уступали служащим и «прочим». Сохранявшаяся из-за крайней неудовлетворенности уровнем оплаты и постоянных реорганизаций кадровая текучесть и нестабильность, а также дефицит квалифицированных специалистов усилились вследствие массовых репрессий 1935—1937 гг.
В 1918-1925 гг. старые и новые учреждения академической, отраслевой и вузовской науки, после спада и несмотря на тяжелые материальные условия и лишения сотрудников, возобновили и расширили фундаментальные теоретические и прикладные исследования во многих областях. В соответствии с заданиями правительственных органов их деятельность в большей или меньшей степени стала направляться на научное разрешение задач восстановления и развития народного хозяйства, социального и культурного строительства. Этот поворот наиболее болезненно проходил в научных учреждениях, основанных до революции, поскольку их деятельность не отвечала новым критериям результативности научной работы. С большими трудностями происходила перестройка новых научных институтов системы Главнауки, в которых теоретические исследования изначально занимали ведущее место. В новых институтах технического, сельскохозяйственного и медицинского профиля требование усиления прикладного уклона не вызывало принципиальных возражений и в основном сдерживалось только ограниченностью научно-производственной базы и кадров. Достигавшееся между властью и большинством работников научно-прикладных учреждений взаимопонимание относительно необходимости повышения их практической отдачи не исключало серьезных расхождений во взглядах на роль науки, значение фундаментальных исследований и конкретные формы связи науки с государственными потребностями. Деятельность научных учреждений социального и гуманитарного профиля власть стремилась повернуть в русло задач культурной революции, за ней устанавливался идеологический контроль. Тем не менее, до середины 20-х гт. эти учреждения еще сохраняли достаточно широкую свободу в выборе тематики и методологии исследований. В гораздо большей степени идеологическим требованиям партийной власти отвечала деятельность марксистских научных учреждений.
Деятельность научных учреждений во второй половине 20-х - начале 30-х гг. определялась задачами форсированной технической реконструкции народного хозяйства. Она перестраивалась путем внедрения директивного планирования, ограниченного хозрасчета и бригадных форм организации труда, перехода к прямым связям с промышленностью, повышения ответственности за внедрение научных разработок, результаты деятельности предприятий своей отрасли. Подчинение науки производству, завышенные узкоприкладные задания, не подкреплявшиеся соответствующими ресурсами, частые непродуманные реорганизации, некомпетентное административно-бюрократическое вмешательство и давление на научные учреждения — все это отрицательно сказывалось на результатах и качестве их работы, сужало фронт теоретических исследований. Деятельность социально-гуманитарных научных учреждений в эти годы развивалась в условиях широкого идеологического наступления, она направлялась на выполнение культурно-идеологического заказа и испытывала усиливавшийся контроль со стороны партийных и научно-административных органов. В 1933-1937 гг., в соответствии с партийными директивами и приказами наркоматов и несмотря на сохранявшиеся финансово-материальные и кадровые ограничения, значительно выросли объемы научно-исследовательских работ всех учреждений академической, отраслевой и вузовской науки, она концентрировалась на решении народнохозяйственных проблем второй пятилетки. Продолжали увеличиваться удельный вес прикладных исследований и разработок, масштабы прямого научно-технического содействия предприятиям, но одновременно снижалось качество выполнения тем, суживался фронт фундаментальных исследований. Усиливался партийный и ведомственный контроль за выполнением напряженных научно-производственных заданий, сроками, себестоимостью и качеством работ. Использовались различные внеэкономические методы интенсификации труда, в том числе стахановское движение, повышение авангардной роли коммунистов, остававшиеся в целом декларативными и малоэффективными. Значительный урон деятельности научных учреждений наносили некомпетентное вмешательство в нее партийных и ведомственных органов, курс на экстенсивное развитие науки, сохранявшееся недоверие к старым специалистам, длительное игнорирование возможностей вузовской науки, слабость лабораторной и издательской базы, резкое сокращение международных связей, массовые репрессии против работников науки. При всех трудностях, как объективных, так и созданных некомпетентностью и просчетами руководства, многие научные учреждения Ленинграда успешно выполняли роль головных, центральных в своих отраслях. Работая в сложных общественно-политических, научно-производственных и социально-бытовых условиях, ленинградские ученые, движимые чувством профессионального и гражданского долга, внесли огромный вклад в развитие многих отраслей фундаментальной и прикладной науки, восстановление и ускоренный рост народного хозяйства1. Деятельность соци
1 Подробнее см.: Советская наука: Итоги и перспективы. М., 1982. С. 7-11; Наука и техника СССР. 1917-1987: Хроника. М., 1987. С. 7-12; Очерки истории организации науки в Ленинграде. 1703 - 1977. С. 115-171; Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. 1917-1977. С. 27 - 71; Грэхэм Л.Р. Очерки истории российской и советской науки. М., 1998. С.235 - 260. альнсыуманитарных научных учреждений все жестче определялась идеологическим заказом.
Закладывавшаяся в Петрограде с первых послереволюционных лет и в дальнейшем расширявшаяся система подготовки новых научных кадров в научно-исследовательских институтах и вузах строилась на общегосударственных принципах социально и политически дифференцированного отбора кандидатов, преимущественных прав для рабочей и коммунистической молодежи, регламентации и идеологизации обучения, партийно-административного контроля. На масштабы и качество подготовки кадров для науки и высшей школы положительно влияли некоторые объективные преимущества в ее организации в Ленинграде — наличие многоотраслевой научно-лабораторной и библиотечной базы, квалифицированных научно-педагогических кадров старой формации, богатые традиции научных школ. Вместе с тем, сказывались изъяны самой системы подготовки - поточность, массовость (с конца 20-х гг.) при ограниченности выделявшихся ресурсов, ослабление конкурсных критериев, занижение академических требований к кандидатам из социально привилегированных групп молодежи (часто не обладавших необходимой общеобразовательной подготовкой), искусственно возводившиеся препятствия к продвижению в науку представителей дискриминируемых слоев, нерациональная организация учебного процесса, значительное место в нем идеологического компонента. Искусственными и малоэффективными оказались такие формы отбора и подготовки научных кадров, как выдвиженчество, рабочая аспирантура, научное совместительство, подготовительное отделение в академической аспирантуре. Отрицательно сказывались отстранение профессуры от отбора в аспирантуру, взаимное недоверие между научными руководителями и аспирантами-выдвиженцами. В таких неблагоприятных условиях качество новых научных кадров в целом и особенно из числа аспирантов-коммунистов оставалось неудовлетворительным. О крупных просчетах в организации аспирантуры, в том числе академической, свидетельствовал и значительный отсев. В годы второй пятилетки произошло некоторое сокращение подготовки научных кадров в ленинградских вузах и НИИ, усилилось внимание к ее качественной стороне при сохранении социально-идеологических принципов. Но общие условия подготовки научных и научно-педагогических кадров изменились незначительно, сохранялись просчеты в организации, и поэтому результаты по-прежнему не соответствовали имевшимся в Ленинграде потенциальным возможностям, директивным заданиям и реальным запросам развивавшейся науки и высшей школы.
Взаимоотношения власти с научной интеллигенцией Петрограда - Ленинграда в 20 - 30-е гг. имели некоторые особенности, обусловленные социальным происхождением, высокой квалификацией ее, сложившегося еще до революции, профессионального ядра и первоначальными либерально-демократическими симпатиями большей части ученых. Но в целом они отражали общую тенденцию, заключавшуюся в эволюции от острой конфронтации в первые послереволюционные годы к сближению и деловому сотрудничеству в период нэпа, усилению на рубеже 20-30-х гг. политического давления на старую, инакомыслящую часть научных работников в целях подчинения новому курсу и к последовавшим вскоре массовым репрессиям. Заинтересованность власти в привлечении научной интеллигенции на свою сторону, в конструктивном взаимодействии и, одновременно, недоверие к ней, обеспокоенность возможной активизацией антисоветских настроений и выступлений определили двойственную линию большевиков — всемерную поддержку лояльных, готовых к тесному сотрудничеству групп и нейтрализация, подавление радикально оппозиционной части. Главным результатом взаимоотношений власти с научной интеллигенцией в 1918-1925 гг. было преодоление взаимной отчужденности, достигнутая различными средствами (административными, политическими, поощрительными и репрессивными) внешняя политическая лояльность преобладающей части научных работников, налаживание широкого и взаимовыгодного сотрудничества на условиях, сформулированных властью с определенным учетом социально-профессиональных интересов ученых. В общественно-мировоззренческом плане преобладающей части научной интеллигенции Петрограда были чужды коммунистическая идеология и многие аспекты проводимой политики. Ее научное мировоззрение также было далеким от марксистской теории и методологии, которые начали внедряться в науку и преподавание в высшей школе. На этом этапе власть вынуждена была считаться с правом ученых на личные убеждения и не требовала от них немедленной идеологической и методологической переквалификации.
Осуществлявшаяся в конце 20-х - начале 30-х гг. реорганизация научных учреждений сопровождалась усилением политического давления и идеологического наступления на научную интеллигенцию в целях ее «перевоспитания», методологического «перевооружения» и полного подчинения новому курсу. Выражавшаяся многими известными учеными в официальных выступлениях полная поддержка политическому руководству и его новому курсу далеко не отражала реальные общественные настроения в научной среде. Общественная позиция научной интеллигенции в действительности варьировалась от сдержанной критики отдельных сторон проводившейся политики в немногочисленной партийной и количественно уже преобладавшей советски настроенной группе до прямой (открытой или завуалированной) интеллектуальной оппозиции правящему режиму и его амбициозно-экстремальному курсу со стороны инакомыслящей части. Условия гражданского бесправия и развернувшегося террора порождали в социальной психологии и общественном поведении научной интеллигенции массовые проявления конформизма, мимикрии, подчеркнутой лояльности и верноподданичества, за которыми на самом деле часто скрывалось резкое недовольство партийными вождями и их политикой. У многих оно сочеталось с иллюзорной надеждой на наступление подлинной советской демократии, у значительной же части научной интеллигенции оппозиция тоталитарному режиму отражала ее традиционные либерально-демократические убеждения.
Происходившее с первых послереволюционных лет организованное внедрение марксизма в отечественную науку с конца 20-х гг. вылилось в тотальное его насаждение и принудительную методологическую переквалификацию научных работников, главный смысл которых заключался не столько в преодолении общеметодологического кризиса в науке, сколько в подавлении научно-мировоззренческого инакомыслия и идеологическом «перевоспитании» научной интеллигенции. Разнообразная и интенсивная методологическая работа повысила внимание и интерес многих ученых к общетеоретическим и мировоззренческим проблемам науки, способствовала широкой пропаганде, освоению и применению марксистской методологии, она, в конечном счете, обеспечила формальное ее утверждение в советской науке. Но одновременно принудительная методологическая переквалификация привела к вульгаризации марксистской методологии, создала нездоровую обстановку в научном сообществе, утвердила методологический монополизм и догматизм, она побуждала ученых к приспособленчеству. Научные дискуссии превратились в разоблачительные кампании, для борьбы с научными оппонентами стали широко применяться политические ярлыки, публичная травля и осуждение многих известных ученых. Официальному запрету подверглись многие перспективные направления в общественных и естественных науках как противоречащие марксизму.
Огромный урон ленинградской и всей отечественной науке нанесли людские потери периода гражданской войны, кадровые чистки конца 20 — начала 30-х гг. и особенно массовые репрессии 1935-1937 гг. Они привели к изоляции и уничтожению тысяч работников науки, в том числе многих выдающихся ученых, ослабили кадровый состав, надолго дезорганизовали работу научных учреждений и вузов.
Социальная история науки в Петрограде - Ленинграде в 1917-1937 гг., в фокусе которой находились власть и ученые, была неотъемлемой и, вместе с тем, своеобразной частью истории советской науки в этот переломный период с ее контрастами, парадоксами и противоречивыми итогами. Осознавая значение науки в современном мире и возлагая на ученых ответственность за осуществление своих преобразовательных проектов, власть должна была учитывать и некоторые их специфические запросы. Но она в тоже время игнорировала и необходимые внешние предпосылки и внутренние закономерности развития самой науки, сводила роль ученых к чисто исполнительским, экс-пертно-консультативным, узкоутилитарным функциям, не допускала их активной роли в государственной политике и управлении, ограничивала свободу творчества, пренебрегала гражданскими правами. Масштабные изменения в организации науки и деятельности научных учреждений, крупные успехи науки в Ленинграде и ее огромный вклад в экономическое и социально-культурное развитие страны были достигнуты в результате реализации позитивных компонентов государственной научной политики в период социалистического строительства, конструктивного взаимодействия власти и научных работников и, в большой степени, благодаря исследовательскому таланту, организаторскому опыту многих известных деятелей науки, самоотверженному труду тысяч ее рядовых работников. Деструктивные направления научной политики, связанные с сущностными чертами тоталитарного режима в СССР, придавали взаимоотношениям власти с учеными конфронтационный характер. Они обусловили колоссальную цену позитивных результатов, достигнутых наукой, многие упущенные возможности, многочисленные беды и невосполнимые потери, нанесшие огромный ущерб науке, государству и обществу. Дальнейшее исследование взаимоотношений власти и науки в отдельные периоды и в течение всей советской истории, в том числе на региональном уровне, необходимо для выяснения многих остающихся вопросов, полной и объективной оценки позитивной и негативной составляющей этого исторического опыта, его обобщения, учета и использования при разработке и осуществлении современной государственной политики в области науки.
Список научной литературыКурепин, Александр Алексеевич, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Опубликованные документы
2. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП (б) ВКП(б). 1922 - 1952. /Составитель В.Д.Есаков. - М.: РОССПЭН, 2000.-591 с.
3. Академия наук к XVII партсъезду. I. Общий отчет. — JL: Изд-во Академии наук СССР, 1934. 69 с.
4. Академия наук СССР. Ее задачи, разделение и состав. JL, Изд-во Академии наук СССР, 1925. - 295 с.
5. Академическое дело 1929-1931 гг. Вып. 1, 2 - СПб.: Б АН-РАН, 1993 -1998.
6. Бюллетень объединенной IV областной и городской конференции ВКП(б). 23-28 января 1932 г.- Л.: Партиздат, 1932. 436 с.
7. Бюллетень пятнадцатой конференции Петроградской губернской организации РКП(б). Пг.: Изд-во Петрогр. губкома РКП(б), 1921. - № 2.
8. Бюллетень 3-й Ленинградской областной конференции ВКП(б). Л.: Прибой, 1930.-№6.
9. Бюллетень XVII губернской конференции Петроградской организации РКП. 23 25 сентября 1922. - Пг.: Изд-во Петрогр. губкома РКП(б), 1922. — № 4.
10. Декреты Советской власти. Т. III. М.: Политиздат, 1964. - 664 е.; Т. IX. М., 1978. -460 с.; Т. XI. М., 1983. - 467 с.
11. Деятельность высших учебных заведений РСФСР. 1925/26 учебный год (по годовым отчетам). Вып. И. М.: Главпрофобр, 1927.- 33 с.
12. Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения. Вопросы народного просвещения в основных директивах съездов, конференций, совещаний ЦК иЦККВКП(б). 3 изд, переем., доп.-М.;Л.: ОГИЗ. 1931.- 496 с.
13. Документы по истории Академии наук СССР. 1917 1925 гг. /Ответ. Ред. Б.В.Левшин. - М.: Наука, ЛО, 1986. - 382 с.
14. Документы по истории Академии наук СССР. 1926 1934 гг. /Ответ. Ред. Б.В.Левшин. - Л.: Наука, ЛО, 1988. - 288 с.
15. За марксистско-ленинскую перестройку геолого-разведочных наук. ЦНИГРИ Геолого-разведочный ин-т- М.-Л.: Геолог, изд. всесоюзного геол.-развед. объед., 1932. — 230 с.
16. Индустриализация Северо-Западного района в годы первой пятилетки (1929 1932 гг.). /Сборник. Под ред. проф. С.И.Тюльпанова. - Л.: Лениздат, 1967.- 454 с. 17.
17. Ко 2-й Ленинградской конференции ВКП(б). Отчет областного комитета ВКП(б). Ноябрь 1927 г. февраль 1929 г. - Л.: Ленингр. обком ВКП(б), 1929. - 204 с.
18. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2-7.-М.: Политиздат, 1983- 1985.
19. Материалы по истории Санкт-Петербургского университета. 1917— 1965. Обзор архивных документов / Под ред. Г.А.Тишкина. — СПб.: СПбГУ, 1999. 284 с.
20. На ленинградском математическом фронте: Сборник. М.;Л.: Об-во математиков-материалистов, 1931. - 44 с.
21. Организация науки в первые годы Советской власти (1917 — 1925): Сборник док-в. Л.: Наука, ЛО, 1968. - 419 с.
22. Организация науки в 1926 — 1932 гг.: Сборник док-в. — Л.: Наука, ЛО, 1974. 408 с.
23. Отчет Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б) к 4-й областной и 2-й городской конференции. Л.: Ленингр. обком ВКП(б),1932.
24. Отчет о деятельности Академии наук СССР в 1933 году. — Л.: АН СССР,1933. 392 с.
25. Отчет о деятельности Академии наук СССР в 1934 году. М.; Л.: АН СССР, 1935.- 612 с.
26. Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1930 год. — JL: АН СССР, 1931. 279 с.
27. Отчет о работе месткома Академии наук СССР за период январь ноябрь 1930 г.- Л.: Местком АН СССР, 1930. - 36 с.
28. Отчет о работе секции просвещения Ленинградского Совета 11-го созыва. Л.: Ленгубисполком и Ленсовет, 1928.
29. Отчет Центрального комитета профессионального союза работников высшей школы и научных учреждений СССР (декабрь 1934 г. — сентябрь 1937г.). -М.: Профиздат, 1937. 80 с.
30. Отчет Петроградского губернского отдела народного образования. 1918 -1923 гг.- Пг.: Петр, губисполком, 1923. -514 с.
31. I Всесоюзная конференция по планированию научно-исследовательской работы: Тезисы докладов. М.; Л.: НИС ВСНХ СССР-Огиз-Госнаучтехиздат, 1931. - 168 с.
32. Пять лет работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР (Цекубу). 1921 -1926. -М.: Цекубу, 1927.
33. Сборник материалов Петроградского комитета РКП(б). Вып. 3 6. — Пг.: Изд-во Петр, губкома РКП(б), 1921-1923.
34. XVII губернская конференция Петроградской организации РКП(б). 23 -26 сентября 1922 г.: Стенографический отчет. — Пг.: Петр, губком РКП(б), 1922. 190 с.
35. XVII съезд ВКП(б): Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934. -716 с.
36. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М.: Госюриздат. 1924-1937.
37. Собрание узаконений и постановлений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. М.: Госюриздат, 1917 1924.
38. Уставы Академии наук СССР. 1724 1974. - М.: Наука, 1975. -206 с.1.. Статьи, речи, документы партийно-государственных руководителей иученых-коммунистов
39. Академик Н.И.Бухарин. Методология и планирование науки и техники. Избр. труды /Ответ, ред. чл.- корр АН СССР П.В.Волобуев. — М.: Наука, 1989. 342 с.
40. Академия наук за четыре года. 1930 — 1933. Речи и статьи непременного секретаря академика В.П.Волгина. Л.: АН СССР, - 119 с.
41. В.И.Ленин и А.В.Луначарский: Переписка, доклады, документы. — М.: Наука, 1971. 766 с.
42. Горбунов Н.П. Воспоминания. Статьи. Документы /Ответ, ред. Б.В.Левшин. М.: Наука, 1986. - 240 с.
43. Горький и наука. Статьи, речи, письма, воспоминания. — М. : Наука. 1964. 282 с.
44. Жданов А.А. Итоги декабрьского Пленума ЦК ВКП(б). Доклад на собрании Ленинградского партийного актива 30 дек. 1935 г. — М.-Л.: Партиздат, 1936.- 32 с.
45. Зиновьев Г.Е. Интеллигенция и революция. Доклад на Всероссийском съезде научных работников 23 ноября 1923 г. М.: Красная новь, 1923. — 37 с.
46. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45,52.- М.: Госполитиздат, 1962-1964.
47. Луначарский А.В. Просвещение и революция. — М.: Красная новь, 924. — 71 с.
48. Покровский М.Н. Ленин и высшая школа. — Л.: Госиздат, 1924. -Юс.
49. Презент И.И. Классовая борьба на естественнонаучном фронте. Обработанная стенограмма доклада на конференции педагогов-естественников г. Ленинграда.— М;Л.: Огиз-Госучебпедиздат, 1932. 72 с.
50. I. Переписка, дневники, мемуары, документы и материалы ученых
51. Из переписки О.А.Добиаш-Рождественской 1920 1930-х годов /Составитель Б.С.Каганович //Отечественная история. - 1992.-№3. — С. 101-117.
52. Капица П.Л. Письма о науке. 1930 1980. /Сост. П.Е.Рубинин. - М.: Московский рабочий. - 400 с.
53. Научно-организаторская деятельность академика А.Ф.Иоффе. Сб. док-в. — Л.: Наука, ЛО, 1980. -365 с.
54. Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1911 1928. Научное наследство. Т. 5. М.: Наука, 1980; Т.10. 1929-1940. М., 1987.
55. Петр Леонидович Капица. Воспоминания. Письма. Документы. М.: Наука, 1994. - 542 с.
56. Проблемы организации науки в трудах советских ученых. 1917 1930-е годы. Сборн. матер-в. /Составитель К.Г.Большакова. - Л.: Наука, ЛО, 1990. -229 с.
57. В.А.Стеклов. Переписка с отечественными математиками. Воспоминания. Научное наследство. Т. 17.-Л.: Наука, ЛО, 1991.- 375 с.1.. Статистические и справочные издания
58. Академия наук СССР. Персональный состав. Действтельные члены, чл.-корр., почетные члены, иностр. члены. В 2 кн. Кн. 2. 1917 1974. - М.: Наука, 1974. - 478 с.
59. Весь Ленинград на 1928 г. Адресная и справочная книга. Л.: Отд. упр. Ленгубисполкома, 1928. - 1523 с.
60. Весь Ленинград на 1935 г. Адресно-справочная книга. Л.: Отд. упр. Леноблисполкома, 1935. - 1254 с.
61. Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 10 12. - М.: Политиздат, 1979-1982.
62. Вопросы подготовки научных кадров. М. ; Л.: Госиздат, 1930.- 48 с.
63. Культурная жизнь в СССР. 1917 1927: Хроника. - М.: Наука, 1975; 1928 - 1940. М.: Наука, 1976.
64. Культурное строительство в СССР. Статист, сборн. — М.;Л.: Госпланиздат, 1940. 268 с.
65. Культурное строительство Союза Советских Социалистических Республик.- М.;Л.: Госиздат, 1927. 79 с.
66. Ленинград в цифрах. Экон. стат. справочник. - Л:, Облисполком и Ленсовет, 1935. - 194 с.
67. Ленинград в цифрах. Экон. стат. справочник. - Л.: Облисполком и Ленсовет, 1936. - 198 с.
68. Ленинградский мартиролог. 1937 — 1938 гг. Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1—4. СПб.: Росс. нац. библ., 1995 — 1999.
69. Наука в России. Справочник. Научные работники Петрограда. — М. Пг.: Рос. гос. акад. тип., 1923. - 164 с.
70. Наука и научные работники СССР. Часть 2. Научные учреждения Ленинграда. Л.: АН СССР, 1926. - 407 с.
71. Наука и научные работники СССР. Часть V. Научные работники Ленинграда. Л.: АН СССР, 1934. - 723 с.
72. Наука и техника СССР. 1917-1987: Хроника. М.: Наука, 1987.-759 с.
73. Справочник научного работника. Л.: Леноблиздат, 1935. - 192 с.
74. Справочник партийного работника. Вып. VI. Часть I. -М.; Л.: Госиздат, 1928. 884 с.- 308 с.
75. У. Периодические издания Журналы
76. Бюллетень ВАРНИТСО. Ежемес. обществ.-полит, журн. М.: Б. и., 1928- 1930.
77. Бюллетень Ленинградского губкома РКП(б) — ВКП(б). — Л.: Прибой, 1925- 1927.
78. Бюллетень Ленинградского обкома ВКП(б). Л.: Леноблиздат, 1928 — 1934.
79. Бюллетень Наркомпроса. М.: Работник просвещения, 1923.
80. Вестник Академии наук СССР. Научн. и обществ. полит, журн. — АН СССР, 1933 -1935.
81. Вестник Российской академии наук. Научн. и обществ. — полит, журн. -М.: Наука, 1992-2002.
82. Вестник Социалистической академии наук. — М.-Пг.: Госиздат-во, 1923.
83. Вопросы истории естествознания и техники. АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. М.: Наука, 1989-2002.
84. Высшая техническая школа. Ежемес. журн. Всесоюз. ком. по высшему технич. образов.-М.: ОНТИ, 1935.
85. Записки научного общества марксистов. Петроград Ленинград. — М. - Л., Госиздат, 1922-1928.
86. Еженедельник Наркомпроса. Орган Наркомпроса. М.: Упр. делами Наркомпроса, 1924-1926.
87. Естествознание и марксизм. Орган секции естественных и точных наук Комакадемии- М.: Ком. акад., 1929.
88. Известия ЦК РКП(б) — ВКП(б). Информ. ежемес. журн. — М.: Правда, 1921 -1927.
89. Мысль. Журн. Петербург, философ, об-ва. Пб.: Academia, 1922.
90. Народное просвещение. Ежемес. журн. Наркомпроса РСФСР. М.: Госиздат, 1921, 1924.
91. Наука и ее работники. Журн. Комиссии по улучшению быта ученых в Петрограде. Пг.: Госиздат, 1921.
92. Научное слово. Ежемес. журн., посвящ. актуальным вопросам совр. науки М. Л.: Госнаучтехиздат, 1929.
93. Научный работник. Орган Центр, совета Секции научных работников Союза работников просвещения. М.: Работник просвещения, 1925 -1930.
94. Проблемы марксизма. Философ, и обществ. экон. журн. Орган Ленинградского отделения Комакадемии. - Л.: Госиздат, 1931 - 1933.
95. Работник просвещения. Орган ЦК и Москов. обл. отд. Союза работников просвещения. М.: Работник просвещения, 1921.
96. Социалистическая реконструкция и наука. Орган ЦНИСа и Центехпрома НКТП СССР. М.: ОНТИ. 1933-1934.
97. Фронт науки и техники. Орган ЦК Союза работников высшей школы и научных учреждений и ВАРНИТСО. М.: Б. и., 1933- 1936.
98. Экономист. Вестник XI Отдела Русского технического об-ва. — Пг., 1922.
99. Экономическое возрождение. Пг.: Право, 1922.1. Газеты
100. Известия. Орган ВЦИК-ЦИК СССР. М., 1936.
101. Правда. Орган ЦК РКП(б) ВКП(б). 1937.
102. Красная газета. Орган Петрогубисполкома. 1922.
103. Ленинградская правда. Орган Ленингр. обл. и город, комитетов РКП(б) -ВКП(б) и Ленингр. обл. и город. Советов. 1924 1937.
104. Петроградская правда. Орган Петрогр. губкома РКП(б). Пг., 1921 — 1924.
105. За ленинские кадры. Орган парткома и месткома Института красной профессуры. Л., 1933.
106. За рационализацию. Орган Государственного гидрологического института . Л., 1932.
107. За социалистическую науку. Орган коллектива ВКП(б), месткома и типографии АН СССР. Л., 1931 1935.
108. VI. Архивные документы Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ)
109. Ф. 2307 Главнаука Наркомпроса;
110. Ф. 7668 Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями при ЦИК СССР;
111. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)
112. Ф. 17 Центральный комитет РКП(б) - ВКП(б);
113. Ф. 77 личный фонд А.А.Жданова;
114. Российский государственный архив экономики (РГАЭ)5. Ф.3429 НТО ВСНХ
115. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.)
116. Ф. 1000, 7384 Ленинградский Совет;
117. Ф. 1178, 2279 Петроградское, Ленинградское отделение НТО и НТО ВСНХ;
118. Ф. 1957 Управление уполномоченного НКТП по Ленинграду и области;
119. Ф. 2555 Ленинградское отделение Главнауки Наркомпроса:
120. Ф. 2556 Управление уполномоченного Наркомпросча по вузам и рабфакам Ленинграда;
121. Ф. 4441 Управление учебными заведениями НКТП по Ленинграду;
122. Ф. 6307 Ленинградская губернская (областная) организация Секции научных работников Всерабпроса;
123. Ф. 7450 — Ленинградская областная организация ВАРНИТСО;
124. Ф. 2881 Институт инженеров путей сообщения;
125. Ф. 3025 — Технологический институт;
126. Ф. 3132 Медицинский институт;
127. Ф. 3121 Политехнический институт;
128. Ф. 4331 Педагогический институт им. А.И.Герцена;19. Ф. 7240 Университет;20. Ф. 8811 Горный институт;
129. Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.)
130. Ф. 17 Петроградский (Ленинградский) губком РКП(б) - ВКП(б);
131. Ф. 24 Ленинградский обком ВКП(б);
132. Ф. 25 Ленинградский горком ВКП(б);
133. Ф. 2 Выборгский райком РКП(б) - ВКП(б);
134. Ф. 4 Василеостровский райком РКП(б) - ВКП(б);
135. Ф. 7 Центральный Городской райком РКП(б) - ВКП(б);
136. Ф. 1430 -Московский райком РКП(б) ВКП(б);
137. Ф. 1431 Октябрьский райком РКП(б) - ВКП(б);
138. Ф. 1861 — Смольнинский райком РКП(б) -ВКП(б);
139. Ф. 40 коллектив РКП(б) - ВКП(б) Политехнического ин-та;
140. Ф. 80 коллектив РКП(б) - ВКП(б) Горного ин-та;
141. Ф. 304 коллектив ВКП(б) Всесоюзного ин-та растениеводства;
142. Ф. 471 коллектив ВКП(б) ВНИИ алюминиево-магниевой промышленности;
143. Ф. 984 коллектив РКП(б) - ВКП(б) Университета;
144. Ф. 1060 коллектив РКП(б) - ВКП(б) Технологического ин-та;
145. Ф. 1788 коллектив ВКП(б) Государственного института прикладной химии;
146. Ф. 2019 коллектив ВКП(б) Академии наук СССР;
147. Ф. 2272 — коллектив ВКП(б) Центрального научно-исследовательского геологоразведочного ин-та;
148. Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб.)39. Ф. 42 Геолком;40. Ф. 44 ЦНИГРИ;
149. Ф. 63 Государственный гидрологический ин-т;
150. Ф. 179,461 Государственный институт опытной агрономии;43. Ф. 181 НИИМеханобр;
151. Ф. 182 — Институт экспериментальной медицины; •
152. Ф. 195— Государственный ин-т прикладной химии;
153. Ф. 204 — Институт метрологии и стандартизации;
154. Ф. 222 НИИ котлотурбостроения;48. Ф. 232 НИИ пластмасс;
155. Ф. 239 ВНИИ алюминиево-магниевой промышленности;
156. Ф. 245 — Рентгенологический и радиологический ин-т;
157. Ф. 289 — Гидротехнический ин-т;
158. Ф. 313 — Институт по изучению мозга;
159. Ф. 318 — Всесоюзный ин-т растениеводства;
160. Ф. 341 — НИИ водного транспорта;
161. Ф. 369 — Институт Арктики;
162. Ф. 372 Главная геофизическая обсерватория;
163. Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук1. ПФА РАН)
164. Ф. 1 Конференция (Общее собрание) Академии наук;
165. Ф. 2 Канцелярия Конференции Академии наук;
166. Ф. 225 — Ленинградское отделение Коммунистической академии;
167. Ф. 232 — Институт естествознания ЛОКА;
168. Ф. 233, 235 — Ленинградский институт марксизма;
169. Ф. 238 — Научное общество марксистов;
170. Ф. 239 Ленинградская организация Всесоюзного общества марксистов-диалектиков;
171. Ф. 244 Локальное бюро СНР Академии наук;
172. Ф. 245 Коллектив ВАРНИТСО при Академии наук;
173. Ф. 162 — личный фонд акад. В.А.Стеклова;
174. Ф. 265 — личный фонд президента Академии наук акад. А.П.Карпинского;
175. Ф. 327 личный фонд чл.-корр. АН Б.Н.Меншуткина;
176. Ф. 341 личный фонд акад. Д.С.Рождественского;
177. Ф. 827 личный фонд акад. Н.С.Державина.1. VII. Монографии, сборники
178. Академия наук СССР за десять лет. 1917 1927. Сборник. - Л.: АН СССР, 1927. - 235 с.
179. Алексеев П.В. Революция и научная интеллигенция. — М.: Политиздат, 1987. 272 с.
180. Бальдыш Г.М., Панизовская Г.И. Николай Иванович Вавилов в Петербурге — Петрограде Ленинграде. — Л.: Лениздат, 1987. — 287 с.
181. Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917- 1922 гг.). /Под ред. С.Р.Микулинского. -М.: Наука, 1973. 294 с.
182. Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР. М.: Политиздат, 1982.- 143 с.
183. Беляев Е.А., Пышкова Н.С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР: Исторический очерк. М.: Наука. 1979. -245 с.
184. Борисенков Е.П. Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова. Изд. второе, доп. М.: Гидрометеоиздат, 1977. -36 с.
185. Брачев B.C. «Дело историков». 1929- 1931 гг. -СПб.: Нестор, 1997. -ИЗ с.
186. ВСЕГЕИ в развитии геологической науки и минерально-сырьевой базы страны. Л.: Недра, ЛО, 1982.-283 с.
187. Голинков Д.JI. Крушение антисоветского подполья в СССР (1917 1925 гг.). - М.: Политиздат, 1975. -429 с.
188. Грэхэм Л.Р. Очерки истории российской и советской науки /Пер. В.Геровича. — М.: Янус-К, 1998.- 312 с.
189. Григорьян Н.А. Иван Петрович Павлов. 1849 1936. Ученый. Гражданин. Гуманист. -М.: Наука, 1999. -319 с.
190. Гуло Д.Д., Осиновский А.Н. Дмитрий Сергеевич Рождественский. 1876 — 1940. М.: Наука, 1980. -279 с.
191. Дадаев А.Н. Пулковская обсерватория. Очерк истории и научной деятельности. Л.: Наука, ЛО, 1972. - 148 с.
192. Долинина А.А. Невольник долга. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение». 1994. 464 с.
193. За «железным занавесом»: мифы и реалии советской науки /Под ред. М.Хейнемана и Э.И.Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин. - 2002. - С. 527.
194. Есаков В.Д. Советская наука в годы первой пятилетки. Основные направления государственного руководства наукой. М.: Наука, 1972. — 271 с.
195. Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции. 1917 — 1927 гг. М.: Наука, 1980. -392 с.
196. Институт растениеводства и его деятельность — Л.: ВИР, 1930. — 88 с.
197. Иоффе А.Е. Международные связи советской науки, техники и культуры. 1917-1932. -М.: Наука, 1975. -429с.
198. История Ленинградского государственного университета. Очерки. 1819 — 1969. Л.: ЛГУ, 1969. - 663 с.
199. История социалистической экономики СССР. Т. 1921 1925 гг. - М.: Наука, 1976. - 475 с.
200. История США. В четырех томах. Т. 1,2.- М.: Наука, 1985.
201. Каганович Б.С. Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. 138 с.
202. Кириллина А. Неизвестный Киров. СПб.: Нева; М., OJIMA- ПРЕСС, 2001. - 543 с.
203. С.М.Киров и ленинградские коммунисты. 1926 1934 гг . - JL: Лениздат, 1986. - 333 с.
204. С.М.Киров. Краткий биографический очерк. 1886 1934. /Под ред. Б.П.Позерна. - М. - Л.: Партиздат, 1936. - 65 с.
205. Клушин В.И. Первые ученые марксисты Петрограда. Историко-социологические очерки. - Л.: Лениздат, 1971.— 340 с.
206. Колчинский Э.И. В поисках советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в 20-х начале 30-х гг.). - СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. - 273 с.
207. Кольцов А.В. Ленинградские учреждения Академии наук СССР в 1934 -1945 гг.- СПб.: Наука, 1997. 198 с.
208. Кольцов А.В. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926 1932 гг. - Л.: Наука, ЛО, 1982. - 279 с.
209. Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К. Академия наук. Краткий исторический очерк. 1703 1976. В 2 томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т.2. 1917-1976. - М.: Наука, 1977. - 455 с.
210. Ксенофонтов В.И. Диалектический материализм и научное познание. На материалах советской литературы 20 30-х годов. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.-128 с.
211. Кузнецов В.И., Максименко A.M. Владимир Николаевич Ипатьев. 1867 — 1952. М.: Наука, 1992. - 190 с.
212. Купайгородская А.П. Высшая школа Ленинграда в первые годы советскойвласти (1917-1925 гг.). Л.: Наука, ЛО, 1984. - 197 с.
213. Ланге К.А. Институт физиологии имени И.П.Павлова: Очерк истории организации развития. Л.: Наука, ЛО, 1975. - 176 с.
214. Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. — М.: Наука, 1990. 224 с.
215. Лебин Б.Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров в СССР. Вопросы истории и правового регулирования. М. ; Л.: Наука, 1966. -288 с.
216. Ленинградский государственный университет. К 200-летию Академии наук. 1725-1925. Л.: Госиздат, 1925. - 64 с.
217. Леонова Л.С. «Я не могу уйти в одну науку.» Общественно-политические взгляды В.И.Вернадского. — СПб.: Алетейя, 2000. — 394 с.
218. Лукина Т.А. Борис Евгеньевич Райков. Л.: Наука, ЛО, 1970.-209 с.
219. Механобр. 50 лет со дня основания. Л.: Механобр, 1970. - 565 с.
220. Научный Ленинград к XVII съезду ВКП(б). Л.: Объед. научн-техн. изд-во НКТП, 1934. - 322 с.
221. Организация и развитие отраслевых научно-исследовательских институтов Ленинграда. 1917- 1977. /Под ред Б.И.Козлова. Л.: Наука, ЛО, 1979. -258 с.
222. Очерки истории организации науки в Ленинграде. 1703 1977. / Под ред. Б.Д.Лебина. - Л.: Наука, ЛО, 1980. - 314 с.
223. Памяти Карла Маркса. Сборник статей к пятидесятилетию со дня смерти. 1883-1933. Л.: АН СССР, 1933. - 862 с.
224. Первый в России исследовательский центр в области биологии и медицины: К 100-летию Института экспериментальной медицины. 1890 -1990. Л.: Наука, 1990. - 373 с.
225. Поповский М. Дело академика Вавилова. М.: Книга, 1990.— 303 с.
226. XV лет Государственного оптического института. Сборник статей под общей редакцией акад. С.И.Вавилова. — Л.; М.: ОНТИ, 1934. -279 с.
227. Репрессированная наука. Вып. I / Ред. проф. М.Г.Ярошевский. СПб.: Наука, ЛО, 1991; Вып.П. СПб., 1994.
228. Репрессированные геологи. Изд. третье, испр. и доп. М. - СПб.: Всесоюзн. минералог, об-во, ВСЕГЕИ, ВИПО «Мемориал», СПб. Горный ин-т, 1999. - 450 с.
229. Романовский С.И. Наука под гнетом российской истории. СПб.: СПбГУ, 1999. - 344 с.
230. Соболев B.C. Для будущего России. Деятельность Академии наук по сохранению национального культурного и научного наследия. 1890 — 1930 гг. СПб.: Наука, 1999. - 192 с.
231. Советская интеллигенция (История формирования и роста 1917 1965 гг.). М.: Мысль, 1968. -432 с.
232. Советская наука: Итоги и перспективы. -М. : Наука, 1982. 559 с.
233. Содружество науки и производства. История и современность: Деятельность Ленинградской партийной организации по развитию творческих связей науки с промышленностью /Под общей ред. В.П.Булатова. Л.: Лениздат, 1985. - 365 с.
234. Сонин А.С. «Физический идеализм»: История одной идеологической кампании. — М.: Физико-математическая литература, 1994. 224 с.
235. Сорокин П.А.Дальняя дорога: Автобиография. /Пер. с англ., общая ред., предисл. и примеч. А.В.Липского. М.: Московский рабочий; ТЕРРА. -1992. - 303.
236. Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук. Сб. статей. — М.: Наука, 1995. 251 с.
237. Тупикин М.С. Научно-исследовательские институты промышленности (По материалам ЦКК НК РКИ СССР с приложением постановления Президиума ЦКК ВКП(б) и Коллегии НК РКИ СССР). - М. ; Л.: Огиз -Московский рабочий, 1932. - 62 с.
238. Ухтомский А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях. СПб.: Петербургский писатель, 1996. - 528 с.
239. Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М.: Наука, 1972. -471.
240. Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе. 1918 1978. — Л.: Наука, ЛО, 1978. - 96 с.
241. Флаксерман Ю.Н. Промышленность и научно-технические институты НТО ВСНХ СССР. М.: НТО ВСНХ, 1925.- 170 с.
242. Хозиков В. Политех для России. Первые 50 лет Санкт-Петербургского государственного технического университета. СПб.: СПбГТУ, 1999. -350 с.
243. Чтения памяти А.Ф.Иоффе. 1990. Сборн. научн. тр. / Ответ, ред. акад.
244. B.М.Туркевич. СПб.: Наука, СПб. изд. фирма, 1993.- 192 с.
245. Шошков Е.Н. Репрессированное Остехбюро. -СПб.: Мемориал, 1994. -206 с.1. VIII. Статьи
246. Алпатов В.М. Марр, марризм и сталинизм //Наука и власть. — М.: Изд-во Ин-та философии АН СССР. С. 94 - 116.
247. Артизов А.Н. Критика М.Н.Покровского и его школы (К истории вопроса) //История СССР.-1991.- №1.- С. 101-120.
248. Архивные документы о высылке 1922 года /Публик. и примеч. И.Н.Селезневой //Вестник Российской Академии наук. 2001. — Т. 71. № 8.1. C. 741-747.
249. Асинин Ф.Д., Алпатов В.М. «Российская национальная партия» зловещая выдумка советских чекистов //Вестник РАН. 1994. - № 10. — С. 920-931.
250. Брачев B.C. Укрощение строптивой или как АН СССР учили послушанию // Вестник Академии наук СССР. 1990. - № 4. - С. 120 - 127.
251. Васильев Ю.С., Чепарухин В.В. Фрагменты истории технического университета в Санкт-Петербурге (к 100-летию крупнейшего технического вуза в России //Вопросы истории естествознания и техники. 2000. - № 1.- С. 96-110.
252. Волкова В.А., Куликова М.В. Российская профессура: под «колпаком» у власти //ВИЕТ. 1994.-№2.- С. 65-75.
253. Горелик Г.Е. Обсуждение «натурфилософских установок современной физики» в Академии наук в 1937-1938 гг. // ВИЕТ. — 1990. № 4. - С. 17-31.
254. Грекова Т.И., Ланге К.А. Трагические страницы истории Института экспериментальной медицины (20 30-е годы) // Репрессированная наука. Вып. И. С. 9-23.
255. Дмитриев А. Институт истории науки и техники в 1932—1936 гг. (ленинградский период) //ВИЕТ. 2002. -№ 1. - С. 3-29.
256. Заблоцкий Е.М. «Дело Геолкома» // Репрессированные геологи. С. 398 — 403.
257. Ермолаева Н.С. О так называемом «Ленинградском математическом фронте» //ВИЕТ. 1995. -№4. -С. 66-74.
258. Есаков В.Д. Почему П.Л.Капица стал невыездным // Вестник РАН. -1997.-№6. С. 543-551.
259. Иванов В.А. Операция «Бывшие люди» : Ленинград, 1935 (персональный список № 1) // Из глубины времен. 1997. - № 8. - С. 46 -71.
260. Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно» (Новое об изгнании духовной элиты //Вопросы философии. 1993,- №9. - С. 61-84.
261. Колчинский Э.И., Кольцов А.В. Российская наука и кризис в начале XX в. // На переломе. Отечественная наука в первой половине XX в. Вып. СПб., 1999.-С. 55-91.
262. Кольцов А.В. Выборы в Академию наук в 1929 г. // ВИЕТ. 1990. - № 3. - С. 53-66.
263. Конашев М.Б. Об одной научной командировке, оказавшейся бессрочной //Репрессированная наука. Вып. I. С. 240 263.
264. Косарев В.В. Физтех, Гулаг и обратно (белые пятна из истории ленинградского Физтеха //Чтения памяти А.Ф.Иоффе. 1990. Сб. научн. тр. СПб., 1993.- С. 105- 177.
265. Кривонос Ю.И. О беседе Молотова с академиками в 1934 г. //ВИЕТ.- 2003. -№1.- С. 94-98.
266. Кузнецов В.И. Возрождение правды об академике В.Н.Ипатьеве // ВИЕТ. -1991. №4. - С. 65-76.
267. Купайгородская А.П. Деятели русской науки под присмотром ОГПУ -РКП(б) (Ленинград, середина 20-х годов) //Деятели русской науки XIX -XX веков. Вып. 2. СПб., Дмитрий Буланин. 2000.- С. 124-137.
268. Лосский Н.О. Воспоминания //Вопросы философии. 1991. №11.— С. 116-190.
269. Макеева В.Н. К истории создания и деятельности органов по руководству наукой в Петрограде-Ленинграде в 1917-1925 гг. // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. III. Л., 1970. С. 214-221.
270. Макеева В.Н. К истории создания и развития ВАМИ (1931-1941 гг.) // Наука и техника. Вопросы истории и теории. Вып. X. М. - Л., 1979. — С. 15-20.
271. Макеева В.Н. Ленинградский Объединенный научно-технический совет — центр по координации исследований (1926-1930 гг.) //Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. IV. Л., 1971. — С. 435 -441.
272. Павлова Г.Е. Роль ленинградских научно-исследовательских институтов Главнауки Наркомпроса в развитии народного хозяйства страны в 1918— 1925 гг. //Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Вып. IV. с. 442 -446.
273. Перченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» //Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М.: Прогресс и др. 1991.- С. 163-235.
274. Перченок Ф.Ф. К истории Академии наук: снова имена и судьбы. Список репрессированных членов Академии наук // In Memoriam. Исторический сборник памяти Ф.Ф.Перченка. М. СПб.: Феникс — ATHENEUM. 1995.- С. 141-210.
275. Петровский А.В. Запрет на комплексное исследование детства // Репрессированная наука. Вып. I. JL, 1991.- С. 126-132.
276. Самойлов В., Виноградов Ю. Иван Павлов и Николай Бухарин: от конфликта к дружбе //Звезда. 1989. - № 10. - С. 94-120.
277. Селезнева И.Н. Интеллектуалам в Советской России места нет //Вестник РАН. 2001. Т. 71. №8.- С. 738-741.
278. Селезнева И.Н., Яншин Я.Г. Мишень российская наука // Вестник РАН. - 1994. - № 9. - С. 821 - 827.
279. Соболева Е.В. Подготовка научных кадров в исследовательских учреждениях промышленности СССР в 1926-1932 гг. //Наука и техника. Вып. VIII. ЧастьII. Л., 1972. -С. 135- 138.
280. Соловьев Ю.А. «Дату смерти знает только МВД.» Дмитрий Иванович Мушкетов (1882-1938) //ВИЕТ. -2001. №2.-С. 75-92.
281. Списки членов АН СССР, подвергавшихся репрессиям. Составлен Ф.Ф.Перченком //Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. Сб. статей. — С. 236 — 252.
282. Томилин К.А. Ученые в сталинских списках // ВИЕТ. 2002. - № 2. — С. 398-401.
283. Тугаринов И.А. ВАРНИТСО и Академия наук (1927 1937 гг.) // ВИЕТ. -1989. - №4. - С. 46-55.
284. Формозов А.А. академия истории материальной культуры — центр советской исторической мысли в 1932-1934 гг. //Отечественная культура и историческая мысль XVIII XX веков. Сб. статей и мат-в. Брянск, Изд-во Брянского гос. педаг. ун-та. 1999. - С. 5-32.
285. Черняев В.Ю. Ученый, власть и революция: парабола судьбы Н.С.Таганцева //Интеллигенция и российское общество в начале XX века. Сб. статей. СПб., Изд-во СПб филиала Ин-та российской истории РАН. 1996. С. 161-183.
286. Четыре миллиарда ученым Петрограда /Публ. И.А.Ревякиной и И.Н. Селезневой //Вестник РАН. 1994.- № 12. - С. 1100- 1105.
287. Юшкевич А.П. «Дело академика Лузина» // Вестник АН СССР. 1989. -№4. с. 102-113.
288. Ярошевский М.Г. Марксизм в советской психологии (к социальной роли российской науки) // Репрессированная наука. Вып. II. С. 24 - 44.