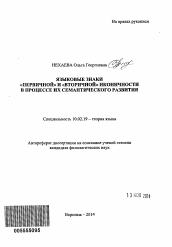автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.19
диссертация на тему: Языковые знаки "первичной" и "вторичной" иконичности в процессе их семантического развития
Полный текст автореферата диссертации по теме "Языковые знаки "первичной" и "вторичной" иконичности в процессе их семантического развития"
На правах рукописи
НЕХАЕВА Ольга Георгиевна ( "'ОрГ-^
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАКИ «ПЕРВИЧНОЙ» И «ВТОРИЧНОЙ» ИКОНИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИХ СЕМАНТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Специальность 10.02.19-теория языка
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
13 НОЯ 2014
Воронеж-2014
005555095
005555095
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет»
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Бабушкин Анатолий Павлович
Официальные оппоненты: Гольдберг Вера Борисовна
доктор филологических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», профессор кафедры английской филологии
Маклакова Елена Альбертовна
кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», заведующая кафедрой иностранных языков
Ведущая организация: ФГБУН Институт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН
Защита состоится « » О f/Cftf/Di-Z 2014 г. в 13 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 212.038.07 в ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» по адресу: 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 10, аудитория 85.
С диссертацией можно ознакомиться в Зональной библиотеке ФГБОУ ВПО «Воронежского государственного университета» и на сайте http: //www.science.vsu.ru (вкладки Наука - Защита диссертаций).
Автореферат разослан »
2014 г.
Учёный секретарь диссертационного совета
Голицына Татьяна Николаевна
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Реферируемая работа посвящена анализу семантического развития языковых знаков «первичной» и «вторичной» иконичности в процессе их перехода в статус знаков-символов, составляющих большую часть единиц знаковой системы. Под знаками «первичной» иконичности понимаются звукоподражательные глаголы (ономатопоэтические репрезентации). К знакам «вторичной» иконичности относятся глагольные лексемы, вербальная оболочка которых строится на признаках, заложенных в основу номинации, другими словами, глаголы, мотивированные внутренней формой. Знаки-символы - это глагольные лексемы, полностью утратившие свою мотивированность.
В основе гипотезы исследования лежит предположение о том, что в результате перехода знаков-икон в знаки-символы вербальные единицы (при неизменности своей формы) должны приобретать новое содержание, т.е. наполняться новыми смыслами, тем самым расширяя и обогащая словарный состав языка.
Проблема характера связи между предметом и его названием, сводимая к вопросу о том, получают ли вещи имена «по природе» или эти имена присваиваются им произвольно, «по установлению», уходит своими корнями во времена античности. Размышления на эту тему подвели философов эпохи эллинизма - стоиков - к понятию знака, в котором древние мыслители различали две стороны - означаемое и означающее. Трактовки знака как двусторонней сущности придерживались ученые средневековья, в дальнейшем эту идею воспринял В. фон Гумбольдт, а на рубеже XIX -XX вв. она легла в основу самостоятельной науки о знаках и знаковых системах - семиотики, у истоков которой стояли Ч.С. Пирс и Ф. де Соссюр.
Актуальность данного исследования продиктована тем, что проблема знаковости единиц языка, являясь одной из основополагающих в лингвистике, не утратила своей научной привлекательности и в настоящее время. Вопрос о связи означаемого с означающим языкового знака был и остается равным пониманию его устройства. Интерес к знаку возрос тогда, когда в науке о языке утвердилось новое, когнитивное направление, в русле которого языковеды обратили внимание на информативность, несомую не только идеальной стороной языкового знака, означаемым, но и его материальной, «телесной» стороной - означающим (на важность учета которого в свое время указывал P.O. Якобсон).
При таком подходе возникает необходимость изучения перспектив развития соотношений между этими двумя сторонами, особенно когда речь идет о мотивированных языковых знаках и, прежде всего, о звукоподражаниях, в которых данное соотношение имеет свою специфику. Рассмотрение эволюции развития сторон, формирующих знак, на примере двух неродственных языков также определяет актуальность исследования.
Важным представляется обращение к активно разрабатываемой сегодня проблеме «картины мира», а именно - ее фрагменту, объективируемому ономатопоэтической лексикой.
В качестве объекта исследования в реферируемой работе выступают звукоподражательные глагольные лексемы и глагольные лексемы, поименованные на основе признаков, сохранившихся во внутренней форме слов.
Предмет исследования - процессы перехода мотивированных глагольных лексем в немотивированные языковые единицы.
Цель диссертационного сочинения заключается в анализе семантического развития разных по природе иконичности языковых знаков до их конверсии в знаки-символы.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. Рассмотреть звукоподражательные глаголы русского языка в соответствие с типологией языковых знаков, разработанной Ч.С. Пирсом.
2. Исследовать метафоры, фиксирующие звуковую палитру мира в качестве ступени реорганизации знаков-икон в знаки с полным отсутствием связи между означаемым и означающим.
3. В свете учения о языковых знаках Ч.С. Пирса проанализировать глаголы, мотивированные внутренней формой, а также проследить путь их семантического развития в русском языке.
4. Выявить общность тенденции перехода знаков-икон в знаки-символы на материале английского языка.
5. Определить место звукоподражаний в языковой картине мира.
Методологическую и теоретическую базу исследования составляют
труды отечественных и зарубежных ученых в области общего языкознания, особенно работы по семасиологии, семиотике и когнитивной лингвистике: Э.Г. Аветяна, А.П. Бабушкина, JI.A. Булаховского, В.Г. Гака, С.И. Карцев-ского, Г.А. Колшанского, O.A. Корнилова, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, A.A. Потебни, Ю.С. Степанова, И.А. Стернина, И.С. Торопцева, К. Бюлера| Л. Витгенштейна, В. фон Гумбольдта, Дж. Лакоффа, Ч.С. Пирса, Э. Рош,' А. Соломоника, Ф. де Соссюра, P.O. Якобсона и др.
Методы исследования. В диссертации используются метод анализа словарных дефиниций, метод контекстуального анализа, метод прототи-пического анализа и сопоставительный метод исследования.
Материал исследования составили 65 глаголов русского языка и 41 глагол английского языка. Лексические единицы были выделены способом сплошной выборки из толковых, двуязычных, этимологических словарей русского и английского языков. Проанализировано более 50 ООО примеров из произведений русских и английских писателей и поэтов, русскоязычных и англоязычных материалов публицистического характера, представленных как в оригинальных текстах, так и в Национальном корпусе русского языка (Ьир://ги5софога.ги/БеагсЬ-шшп.Ыт1) и в Британском национальном корпусе английского языка (http://corpus.byu.edu).
Научная новизна работы обеспечивается тем, что в ней впервые последовательно прослеживаются семантические сдвиги в плане содержания звукоподражательных слов, приводящие к тому, что лексико-семантические варианты звукоподражаний переходят в языковые единицы, лишенные своих ономатопоэтических характеристик. Впервые многозначность звукоподражательных слов рассматривается с точки зрения теории прототипов. К фактору новизны следует отнести трактовку звукоподражаний как репрезентаций «языковой» (от природы) картины мира, т.е. мира звуков, «схваченных» языковыми знаками «первичной» иконичности. На новом материале дальнейшее развитие получает идея «вторичных» шсонических знаков. В работе прослеживаются перспективы развития языковых знаков «вторичной» иконичности и выявляется роль метафор, участвующих в этом процессе. Выявлены случаи перехода одного типа языковых знаков в другой на примере языка, неродственного русскому.
Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей разработке типологии языковых знаков, предложенной Ч.С. Пирсом и P.O. Якобсоном. Заслуживает внимания выявленная в работе взаимосвязь между характером мотивированности языкового знака и его типом. Важным для теории языка представляется изучение полисемии звукоподражаний и особенно вариантов их образных переосмыслений на базе концепции «фамильного сходства» и их индексальных характеристик, т.е. соотнесенности «звуковых картинок» (термин К. Бюлера) с объектами живой и неживой природы, ответственными за звукоряды, которые закрепляются в семантике ономатопоэтических номинаций. В научный оборот введен термин «квазииндексальность», необходимый при анализе разновидностей звукоподражательных метафор. Полученные результаты расширяют и углубляют современные представления о процессах, происходящих в пределах знаковой системы языка, а именно - переходах знаков «первичной» и «вторичной» иконичности в знаки-символы.
Практическая ценность состоит в том, что результаты исследования, связанные с толкованием вторичных значений русских и английских звукоподражательных глаголов и глаголов с прозрачной внутренней формой, дублируемой в их именованиях, могут использоваться при разработке учебных курсов по лексикологии и теории языка, при уточнении словарных статей русских и английских лексикографических источников. Результаты исследования метафорических значений звукоподражательных глаголов представляют готовый материал для создания экспериментального словаря, который окажется полезным при изучен™ раздела семиотики в курсе «Теория языка».
Апробация работы. Основные положения диссертации и выводы, полученные в ходе исследования, обсуждались на Международной конференции «Синхрония и диахрония: современные парадигмы и современные концепции» (июнь 2012 г.) в Воронеже, на Международном конгрессе по
когнитивной лингвистике в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина (октябрь 2012 г.), были изложены в материалах первой международной научной конференции «Язык и культура в эпоху глобализации» в Санкт-Петербурге (март 2013 г.) и на научных сессиях Воронежского государственного университета, а также на заседаниях кафедры иностранных языков и технологии перевода Воронежского государственного технического университета. Материалы диссертации отражены в одиннадцати публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Звукоподражания являются «первичными» иконическими знаками, что предполагает дальнейшую филиацию понятия иконичности. Одновременно «первичные» иконические знаки являются знаками-индексами, поскольку имплицируют источники звукопроизводства.
2. При указании ономатопоэтической репрезентацией на связь с генетически не свойственным ей источником звучания, когда звукоподражание используется ad hoc лишь для создания метафорического образа, языковой знак приобретает такую характеристику, как «квазииндексаль-ность». «Квазииндексальность» - свойство любого звукоподражания, употребленного в переносном значении.
3. Исходные значения ономатопоэтических репрезентаций выступают в роли прототипов для образованных по принципу «фамильного сходства» их лексико-семантических вариантов в виде метафор. Выходя за пределы «фамильного сходства», звукоподражания способны частично или полностью утрачивать присущую им иконичность, приобретая в итоге статус знаков-символов.
4. Мотивированные глагольные лексемы, не имеющие отношения к звукоподражаниям, являются знаками «вторичной» иконичности, которая основана на аллюзии к признаку, посредством которого та или иная лексема оказывается мотивированной. Знаки «вторичной» иконичности повторяют путь семантического развития знаков «первичной» иконичности, которые через метафору также становятся знаками-символами. Тенденция к переходу знаков «первичной» и «вторичной» иконичности в знаки-символы прослеживается на материале как русского, так и английского языков.
5. Звукоподражания формируют особый участок картины мира, являющийся поистине «языковым» (от природы).
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, теоретической главы, двух исследовательских глав, Заключения, Библиографии, Списка использованных словарей и их условных сокращений, Списка использованных интернет-ресурсов, Списка литературных источников исследования на русском и английском языках. Общий объем диссертации составляет 235 страниц.
Во Введении обосновываются цели и задачи исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость работы, констатируются методы анализа, указываются источники исследования, определяются положения, выносимые на защиту.
Основная часть работы состоит из трех глав:
Глава 1. «Теоретические основы исследования».
Глава 2. «Языковые знаки «первичной» и «вторичной» иконичности русского языка в процессе их семантического развития».
Глава 3. «Семантическое развитие языковых знаков «первичной» и «вторичной» иконичности в английском языке».
Заключение содержит основные итоги проведенной работы, намечает перспективы дальнейшего исследования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и предмет исследования, формулируются основная цель и задачи работы, представляются методы анализа, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, излагаются положения, выносимые на защиту, описывается структура работы.
Глава I «Теоретические основы исследования» посвящена обзору научной литературы, послужившей базой для развития авторской концепции, при этом особое внимание уделяется семиотическим воззрениям американского философа, логика и математика Ч.С. Пирса (1839 - 1914), а именно - разработанной им типологии знаков. Данная типология, построенная на способе связи между означающим, имеющим материальные качества и означаемым знака, по терминологии Ч.С. Пирса - интерпретацией, является одной из наиболее авторитетных и представляет собой деление знаков на «иконы», «индексы» и «символы».
По мнению Ч.С. Пирса, «икона» - это знак, основанный на подобии означаемого и означающего. Любой знак может служить иконой просто потому, что похож на свой объект. Примерами икон могут быть фотографии, рисунки с натуры, скульптуры, чертежи и т. д. В языке к ним относятся идеографы (египетская иероглифика) и идеофоны (слова, значение которых тесно связано с их звучанием) [Пирс 2000]. Пирс усматривает иконичность и в языковых метафорах. Этот тезис для нас исключительно важен.
«Индексальные» знаки предполагают реальную связь со своими объектами. Флюгер, указывающий направление ветра, стук в дверь, низкие показания барометра, удар грома - все, что фокусирует наше внимание, есть индекс. В языке это междометия, указательные и притяжательные местоимения, предлоги и предложные фразы [Пирс 2000]. По Ч.С. Пирсу было бы сложно найти какой-нибудь знак, совершенно лишенный индексально-
го качества, психологическое действие которого зависит от ассоциации по смежности, а не от ассоциации по сходству или интеллектуальных операций [Пирс 2000].
К «символам» Ч.С. Пирс относит любые знаки, которые отсылают к обозначаемому им объекту в «силу закона», то есть определенной естественной или конвенциональной привычки. «Символ связан со своим объектом через идею пользующегося символом ума - идею, без которой не существовало бы никакой такой связи» [Пирс 2000]. Ч.С. Пирс говорит, что примером символа может быть всякое обычное слово, такое как «давать», «птица», «свадьба». Предполагается, что человек способен вообразить стоящие за символом вещи и ассоциирует с ними соответствующие лексемы [Пирс 2000].
Сделав акцент на том, что большая часть всех языковых знаков принадлежит к знакам-символам, Ч.С. Пирс писал: «Символы растут. Они возникают, развиваясь из других знаков, в особенности же из икон или из смешанных знаков, имеющих природу как икон, так и символов» [Пирс 2000], то есть в процессе эволюции языка иконические знаки могут приобретать признаки знаков-символов, которые не были свойственны им изначально.
Анализ языкового материала показывает, что Ч.С. Пирс говорит не только о естественных знаках, но и о знаках языковых. Наиболее глубокое лингвистическое осмысление идеи Ч.С. Пирса получили в работах российского, позже - американского лингвиста, P.O. Якобсона (1896 - 1982). Именно P.O. Якобсон был первым ученым, который обратил внимание на высказанную Ч.С. Пирсом идею о том, что различия трех основных видов знаков - это лишь относительные различия в их иерархии. В основе этих различий лежит только преобладание одного из факторов над другим [Якобсон 1983].
Творчески развивая теорию Ч.С. Пирса, P.O. Якобсон проявил особый интерес к иконическим знакам, рассматривая их на фонологическом, морфемном, лексическом и синтаксическом уровнях языка. В сферу его особого внимания попали и знаки-индексы [Якобсон 1972]. Начиная с 1965 года, когда впервые увидела свет статья P.O. Якобсона «В поисках сущности языка», как в странах Западной Европы и США, так и в нашей стране опубликован целый ряд лингвистических исследований, посвященных проблеме иконичности в языке [Березин 1996; Сигал 1997; Панфилов 1977; Wescott 1971; Givon 1985; Seiler 1989 и др.].
Последующее развитие знаковой теории Пирса-Якобсона сопряжено с когнитивным подходом к семиотическим феноменам, инициатором которого в нашей стране стала Е.С. Кубрякова.
Для Е.С. Кубряковой материальность, субстанциональный характер знака, наличие у него собственного «тела» - это такое же неотъемлемое свойство знака, как передаваемое им содержание, и этой стороне знака надо уделять не меньшее внимание, чем его значению [Кубрякова 2004].
По мнению Е.С. Кубряковой, типология Ч.С. Пирса дает возможность понять не только особенности языковых знаков, но также их интенцио-нальную природу - языковые знаки специально используются для передачи значения, в то время как естественные знаки (например, следы на песке) такого назначения не имеют. Анализируя вклад в проблему типологии знаков P.O. Якобсона, Е.С. Кубрякова обращает внимание на то, что классификация знаков характеризуется им как зависимая исключительно от того, как «тело» знака определенной природы репрезентирует свое содержание [Кубрякова 2004].
Говоря о второй стороне знака - означаемом, Е.С. Кубрякова подчеркивает его концептуальную сущность. Она видит в означаемом квант информации, «схваченной» знаком, подведенный под его «крышу» [Кубрякова 2004]. Под метафорическим выражением «крыша знака» имеется в виду его материальная сущность. Перефразируя слова Е.С. Кубряковой, можно сказать, что информативность «тела» знака определяется тем, к какому типу - «иконе», «индексу» или «символу» - он относится.
На фоне такого понимания устройства языкового знака не выдерживает критики позиция Ф. де Соссюра, для которого обе стороны знака - означаемое и означающее - являются психическими сущностями [Соссюр 1964].
О том, что объект нашего исследования - звукоподражательные слова - имеют иконическую природу, неоднократно отмечалось в трудах отечественных и зарубежных лингвистов [Бюлер 2000; Торопцев 1985; Уфим-цева 1986; Соломоник 1995; Бабушкин 2005].
Важно то, что звукоподражания (в статусе знаков-икон), как и многие другие знаки языка, стремятся к многозначности (полисемии). На фоне традиционного подхода к проблеме полисемии разрабатывается новый взгляд на это явление с позиций теории «фамильного сходства», по JI. Витгенштейну [Витгенштейн 1985], а также теории прототипов, по Э. Рош [Rosch 1973]. Суть «фамильного сходства» заключается в том, что члены одной и той же категории по общности содержащихся в них характеристик связаны таким же сходством, как в той или иной мере похожи друг на друга члены одной и той же семьи. Например, понятие «фамильного сходства» переносит на полисемию такой известный лингвист, как Дж. Jla-кофф [Лакофф 2004].
Значимой оказывается и связь полисемии с прототипическим подходом к проблеме категоризации. Согласно Краткому словарю когнитивных терминов первичное значение полисемичного слова можно рассматривать как прототип - обладающий привилегированным статусом лучший образец своего множества [КСКТ 1996].
Переходя к глаголам, которые по типологии Пирса являются знаками-символами, прежде всего, следует указать на их неоднородность: различают мотивированные и немотивированные языковые знаки. И.С. Торопцев отмечает, что если мотивированное слово теряет словопроизводственную
связь с мотивирующим словом, т. е. деэтимологизируется, то оно утрачивает свой мотивировочный характер и пополняет ряд немотивированных лексических единиц. По-другому дело обстоит с мотивированными словами, обладающими большой глубиной и стойкостью [Торопцев 1985].
В связи с вышеизложенным, представляется правомерной точка зрения А.П. Бабушкина рассматривать мотивированные, производные лексемы как знаки, обладающие «вторичной» иконической сущностью. «Вторичная» иконичность заключается в уподоблении звуковой оболочки (означающего) мотивированного знака признаку, заложенному в основу его номинации. При этом сам признак не имеет ничего общего с означаемым и связан с ним лишь условно (символически) [Бабушкин 2005]. Ученый выделяет целый ряд признаков, среди которых «цвет», «форма» и «мера», «признак сенсорных восприятий», «признак субстантивированного действия» и некоторые другие. Например, в слове «синица» заложен признак «цвета», хотя связь звукоряда данной лексемы с сущностью самой птицы отсутствует [Бабушкин 2005].
Отмечая важность новых характеристик, обнаруженных А.П. Бабушкиным, З.Д. Попова подчеркивает, что иконичность производных лексем явно иного качества, чем соответствующие свойства звукоподражаний. Такие лексемы иконичны по отношению к своим референтам посредством немотивированных лексем-символов и заслуживают специального изучения [Попова 2006].
Если придерживаться идеи о том, что полисемичные слова объединены «фамильным сходством» вокруг основного прямого значения, которое можно рассматривать как прототипическое, то представляется возможным считать прямое значение как звукоподражательного глагола, так и глагола с мотивированной внутренней формой прототипами для всех остальных неосновных значений.
Таким образом, под широко известный термин «языковая картина мира» можно подвести три ее составляющие, которые обеспечиваются языковыми знаками, разными по природе своих материальных субстанций, из них только языковые знаки «первичной» иконичности приближены к подлинно «языковой» (от природы) «картиночности».
Глава II «Языковые знаки «первичной» и «вторичной» иконичности русского языка в процессе их семантического развития» содержит практическую часть исследования, состоящую из двух разделов. Первый раздел посвящен описанию процесса, в результате которого звукоподражательное слово (в нашем понимании знак, содержащий «икону» и «индекс») реорганизуется в знак-символ, утрачивая в плане своего содержания одновременно иконические и индексальные характеристики. Для осуществления поставленных целей и задач нашей работы мы остановили свой выбор на глаголе, руководствуясь тем, что производство звуков - это, прежде всего, фонетическое действие («изображение деяний») [Ломоносов 1952].
и
Имеющиеся в корпусе русского языка звукоподражательные глагольные лексемы можно условно разделить на «явные», то есть те, которые довольно легко определяются как звукоподражания животным, шумам природы, звукам, производимым различными приспособлениями и машинами, а также звукам, непроизвольно издаваемым человеком, и «скрытые» - те, которые могут быть выявлены в результате анализа авторитетных этимологических словарей. Несмотря на то, что Ф. де Соссюр говорил об ограниченном количестве звукоподражаний [Ф. де Соссюр 1964], наше исследование лексикографических источников показало, что таких слов достаточно много.
Анализ каждого примера из отобранного нами блока звукоподражательных глагольных лексем русского языка производится в следующем порядке:
1) Ономатопоэтическое слово представляется в своем прямом значении, приводится его словарное определение, которое в большинстве случаев содержит характеристику звука, и глагол иллюстрируется примером, взятым либо из лексикографического источника, либо из художественной литературы, публицистики, интернет-ресурсов.
2) В качестве отдельного пункта рассматривается вариант, при котором предполагаемый звукоряд, объективируемый словом, способен актуализироваться благодаря образному сравнению, т.е. опосредованно, с помощью другой «звуковой картинки».
3) Отдельным пунктом изучаются метафорические переносы, среди которых могут быть случаи перехода звукоподражательного слова на более высокую ступень абстракции, репрезентированную обобщенным вариантом дефиниции звукоподражания, в которой признаки осмысливаются по характеру их исходного звукопроизводства (при этом не обязательно упоминается сам «источник» звучания).
Выявлено, что большая часть метафорических репрезентаций звукоподражательных глаголов связана с «оригиналом» по принципу «фамильного сходства». Эти значения звукоподражательных лексем иногда указываются в лексикографических источниках (что случается довольно редко), но на деле представляют собой большой массив словоупотреблений. Практика показывает, что рядом с метафорами можно встретить манифестаторы характеристики звука, свойственные прямому значению звукоподражательных слов. См.: «блеять» - «издавать дрожащие, прерывистые звуки (об овцах и козах)» [БАС 2005]. Пример метафорического употребления глагола «блеять», сохранившего характеристику звука представлен ниже:
- Наивная вы, Царь Иванна, - дрожащим голосом заблеяла Ирка, -еще как в хозяйстве такой цветочек сгодится. Для жены, например, или
для тещи (Донцова).
4) Завершают предложенный нами порядок рассмотрения ономатопоэтических номинаций их варианты, полностью утратившие соотнесенность с прототипической репрезентацией (имеется в виду переход иконического знака в символ).
Исследуемые звукоподражательные глаголы организованы по следующим группам: лексемы, обозначающие 1) звуки, производимые насекомыми; 2) звуки, производимые птицами; 3) звуки, издаваемые животными; 4) звуки, издаваемые человеком как намеренно, так и непроизвольно; 5) звуки и шумы, относящиеся к природе и объектам внешнего мира.
В качестве примера рассмотрим звукоподражательную глагольную лексему «жужжать», в которой отмечены все пункты разработанного нами анализа.
Жужжать
I. Словарное определение звукоподражательной лексемы.
Глагол «жужжать» применительно к насекомым означает «производить крыльями при полете однообразно-дребезжащий звук» [БАС 2006]:
На крупных ярко-красных цветках какого-то незнакомого вьющегося растения качались красивые большие бабочки и жужжали пчелы (Обручев).
II. Опосредованный признак, указанный через сравнение.
В приводимом далее стихотворном отрывке глагол «жужжать» связан с прямым значением, в котором содержится характеристика звука, посредством активации в памяти соответствующего фонетического образа:
Гудит, жужжит, как улей, школа. Усердно перьями скрипит (Петухов).
III. Метафорический перенос.
а) Обобщенная дефиниция звукоподражательного слова.
Лексема «жужжать» употребляется для передачи представления о звуках, издаваемых стремительно движущимися предметами, работающими приборами, механизмами и т.п., где она имеет значение «производить однообразно-дребезжащий или свистящий шум [БАС].
<...> проглочу таблетку и включу вентилятор. - Он жужжит, - воспротивилась Наташка. — Зато однообразно. Живо убаюкаемся (Андреева).
б) Метафорические репрезентации, связанные с «оригиналом» по принципу «фамильного сходства».
Интересным оказывается пример, в котором с «жужжанием» сравниваются не только голоса людей, но и рутинность дней, как если бы постоянное, скучное бытие вдруг оказалось озвученным:
Барак жужжит и вьется по-мушиному,/ на нарах - мышья мелкая возня./ Жужжит однообразие мышиное/ вчерашнего и завтрашнего дня (Тамарина).
IV. Переход звукоподражания как иконического знака в знак-символ.
Толковый словарь русского сленга B.C. Елистратова определяет лексему «жужжать» как «выделяться чем-л. на общем фоне, пользоваться успехом, быть известным, модным; процветать, преуспевать»:
- Я слышала, ты, Димуля, жужжишь, тебя и по телевизору показывают, как Пугачеву! [ТСРС 2007]
Не все отмеченные выше позиции могут быть проиллюстрированы на примере звукоподражаний, привлеченных нами к анализу, однако наличие даже отдельных пунктов из данного перечня оказывается достаточным для целей нашего исследования.
Крякать
I. Словарное определение звукоподражательной лексемы.
Прямое значение глагольной лексемы «крякать» - «издавать звук, похожий на 'кря-кря' (об утке)» [БАС 2007].
Солнце, еще не грея, светило сквозь неподвижный, незамутненный сыростью воздух. И крякали утки на пруду (Бутузов).
II. Метафорический перенос.
Лексема «крякать» употребляется и в значении «издавать треск, хруст, напоминающий кряканье утки» [БАС].
Где-то ломались и крякали доски, и в двери оглушительно нажаривали палками (Гладков).
III. Переход звукоподражания как иконического знака в знак-символ.
Историко-этимологический словарь русского жаргона трактует слово
«крякать» как «умирать» [ИЭСРЖ 2008].
-Он же у тебя старенький уже, у него же счет уже на часы идет, а ты - «каждый д-е-е-нь»! Ты б поторопилась, а то крякнет, так и останешься... (Южина).
Совершенно очевидно, что значение этого арготизма никак не связано со звукоподражанием. Для носителя языка связь между означаемым и означающим в данном случае совершенно отсутствует.
Учитывая тот факт, что в звукоподражаниях есть имплицитное указание на производителя звука, мы рассматриваем их и как индексальные. Иконичность звукоподражательных лексем связана с их индексальностью, поскольку в самой дефиниции той или иной ономатопеи, как правило, есть указание на производителя звука. Примерами могут послужить дефиниции Словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова (СРЯ): «Кудахтать. О курице: кричать, издавать характерные звуки; Брякать: производить шум, стук твердым, звенящим предметом» [СРЯ 1986].
Одна из важнейших позиций в науке о знаках - их интерпретация. Человек интерпретирует звук, понимая природу метафорических «замен». В этой связи мы вводим в научный оборот термин «квазииндексальность».
Квазииндексальность - свойство иконического знака (в нашем случае -звукоподражания) указывать на связь этого знака (точнее, звукоряда, лежащего в основе ономатопеи) с генетически не свойственным ему источником звучания, которому в окказиональном порядке, ради создания художественного образа, приписываются «чужие» фонетические характеристики, фиксируемые соответствующим звукоподражательным словом (неслучайно приставка «квази» во вводимом нами термине «квазииндексальность» по-латыни значит «мнимый», «ненастоящий»).
Речь идет о метафорических репрезентациях трех типов:
1) персонификации, т.е. антропоморфизации звуковых образов, свойственных неодушевленным предметам;
2) натурализации (от лат. natura - природа) - перенесении звукообразов, присущих неживой природе, на человека;
3) анимализации - переносе звукоподражаний (шумов насекомых, выкриков птиц и зверей) на другие объекты;
В работу включено 32 иллюстрации представленных выше типов «ква-зииндексальности». Приведем пример персонификации:
Но дальше я не поехала, выяснилось, что дорога ужасна, и машина начала чихать, и вообще одной ехать так далеко скучно и опасно (Катанян).
В данном случае признак человека - «чихать» - то есть «судорожно, с резким звуком выдыхать воздух» [ССРЛЯ 1965], переносится на артефакт.
Иллюстрацией натурализации может служить пример, в котором между словами «вода» и «человек» стоит знак метафорического равенства на основе сходства производимого ими звукового эффекта:
Но обернувшись к нему и взяв под руку, Таисия, как и прежде, прожур-чала: «Пошли до Матушки, молодец» (Вершинин).
Анимализацию демонстрирует пример, в котором лексема «чирикать» способна заменить выражение «поговорить по душам»:
- Пойдем почирикаем на утренней прохладе (Бушков).
Исследование 37 звукоподражательных лексем в первом подразделе главы показало, что промежуточной стадией этого перехода являются метафорические переосмысления звукоподражаний, готовых к дальнейшему семантическому развитию. Именно в ономатопоэтических метафорах в определенной мере теряется природная связь между означаемым и означающим. Выявляется и тот факт, что звукоподражательные глаголы наряду с утратой ономатопоэтических признаков лишаются и своих индек-сальных характеристик. Данный тезис также справедлив и в отношении метафор, маркированных «квазииндексальносгью», т.к. любой метафорический перенос предполагает смену производителя звука. Особенность звукоподражательных номинаций и, прежде всего, их переносных значений проявляется в том, что они восходят к прототипам: каждый лексико-семантический вариант звукоподражательного слова наделен определенным «фамильным сходством» со своим естественным источником - соответствующим звукорядом, зафиксированным в означающем языкового знака и хранимым в звуковой памяти носителей языка (ср. мурлыкать (о кошках и других животных семейства кошачьих) - издавать звуки, напоминающие 'мур-мур'; тихо урчать и еле слышно, невнятно напевать или говорить мягким, вкрадчивым голосом-, рычать - издавать громкие, угрожающие, низкого тона звуки, напоминающие звук р-р-р (о животных) и кричать, говорить грубым, раздраженным голосом).
В результате работы выявлено множество метафорических репрезентаций, отражающих русскую звуковую картину мира. Вместе с тем показано, что отход языкового знака от «фамильного сходства» приводит его к типсь логическому сдвшу: хотя по форме своей знак остается неизменным, его уже нельзя причислить к разряду «икон» (ср. крякнуть - издавать звук, похожий на 'кря-кря' и умирать; хлопать - производить ziyxoü, короткий звук, ударяя чем-нибудь и тратить деньги, просаживать за один раз).
Во втором разделе первой главы речь идет о так называемой «вторичной» иконичности языковых знаков. В своей работе А.П. Бабушкин [Бабушкин 2005] обозначил содержание этого термина. Мы же вводим его в научный оборот, выявляем сущность «вторичной» иконичности на многочисленных примерах и, что самое главное, вписываем ее в контекст нашего исследования, усматривая в переносных значениях слов, маркированных «вторичной» иконичностью, шаг по направлению к абсолютной немотивированности языкового знака.
Поскольку в первой части исследования рассматривались звукоподражательные лексемы, представленные глаголами, то, из соображения единообразия материала, во второй части также будут проанализированы глаголы, приведенные в данный класс из других частей речи.
Исследование ограничено производными глаголами, в номинациях которых на современном срезе языка сохранились аллюзии к признакам, содержащимся во внутренней форме слов. Выделенные лексические единицы были классифицированы по наличию в их основах следующих признаков: цветовых, различных сенсорных оШущений, признаков орудийности, бытовых инструментов, их соматических признаков, схематически-конфигурационных признаков, признаков предметности и т.д.
Переход языкового знака, характеризующегося как «вторичная» икона, в знак-символ иллюстрируется глаголом «скиснуть», в котором отмечается сенсорный признак:
Скиснуть
I. Словарное определение лексемы.
Толковый словарь русского языка сообщает, что прямое значение лексемы «скиснуть» - «стать кислым, прокиснуть» (вследствие брожения), что значит приобрести своеобразный острый вкус (напр., вкус лимона, уксуса") [СРЯ 1986].
Она пила молоко. Молоко скисло, почти створожилось (Крыщук).
И. Метафорический перенос.
Следующий пример демонстрирует разговорное использование этой лексемы, когда она получает значение «стать скучным, вялым, впасть в уныние [СРЯ].
Однако вот что: скисли блатные — в лагере не стало воровства. В тумбочке оказалось можно оставить пайку (Солженицын).
III. Переход лексемы, обладающей «вторичной иконичностью», в знак-символ.
В словаре русского языка отмечено еще одно переносное значение -«перестать действовать» [MAC 1999].
- Мы с тобой плавали, когда сто пятый тонул? - Ну! - Так у них же лучше было. И нахлебали поменьше, и движок хоть не совсем скис. А все равно не выгребли. Об чем же нам беспокоиться? (Владимиров)
Признак предметности содержит глагольная лексема «трубить»:
Трубить
I. Словарное определение лексемы.
В дефиниции глагола «трубить» содержится обозначенный в этой подгруппе признак: «дуя в трубу (или сходный музыкальный инструмент), извлекать из нее звуки» [СРЯ 1986].
Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил (Катаев).
Близким по смыслу к указанному выше является слово «трубить» в значении «звучать» [СРЯ].
Трубили трубы, гремели барабаны, пылали факелы, раздавались крики:... (Соловьев).
Пример ниже репрезентирует значение «звуком трубы давать сигнал»
[СРЯ].
Трубача на площадь! - взревел колдун. - Пусть немедленно трубит общий сбор (Бутяков).
II. Метафорический перенос.
1) Интересно, что та же фраза (трубить общий сбор) может иметь иной смысл, нежели «звуком трубы давать сигнал».
Вечером труби общий сбор, сегодня мы ночуем у тебя. Зн, возьми мою трубку и позвони Веронике, чтобы она не волновалась и не искала нас (Xрусталева).
В данном случае герой имеет в виду необходимость сообщить всем о предстоящем событии (при этом наличие трубы совсем не обязательно).
2) Зафиксировано переносное употребление анализируемого глагола в значении «разглашать какие-н. сведения» [СРЯ].
- Лейтенант, прошу вас ответить на волнующий меня вопрос ... Эр-денштейн имеет какое-либо отношение к самоубийству охранника в банке? То самое, о котором трубила пресса? (Николаев)
III. Переход лексемы, обладающей «вторичной иконичностью», в знак-символ.
1) Глагол «трубить» может использоваться в простонародной речи, где определяется как «долго заниматься чем-н. скучным, утомительным, однообразным» [СРЯ].
-Я-рядовой бухгалтер. Мне положено трубить от звонка до звонка (Кондрашова).
2) Известен также и арготизм «трубить», означающий «отбывать наказание в ИТУ» [ТСРЖ 2006].
Умный человек трубить не будет, умный человек на зону не попадет, а мы с тобой, Игорь, дураки и сявки (ТСРЖ).
3) Согласно словарю русского жаргона лексема «трубить» трактуется как «обманывать» [ТСРЖ 2006]:
Девчонка трубила родакам, что с подружками вместе vdoku учит...(ТСРЖ). УР
Увидеть связь означаемого и означающего в данном случае не представляется возможным.
Анализ 28 «вторичных» иконических знаков продемонстрировал их переход в знаки-символы.
Глава III. «Семантическое развитие языковых знаков «первичной» и «вторичной» иконичности в английском языке». Как и предыдущая, данная глава состоит из двух разделов: раздела, посвященного анализу звукоподражательных глаголов, обладающих характеристиками «первичной» иконичности, и раздела, рассматривающего семантическое развитие мотивированных глагольных лексем, относящихся к знакам «вторичной» иконичности. Предметом внимания будут также не только прямые, но и переносные значения слов, представленных в авторском переводе, а также в переводе, данном в Национальном корпусе русского языка.
Примером, демонстрирующим переход знака-иконы в знак-символ, может служить лексема 'to croak', отражающая представление человека о звуках, издаваемых лягушками и воронами.
Croak
I. Словарное определение звукоподражательной лексемы.
Глагол 'to croak' является ономатопоэтической репрезентацией звуков, издаваемых лягушками и воронами, и имеет значение 'to make deep, hoarse sound (made by frogs or ravens)' - «издавать глубокий, хриплый звук (производимый лягушками или воронами)» [OALDCE 1985] (русскоязычный читатель на материале родного языка четко представляет разницу этих фоносемантических реплик):
Then the peasant once more pinched the raven's head till he croaked loudly (Grimm). - Затем крестьянин еще раз ущипнул голову ворона так, чтобы тот громко каркнул.
II. Опосредованный признак, выявляемый путем сравнения.
"Yes, Saleh?" Aziz's voice croaked like a bullfrog at evenine through the mask that covered his nose and mouth (Douglas). - «Да, Салех?» сквозь маску, покрывавшую его нос и рот, голос Азиза звучал подобно тому, как квакает по вечерам гигантская лягушка.
III. Метафорический перенос.
Литературные примеры показывают, что лексема 'to croak' часто приобретает значение «сказать что-либо неприятным голосом, пробурчать»:
"Let be!" croaked Huldricksson; his voice was thick and lifeless as though forced from a dead throat (Merritt). - «Пусть так и будет!» - изрек Халдрикссон; его голос был низкий и безжизненный, как будто выдавлен из мертвого горла.
IV. Переход звукоподражания как иконического знака в знак-символ.
Интересно, что в английском языке 'to croak' в жаргонном употреблении понимается как «умереть» и как «убить» [RDMASUE 2009]. Например:
а) "What does he say? " said Johnson, turning round eagerly.
"Why," exclaimed Flash Jack, who volunteered as interpreter, "he means he's going to croak" (Melville). - «Что он говорит?» - спросил Джонсон, нетерпеливо обернувшись. «Ха!», - воскликнул Флэш Джэк, который вызвался быть переводчиком, «он имеет в виду, что он скоро окочурится».
б) "Do you think you croaked him? " (Faulkner). - «Думаешь, ты грохнул его»? («грохнуть» - «убить» [ТСРЖ 2006]).
Представленные в этом пункте случаи метафорического переосмысления глагола 'to croak' демонстрируют отсутствие связи означаемого с означающим, а значит и связи звукоподражательного по сути слова с его прототипом.
Одновременно с примерами, которые могут продемонстрировать практически весь предложенный алгоритм анализа, существуют случаи, когда иконический знак переходит в знак-символ, минуя указанные выше позиции перехода, основанные на «фамильном сходстве».
Bump
I. Словарное определение звукоподражательной лексемы.
К ономатопее относится английский глагол 'to bump' [ODWH 2004]. Прямое значение этого глагола - «ударять(ся); сталкиваться с кем-л., чем-л.» [Мюллер 2005]. См. употребление этого глагола в рассказе о наблюдениях за поведением самца акулы:
Не swam toward the food, swallowed it, and kept moving forward until he bumped into the target (Klimley). - Он подплыл к еде, проглотил ее и продолжил движение, пока не ударился о мишень.
И. Переход звукоподражания как иконического знака в знак-символ.
1) Одним из вторичных значений, не связанных со звуковой основой слова, является значение 'to remove someone from an airplane flight, usually involuntarily, because of overbooking' - «снять кого-либо с рейса, обычно ненамеренно из-за продажи большего количества билетов, чем имеется посадочных мест».
Is this airline in the habit of bumping old ladies? [CAC 1991] - Имеет ли эта авиалиния привычку снимать с рейса пожилых леди?
2) Представляет интерес и следующая иллюстрация, поскольку в ней, как и в предыдущем случае, также отсутствует связь значения со звуковой основой слова. 'То bump' в значении 'to kill someone' - «убить кого-л.», представляет собой еще один пример утраты образности, присущей звукоподражательному глаголу 'to bump':
Only six days after they had bumped Bannon they had almost been trapped [RDMASUE]. - Всего лишь спустя шесть дней после того, как прикончили Бэнона, они сами чуть не попали в ловушку.
Анализ материала на английском языке позволил выделить случаи ква-зииндексальности, аналогичные выделенным на материале русского языка:
Персонификация (перенос звуков, свойственных человеку, на предмет) представлена примером, который демонстрирует случай метафорического употребления лексемы 'to cough' («кашлять») по отношению к такому артефакту, как 'engine' - «двигатель»:
Jack climbed into the front seat of the car. Ben slid the keys into the ignition and kicked over the engine, which coughed, recovered, coughed some more, then died. (Robinson). - Джек залез на переднее сиденье автомобиля. Бен вставил ключи в зажигание и завел двигатель, который покашлял, оправился, покашлял (букв, coughed) еще немного и потом заглох.
Натурализацию (перенос звуков, свойственных объектам неживой природы, на человека) иллюстрирует пример, в котором глагол 'to growl' -«греметь» (о громе) используется в отношении человека:
"Because you fell in love!" growled Scrooge, as if that were the only one thing in the world more ridiculous than a Merry Christmas (Dickens). - «Потому что ты влюбился»! - громогласно воскликнул Скрудж. как будто этот факт был более смешным, чем Веселое Рождество.
Анимализацию (перенос звуков, свойственных животным, птицам и насекомым, на человека, объекты и явления природы) иллюстрирует пример, в котором писк, производимый мышами, в переносном смысле характеризует речь человека:
"I want to watch television!" he squeaked (Dahl). - «Я хочу смотреть телевизор»! - пропищал он.
Изучение 33 звукоподражательных лексем английского языка подтвердило результаты, полученные в ходе исследования ономатопеи русского языка. Являясь по сути иконическими знаками, английские звукоподражательные глаголы через метафоры в регистре разговорного стиля речи и арго способны переходить в знаки-символы.
В английском языке так же, как и в русском, «квазииндексальность» является промежуточным этапом на пути превращения «иконы» в «символ» (ср.: to moo - мычать и говорить невнятно, издавать нечленораздельные звуки; to coo - ворковать и говорить воркующим голосом).
Кардинальное изменение значения слова приводит к разрыву с «фамильным сходством» и, несмотря на сохранность формы, по содержанию его уже сложно рассматривать как знак-икону (сравните: to crack - трескаться или производить треск и разрешить трудную задачу; to snap -щелкать, лязгать, хлопать и сойти сума).
Мотивированные глаголы английского языка, звуковая оболочка которых дублирует их внутреннюю форму, могут быть классифицированы по тому же принципу, что и глаголы русского языка. Семантическое развитие глаголов в обоих языках, то есть появление у слов вторичных метафорических значений, позволило рассматривать их с точки зрения поставленной задачи. Необходимо отметить, что английских глаголов, обладающих мотивировочным признаком, довольно мало, так как этому языку свойственно явление конверсии; ср. в русском: пила - пилить; в английском: saw - to saw. В группу интересующих нас лексем вошли, прежде всего, те, которые имеют суффикс -ей, служащий для образования глаголов, основанных на именах прилагательных (dark— darken (темный - затемнять), а также глаголы, имеющие суффикс -Jy (ruby-rubefy (ярко-красный цвет - краснеть).
Переход «вторичных» икон в знаки-символы представлен глаголом'to brighten', в основе которого заложен сенсорный признак ('bright' - яркий):
Brighten
I. Словарное определение лексемы.
Одним из прямых значений глагольной лексемы 'to brighten' является 'to make or become brighter or lighter' - «делать или становиться ярче, светлее» [OALDCE 1985].
The sky was beginning to brighten with a silver glow as sunrise neared (Brooks). - С приближением рассвета, небо засветилось серебряным отблеском.
II. Метафорический перенос.
Не paused, noticing the novice's face brighten a little (Walter). - Он остановился, заметив, что лицо послушника немного посветлело (имеется в виду не цвет, а состояние перемены настроения человека).
III. Переход лексемы, обладающей «вторичной иконичностью», в знак-символ.
1) Рассматриваемый глагол может пониматься как 'to become more cheerful in mood' - «повеселеть» [OALDCE].
His mood seemed to brighten at the sight of food (Brown). - При виде еды его настроение несколько улучшилось.
2) Значение, не связанное напрямую с сенсорным признаком, получает глагол 'to brighten' и в следующем примере.
It will brighten the children, she thought to herself, and she was not mistaken (Dodge). - "Это порадует детей", - подумала она и не ошиблась.
Приведем пример с глаголом 'to straighten', сохранившим во внутренней форме признак схемы ('straight' - прямой).
Straighten
I. Словарное определение лексемы.
Прямое значение глагола 'to straighten' - «выправлять, приводить в порядок; выпрямлять» [Мюллер 2005].
Не straightened his gold cufflinks and adjusted his shirt's cuffs to show three quarters of an inch below the coat's sleeve (Sanchez). - Он поправил свои золотые запонки и вытащил манжеты так, чтобы их было видно на три четверти дюйма ниже рукава пальто.
II. Метафорический перенос.
В словаре Мюллера отмечается разговорное значение глагола 'to straighten' - «исправить(ся)» [Мюллер].
And we can't straighten out the past for the same reason we can't straighten out a coat hanger — we don't have the right tools or ability (Lucas). - И мы не можем исправить прошлое по той же причине, по которой не можем выпрямить вешалку для пальто - у нас нет нужных инструментов и навыка.
III. Переход лексемы, обладающей «вторичной иконичностью», в знак-символ.
1) В словаре «Английский и американский сленг» под редакцией Т.Е. Захарченко находим такое значение этого слова, как 'to bribe successfully'
- «дать взятку, подкупить» [Захарченко 2009].
Emanuel had 'straightened' many a young detective, and not a few advanced in years (Wallace). - Эммануэль «подкупил» многих молодых детективов и немало престарелых.
2) Рассматриваемый глагол может иметь иной смысл: «разобраться (в чём-л.); выяснить, разъяснить» [MULTILEX],
They both laughed when they straightened out the misunderstanding (Linn).
- Они оба рассмеялись, когда все выяснилось.
Анализ корпуса иллюстративного материала на английском языке продемонстрировал то же стремление знаков «первичной» и «вторичной» иконичности к статусу знаков-символов, что и в аналогичных примерах на материале русского языка.
Результаты исследования сводятся к следующему:
1. Ономатопоэтические глаголы вербализуют мир звуков окружающей нас действительности - «языковую» (от природы) картину мира. В этом случае означающее языкового знака, обладая «живописующей» рефлексией, приближено к его означаемому, то есть языковой знак (по нашей типологии) получает статус знака «первичной» иконичности. Одновременно он является индексальным, так как указывает на производителя звукового эффекта, обозначенного словом. Вместе с тем звукоподражанию в его переносном значении всегда сопутствует «квазииндексальность».
2. Означающее языкового знака, мотивированного его внутренней формой, отражает признак другого знака, который, будучи заложенным в основу номинации, является по своей природе конвенциональным. В сопоставлении со знаком «первичной» иконичности такой знак иконичен по принципу «вторичности», так как создается лишь иллюзия его «картнночности».
3. Звуковая оболочка немотивированного языкового знака абсолютно конвенциональна, связь означающего с означаемым совершенно условна. Знак по своему типу символичен, так как он лишен всякой «изобразительности».
4. Метафоризация языковых знаков «первичной» и «вторичной» иконичности - это путь их реорганизации в знаки-символы.
5. Языковые знаки стремятся к своей немотивированности. Естественно, что звукоподражания не подводятся под это правило, хотя их лексико-семантические варианты, объединенные со своим прототипом по принципу «фамильного сходства», не составляют исключений.
Перспектива работы заключается в том, чтобы проследить переход звукоподражательных слов и лексем с «вторичной» иконичностью в знаки-символы на примере других частей речи как русского, так и английского языков, а также на материале других европейских языков (французского и немецкого).
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
- в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ:
1. Нехаева О.Г. Актуализация потенциальных сем при переходе знака-иконы в знак-символ / О.Г. Нехаева // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. -Воронеж: Издательство Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, 2012. - Вып. 1 (17). - С. 82 - 89.
2. Нехаева О.Г. Утрата мотивированности языкового знака / О.Г. Нехаева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2011. - Выл. 2. - С. 29 - 32.
3. Нехаева О.Г. Утрата мотивированности при переходе знака-иконы в знак-символ / О.Г. Нехаева // Когнитивные исследования языка: Международный конгресс по когнитивной лингвистике 10 - 12 октября 2012: сборник материалов. - Тамбов: Издательский дом Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, 2012. - Вып. XI. - С. 783 - 786.
- в других изданиях:
4. Нехаева О.Г. От иконических знаков - к знакам-символам (на материале русского и английского языков) / О.Г. Нехаева // Сопоставительные исследования 2010. Воронеж: Издательство «Истоки», 2010. - С. 65 - 68.
5. Нехаева О.Г. Метафора в семантическом развитии звукоподражательных слов в русском языке / О.Г. Нехаева // Лингвоконцептология и психолингвистика. - Воронеж: Издательство «Истоки», 2010. - Вып. 3. -С. 72 - 76.
6. Нехаева О.Г. Метафорическое употребление звукоподражательных глагольных лексем (на материале английского языка) / О.Г. Нехаева // Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Воронеж: Издательство «Истоки», 2010. - С. 27 - 31.
7. Нехаева О.Г. Метафорическое употребление звукоподражательных глаголов (на материале русского и английского языков) / О.Г. Нехаева // Инновационные процессы в лингводидактике. Сборник научных трудов. -Воронеж: Издательство Воронежского государственного технического университета, 2010. - Вып. 8. - С. 89 - 93.
8. Нехаева О.Г. Трансформация языковых знаков при актуализации потенциальных сем / О.Г. Нехаева // Инновационные процессы в лингводидактике. Сборник научных трудов. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного технического университета, 2012. - Вып. 10. - С. 53 - 61.
9. Нехаева О.Г. Механизм перехода знака-иконы в знак-символ / О.Г. Нехаева // Материалы международной молодежной конференции научной школы 8-9 июня 2012 г. «Синхрония и диахрония: современные парадигмы и современные концепции». - Воронеж: Издательство «Научная книга», 2012.-С. 118-120.
10. Нехаева О.Г. Трансформация «вторичных» знаков-икон в знаки-символы / О.Г. Нехаева // Сборник научных трудов по материалам первой международной научной конференции «Язык и культура в эпоху глобализации». - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2013. - С. 215 - 222.
11. Нехаева О.Г. Ономатопея с семиотической точки зрения / О.Г. Нехаева // Инновационные процессы в лингводидактике. Сборник научных трудов. - Воронеж: Издательство Воронежского государственного технического университета, 2013. - Вып. 11. - С. 20 - 29.
Заказ № 269 от 10.10.2014. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Формат60x84/16. Усл. печ. я. 1,5. Тираж 100экз. Отпечатано в типографии AHO «НАУКА-ЮНИПРЕСС» 394024, г. Воронеж, ул. Ленина, 86Б, 2.