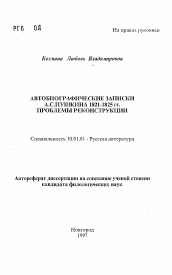автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Автобиографические записки А. С. Пушкина 1821-1825 гг. Проблемы реконструкции
Полный текст автореферата диссертации по теме "Автобиографические записки А. С. Пушкина 1821-1825 гг. Проблемы реконструкции"
РГб
од
На правах рукописи
Козмина Любовь Владимировна
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ А.С.ПУШКИНА 1821-1825 гг. ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Специальность 10.01.01 - Русская литература
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Новгород 1997
Работа выполнена на кафедре русской классической литературы Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Научный руководитель - доктор филологических наук,
профессор Кошелев В.А.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук,
профессор Фомичев С.А.
кандидат филологических наук, доцент Карпов A.A.
Ведущая организация - Тверской государственный университет.
Защита состоится 1997 Г. часов на
заседании диссертационного совета Д. 064. 32. 01 при Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого. 173014. Новгород, Антонова, филологический факультет. Ауд. №_
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Автореферат разослан "
1997 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент О.С.Бердяева
"Несколько раз принимался я за ежедневные записки и всегда отступался от лености. В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей" (XII, 310).'
Это позднейшее свидетельство Пушкина (из "Начала автобиографии", 1834) представляет сведения о первом, недошедшем до нас, прозаическом опыте поэта, связанном с созданием собственной обширной "биографии". Но что это была за "биография"? Что побудило поэта, которому едва исполнился 21 год, заниматься ею? Что являлось предметом "Записок"? Каких именно людей (ставших позднее "историческими лицами") изобразил Пушкин "с откровенностью дружбы" - таким образом, каким невозможно стало их изображать десятилетие спустя? Почему Пушкин уничтожил это свое первое прозаическое произведение? Почему позднее "сожалел о их потере"? Ряд подобных вопросов неизбежно возникает, как только обращаешься к этому, весьма непростому и даже "загадочному" пушкинскому замыслу, основное воплощение которого пришлось именно на период "михайловской" ссылки поэта.
Основной задачей исследователя в этом случае неизбежно оказываете яадача литературоведческой реконструкции Автобиографических записок (далее A3), начатых в Кишиневе и продолженных (а потом и уничтоженных) в Михайловском. Подобного рода реконструкция, однако, до сих пор не осознана и не изучена как теоретическая проблема, важная не только в пределах пушкиноведения.
В истории русской литературы достаточно много примеров произведений "уничтоженных", "утраченных", "не сохранившихся", "не дошедших до нас" - и, тем не менее, необходимых для полного представления о характере творческой эволюции конкретного писателя - иногда даже не только конкретного писателя. Хрестоматийные примеры - это "сожженный" второй том "Мертвых душ" Гоголя, "сожженная" "десятая песнь" пушкинского "Онегина", произведения К.Н.Батюшкова последнего периода, уничтоженные им в припадке душевного заболевания, уничтоженный автором ранний роман И.С.Тургенева "Два поколения" (1835) и т.д.
1 Произведения и письма А.С.Пушкина цитируются по изд.: Пушкин. Полн. собр. соч. Тт. 1-16 . АН СССР. 1937-1939. Отсылки к этому изданию /с указанием тома и страницы/ приводятся в тексте.
и т.д. От них остались наброски, написанные части ,планы, упоминания, намеки, мемуарные или эпистолярные свидетельства современников. Полноценное литературоведческое исследование их невозможно, но и игнорирование подобного рода "имевших место" текстов явно неправильно, ибо это . нарушает не только наше представление о характере творческой эволюции великих писателей, но и существенно обедняет знание литературных потенций той или иной художественной эпохи. Без представления, например, о характере Тургенева над замыслом "Двух поколений" мы не сможем адекватно объяснить не только историю становления тургеневской романистики, но и возможностей развития русского романа, потенциально явленных тремя годами раньше "Рудина".
Между тем, в изучении подобного рода литературных явлений мы сплошь и рядом сталкиваемся с примерами исследовательского и комментаторского произвола.
С точки зрения проблемы, поставленной в нашей работе, немаловажное значение в решении этой задачи принадлежит установлению теоретических принципов и методических приемов исследования "унижтоженного" текста (каковым является второй том "Мертвых душ"). Возможности его реконструкции и обоснование так называемых границ гипотезы, допустимой в этой реконструкции, должно стать предметом специального теоретического рассмотрения в литературоведческой науке.
Указанные "классические" примеры наглядно демонстрируют, что при реконструкции тех произведений, которые сохранились лишь частично - в набросках, отрывках, воспоминаниях современников и т.п. -необходимо соблюдать особую осторожность. А невыработанность методики подобной реконструкции и, в особенности, анализа реконструируемых текстов заставляет уточнить то, что мы собираемся предпринять в отношении уничтоженных Пушкиным АЗ 1821-1825 гг.
Материалом для подобной реконструкции, по нашему мнению, должны быть рассмотрены комплексно:
• сохранившиеся фрагменты текста (в беловом и черновом его вариантах);
• авторские свидетельства (сохранившиеся в письмах или воспоминаниях);
• свидетельства мемуаристов, эпистолярные свидетельства современников;
• контекст творчества писателя: предшествующие и " сопутствующие' произведения, "следы" реконструируемого текста в последующих произведениях:
• общий исторический и литературный контекст эпохи, в которую создавалось реконструируемое произведение (традиции, жанр и т.д.).
При подробного рода анализе необходимо иметь в виде, что реконструкция - это вовсе не восстановление текста (подобное предпринимавшимся попыткам "восстановления" "десятой главы"). РЕКОНСТРУКЦИЯ - это осмысление идеологии и поэтики утраченного произведения в контексте творчества данного писателя.
Реконструкция всегда гипотетична. Но научную гипотезу следует отличать от догадки, домысла, версии, предположения и т.п. Принципиальным отличием первой является следующее положение, зафиксированное в энциклопедии:
"В качестве научных положений гипотезы должны удовлетворять условию принципиальной проверяемости, означающему, что они обладают свойствами фальсифицируемости (опровержения) и версифицируемости (подтверждения). Однако наличие такого рода свойств является необходимым, но не достаточным условием научности гипотезы..."2
В этом отношении научная гипотеза должна объяснить наибольшую совокупность фактов наиболее логичным путем.
Основным методом подобного рода исследования необходимо принять гипотетико-дедуктивный метод, основанный на выведении (дедукции) заключений из гипотез, истинностное значение которых неизвестно. "Поскольку дедуктивном рассуждении значение истинности переносится на заключение, а посылками служат гипотезы, то и заключение гипотетико-дедуктивного метода имеет лишь вероятностныхй характер."3
Наконец следует иметь в виду, что когда мы имеем дело с реконструкцией произведения, имевшего сложную и длительную творческую историю, мы должны, при анализе доступного нам материала, по возможности четко отдавать себе отчет, к какому именно этапу творческой истории произведения этот конкретный материал относится: к подготовительной стадии, к этапу чернового наброска или к 1-й, 2-й и.д. редакциям. Так, из сохранившихся пяти глав второго тома "Мертвых душ" Гоголя первые четыре и заключительная глава относится к разным стадиям работы над текстом, а ряд существующих отрывочных набросков фиксирует еще дополнительные этапы - и все это осложняется пересска-зами современников, передающих свои впечатления о тексте Гоголя и не дошедшей до нас позднейшей редакции ... Необходимость учета этого обстоятельства создает дополнительные тектологические сложности в реконструкции произведения.
2 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, С.116.
3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, С.116-117.
Попытка анализа и реконструкции АЗ - далеко не первая в науке. В 11-м томе посмертного собрания сочинений поэта появился раздел "Отрывки из Заметок А.С.Пушкина", подготовленный к печати П.А.Плетневым.4 Фрагменты из 11-го тома вошли в исследовательский оборот и были учтены, например, в материалах - для биографии Пушкина П.И.Бартенева (1854).5
П.В.Анненков в подготовленном им научном издании пушкинских сочинений, а также в биографических сочинениях о поэте предпринял попытку глубже разобраться в рукописном его наследии -соответственно, тоже обратил внимание на "утерянные" АЗ, представив в 5-м томе сочинений Пушкина сводом "Остатки записок Пушкина".6
Фрагменты из АЗ отыскивались, прочитывались, готовились к печати и комментировались достаточно медленно. Их состав и порядок в изданиях постоянно менялись - вплоть до Большого академического издания и 10-томника под редакцией Б.В.Томашевского.7 В статье И.Л.Фейнберга "О "Записках" Пушкина", впоследствии расширенная и ставшая частью его книги "Читая тетради Пушкина", АЗ были выделены и осознаны не только как предмет "сожаления об утраченном", но и как предмет целостного исследования.3 И.Л.Фейнберг впервые предпринял комплексный анализ сохранившихся фрагментов АЗ и наглядно демонстрировал, что такой анализ не только возможен, но и необходим.
В 1988 году вышла капитальная монография Я.Л.Левкович "Автобиографическая проза и письма Пушкина", значительная часть которой посвящена АЗ. Я.Л.Левкович впервые детально исследует творческую историю АЗ, уточняет время и обстоятельства сожжения их, детально исследует сохранившиеся отрывки и уточняет принадлежность (или не принадлежность) к АЗ некоторых текстов. Вместе с тем авторы (И.Л.Фейнберг и Я.Л.Левкович) наиболее плодотворных и значимых в своем филологическом качестве исследований АЗ, ставя вопрос о возможном составе уничтоженных записок и их судьбе, не рассматривают АЗ, как произведение, которое в контексте творчества Пушкина имеет
4 См.: Левкович Я.А. Незавершенный замысел Пушкина. // Русская литература.
1981. №1. С. 125 s См.: Бартенев П.И. О Пушкине. М., 1992. С.118, 152 и др.
6 Анненков П.В. А.С.Пушкина в Александровскую эпоху: 1799-1826. СПб., 1874. С. 309
7 Обзор этих изданий и разных способов подачи этих фрагментов см.: Левкович Я.Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. JI., 1988. С.10.
8 Фейнберг И.Л. О "Записках" Пушкина. // Вестник АН СССР. 1953. №5
определяющее значение в общей творческой эволюции писателя и прежде всего - в эволюции пушкинской прозы.
Как ни странно, вновь "открытые" A3 не вошли в основные источники по изучению жизни и творчества Пушкина. Они, например, не упомянуты (или почти не упомянуты) ни в одной из популярных обобщающих книг о поэте, появившихся после работы И.Л.Фейнберга9. Своеобразным исключением в этом ряду оказывается монография С.А.Фомичева "Поэзия Пушкина. Творческая эволюция", в которой это утраченное произведение поэта получило очень высокую оценку. С.А.Фомичев останавливается на A3 как на таком произведении, которое сыграло огромную роль не только в становлении пушкинской прозы (ибо это был, по существу, первый опыт Пушкина в прозе, во многом сформировавший его "метафизический язык" и определивший поэтическую систему будущих прозаических сочинений), но и художественной эволюции его поэзии. К сожалению, исследователь коснулся лишь отдельных сторон этого многоаспектного пушкинского замысла; многие из тех идей, которые он затронул, с благодарностью использованы нами в настоящей работе.
Этими обстоятельствами и обуславливается актуальность предлагаемого диссертационного исследования.
Апробация работы. Работа апробирована в публикациях, список которых приведен в конце автореферата. Кроме того, основные положения диссертации были изложены на научных конференциях, проводившхся в Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина (19861996), на Международных пушкинских научных конференциях в г.Твери (май 1993 г.), в г.Одессе (май 1995 г.), на Всероссийской научно-практической конференции в г.Иванове (сентябрь 1994 г.). Главы диссертации были использованы в научных работах по музееведению, в концепции экспозиции дома-музея Ганнибалов Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское".
Объем и структура работы. Диссертация (211 страниц машинописного текста) состоит из введения, трех глав, заключения и приложения. Объем основного текста - 139 стр. Приложения -73 стр.
9 См.: Гроссман Л. Пушкин. /ЖЗЛ/ М., 1958; Мейлах Б.С. Жизнь Александра Пушкина. Л., 1974; Петров С.М. А.С.Пушкин. Очерк жизни и творчества. М., 1973; Маймин Б.А. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981; Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя. Л., 1981; Кулешов В.И. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. М., 1987; Скатов И.Н. Русский гении. М., 1987 и др.
Основное содержание диссертации.
Во введении излагается история вопроса в пушкиноведении, обосновывается актуальность темы диссертации, формулируется цель и определяются основные задачи и проблемы исследования, научная новизна и практическая значимость представленной диссертационной работы, а также дается изложение научных работ, посвященных исследуемой проблеме.
Глава I. Состав и творческая история A3.
В начале главы рассматриваются авторские свидетельства, характеризующие пушкинский замысел A3. Упоминания Пушкина о работе над A3 в составе его писем очень неравномерно расположены. Первое упоминание - в письме к А.А.Дельвигу из Кишинева от 23 марта 1821 г.; второе - в письме к Л.С.Пушкину из Михайловское от первой половины ноября 1824 г. Между этими упоминаниями - три с половиной года, достаточно бурных и полных очень серьезными переменами в пушкинской жизни. Первое упоминание свидетельствует: "Я перевариваю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости - как не воспоминаниями?" (XIII,26). Второе: "Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно ..." (XIII, 121).
Первоначально в желании "переваривать воспоминания" был собственно личный интерес: объяснить собственную позицию, собственное поведение, которое сделалось поводом для удручавших Пушкина досужих сплетен, ставших своего рода событием "историческим". Именно в связи с этими "корыстными" побуждениями он и начал писать воспоминания - первоначально, вероятно, по-французски: на французском языке принято было излагать все интимные и двусмысленные личные ситуации ...
Но постепенно основа A3 меняется. К 1822 г. относятся "Некоторые исторические замечания", фрагмент "О прозе", письма с греческой революции, так или иначе относящиеся к A3. Пушкиь переосмысливает структуру своих мемуаров - и они постепенно оказываются шире собственно мемуарного, "личностного" жанра.
Второе упоминание об A3 тоже относится к одному из переломных периодов в жизни поэта. Попав с юга России в скучную псковскук деревню, пережив гам некоторые потрясения и оставшись наедине с са мим собою, Пушкин решает осмыслить свою странную судьбу - но уж< "параллельно" с судьбой своей эпохи. В цитированном письме к брату непосредственно перед упоминанием о работе над A3, Пушкин просит
выслать ему книгу "Разговоры Байрона" /"Conversations de Byron"/. Из этих "Разговоров ..." /с которыми он бегло познакомился еще на юге/ Пушкин знает о том, что существовали какие-то мемуары Байрона, которые тот передал Т.Муру с условием опубликовать после его смерти. Так же указывалось, что эти мемуары были чрезвычайно интимного содержания, включали свидетельства о сложных отношениях автора с женщинами, о "слабости могущего" и т.д.10
Но в то же время Пушкин солидаризуется с поступком Т.Мура, уничтожавшего байроновские мемуары /XIII, 243-244/ - а в январе 1825 г. просит прислать "записки Фуше", противопоставляя их "запискам Наполеона" /XIII,143/, - сочинение совершенно другого толка, повествующее о человеке, оказавшемся в. кругу серьезнейших исторических событий и переворотов.
В марте 1825 Г. A3 осознаются Пушкиным как уже формально существующий текст. В письме к брату от 27 марта, говоря о готовящемся сборнике его стихотворений, Пушкин замечает: "Не написать ли в конце Воспоминания в Ц.С. с Notofi, что они написаны мною 14-ти лет и с выпискою из моих записок /об Державине/, ась?" /XIII, 159/. О существовании A3 узнал П.А.Плетнев, просивший Пушкина прислать "прелюбопытные примечания к Воспоминаниям о Царском Селе" /XIII, 234/, а чуть позднее - и Рылеев, спрашивавший у Пушкина в письме от 25 марта 1825 г.: "Что твои записки?" /XIII, 157/. В сентябре 1825 г. Пушкин перебеливает A3 и сообщает об этом П.А.Катенину: "Что сказать тебе о своих занятиях? Стихи покамест я бросил и пишу свои Mémoires, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь" /XIII, 225/.
Обстоятельства уничтожения A3 после "несчастного заговора" в "конце 1825 года" тоже крайне любопытны. Б.В.Томашевский подверг сомнению названную Пушкиным дату, указав в комментариях к академическому десятитомнику, что Пушкин уничтожил A3 в 1826 г." На этот же год указал и Н.Я.Эйдельман: "... горят в михайловском камине "Автобиографические записки" и сотни других опасных строк, губительных при неожиданном, а впрочем, все время ожидаемом обыске".12 И.Л.Фейнберг связал указание на 1826 год со свидетельствами двух не совпадающих рассказов современников поэта, повествующих об обстоятельствах возвращения Пушкина из михайловской ссылки, -П.В.Нащокина и М.И.Осиповой.
10 См.: Левкович Я.Л. Автобиографическая проза ... С.40-49
11 В кн.: Пушкин A.C. Поли. собр. соч. Л., 1978. Т.8, С.369
12 Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С.339
Для любых сколько-нибудь твердых суждений об уничтоженных АЗ необходим по возможности наиболее полно выявленный текстовой материал, восходящий к этому пушкинскому замыслу. Такой материал мало-помалу накапливался в связи с возрастающим в науке о Пушкине интересом к этому произведению. Исследованиями Б.В.Томашевского и И.Л.Фейнберга (см. об этом выше) доказано, что открываться АЗ должны были сохранившимися и в черновике, и в беловом автографе, и в копии Н.С.Алексеева быстрым очерком политической послепетровской истории России XVIII века ("По смерти Петра ..."). Общепризнано также, что фрагментом АЗ является дошедший в беловом автографе обрывок листа помеченного верху "1824. Ноябрь 19. Михайловское" "Вышед из Лицея ..." (ПД 304). Важно отметить стилическую неоднородность этих фрагментов. Заметки о Карамзине и "Вышед из Лицея ..." вполне соответствуют стилистке мемуарного жанра, но дата, открывающая последнюю из них, позволяет предположить, что отдельные фрагменты АЗ (а может быть, на каком-то этапе работы над мемуарами и каждый из них) были стилизованы под дружеские письма. Такая стилизация вполне соответствует русской традиции мемуаров-путешествий, утвердившейся во многом под влиянием "Писем русского путешественника" Н.М.Карамзина. Нетрудно представить, что мемуары ссыльного Пушкина также должны отразить постоянную смену мест после высылки его из Петербурга в мае 1820 г.
АЗ Пушкина предварялись публицистическим вступлением "Некоторые исторические замечания", состоявшим из двух разделов, посвященных сначала (№1) пробуксовке петровских реформ во время правления его бесславных наследников в XVIII веке, а потом (1-2-ая глава), - очевидно, завершению процесса политической стагнации в годы царствования Александра I. Тем самым такое вступление бросало свой свет на все АЗ, которые, по заданной изначально логике повествования, приобретали исторический масштаб, становились выстраданными на личном опыте следствиями общей политической тенденции. Героем АЗ стал гонимый поэт - вольнолюбец (подобный Овидию и Андрею Шенье, в трактовке Пушкина) - в кругу наиболее просвещенных людей своего поколения, осознавших, подобно ему, необходимость политических коренных преобразований.
Жизнь, меняющаяся на глазах, вовлекающая массы людей в исторические события, чреватая многими неожиданными событиями в личной судьбе - такова ведущая тема жанра мемуаров, утвердившегося в результате хода французской революции и ее разнообразных следствий. Частый человек и история нации и даже шире - европейская история оказались
именно в этом роде литературы, если не равновеликими, то равнозначимыми.
Уже в начале 1820-х гг. поэт прочитал один из лучших образцов этого жанра, книгу "Десятилетнее изгнание" Жармен де Сталь, вышдшую в 1821 г. О том, что эти мемуары гонимой Наполеоном писательницы стали для Пушкина одним из образцов собственных A3 свидетльствует уже воспоминание ее имени в конце первой главы "Некоторых исторических замечаний", предваряющих A3: "Русские защитники самовластья ... принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: "En Russie le gouvernementest un despotisme mitigé par la stranaulation (правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою - фр.)" (XI, 17). Мемуары Ж. де Сталь в какой-то мере способствовали кристаллизации исторической концепции России, развитой в A3, но не в виде прямого источника, а в качестве оригинального на современный европейский мир умного политика, с оторым Пушкину было интересно поспорить.
Говоря об историко-политической концепции A3, мы, конечно, должны помнить о том, что растянувшаяся на многие годы работа над ними подразумевала отдельные изменения и уточнения общего их содержания. Редко над каким-либо своим произведением он работал на протяжении нескольких лет. Пожалуй, если оставить в стороне роман в стихах "Евгений Онегин", то столь долго он раздумывал еще только над одним совим произведением "Капитанской дочкой", и это тоже было, в основном, связано с выработкой исторически точной концепции. Нельзя скидывать со счетов и то, что A3 были первым "капитальным" опытом пушкинской прозы, навыки которой, впрочем, он осваивал прежде всего в эпистолярии. Но едва ли можно сомневаться, что как бы ни претерпевали изменения политические взгляды поэта (здесь прежде всего нужно иметь в виду идейный кризис 1821-1823 гг.), сама политическая направленность A3 сохранилась на всем протяжении их творческой истории.
Весь материал A3 можно разделить на несколько категорий:
1. Материалы подготовительные: дневниковые записи, летучие заметки, конспекты, фрагменты писем Пушкина;
2. Собственно фрагменты A3;
3. Отражения (как правило, более или менее уже преображенные) мыслей и рассуждений A3 в позднейших произведениях Пушкина.
Исследователи, занимавшиеся анализом A3, высказывали различные догадки и причастности к пушкинским мемуарам различных материалов по сходству их (идейному и тематическому) с безусловно принадлежащими к A3 сохранившимися отрывками, которые упоминались
нами выше. То есть исследовательский процесс накопления материала здесь шел индуктивным путем.
Между тем мы вправе применить и дедуктивный метод поисков такого рода. Осознав историко-публицистический характер АЗ, их внимания к событиям современной истории, которые волновали Пушкина и в той или иной мере коснулись его, мы можем, с этой точки зрения, обследовать все творческое наследие Пушкина 1821-1825 гг. с целью поисков материалов АЗ, имеющих не только узко автобиографическое, но историческое и политическое содержание. Конечно, это предполагает в каждом конкретном случае дополнительный анализ каждого из таких материалов в свете общей концепции АЗ, как она выявлена нами выше. Следует заметить при этом, что полезно при таком отборе преодолеть жанровые шоры, так как АЗ, как было показано в отдельных своих фрагментах могли выглядеть и в качестве письма, и в качестве исторической заметки, и в качестве политического рассуждения и т.п.
В тесной связи с первой из этих заметок стоят два исторических фрагмента, составленные в основном по устным рассказам кишиневских этеристов и газетным сообщениям, - о греческой революции (об Ипси-ланти и о Пендадеке). П.В.Анненков опубликовал их как "журнал греческого восстания". Вероятно, это также были заготовки для АЗ, работа над которыми к этому времени уже началась. Т.И.Левичева 13 обнаружила тесную связь одной из этих заметок с отрывком, который обычно печатается в составе пушкинского одесского эпистолярия (с предположительным адресатом В.Я.Давыдов). Как убедительно доказала она, по палеографическим признакам, запись "... из Константинополя - толпа трусливой сволочи" и пр. (XIII,105) безусловно нужно датировать 1821 годом: на том же листе (ПД 476) мы находим черновик шутливого послания П.С.Пущину ("В дыму, в крови, сквозь пули стрел") и несколько набросков портрета генерала И.Н.Инзова. Особенно важно отметить, что и для заметки об Ипсиланти, и для отрывка о "толпе трусливой сволочи", написанных по-французски, Пушкин использовал однокачественную бумагу. Я.Л.Левкович, согласившись с передатировкой записи ("из Константинополя ..." и пр.), не признала, однако, обоснованным отнесение ее к АЗ, подчеркнув несомненные эпистолярные приметы ее стилистики.14 Но как уже показано выше, стилизация под письма для АЗ не противопоказана, а потому мы считаем выводы Т.И.Левичевой верными.
13 Левичева Т.И. К заметкам о Греческой революции. // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 23, Л., 1989. С. 109-111.
14 Левкович Я.Л. Реплика на статью Т.И.Левичевой ... //Там ж. Вып. 27. СПб., 1996. С.208-210.
И.Л.Фейнберг полагал, что в состав АЗ входили в основном "портреты" современников - оригиналов.15 Нам представляется, что значительную часть АЗ наполняли именно споры - и непосредственно с литературным адресатом (если фрагмент стилизовался под письмо) или в пересказе.
Нам представляется, что можно твердо отнести к составу АЗ все так называемые письма о Греческой революции. Достаточно сопоставить их с пушкинским эпистолярием южного периода, чтобы увидеть, насколько они не похожи на реальные его письма: упоминая об исторических событиях в которых кратки и мимолетны, ибо любой из корреспондентов поэта, интересующейся этими событиями, достаточно хорошо осведомлен о них по официальным сообщениям.
После 1822 года следы работы над АЗ в рукописях Пушкина исчезают. Можно предположить однако, что и позже он время от времени оставлял кое-какие заметки на память - недаром в 1825 г. он упоминает о некой сбивчивой черновой тетради с АЗ. Но несомненно и другое: идейный кризис разразившийся в начале 1820-х годов, не мог не затормозить работу прежде всего над АЗ, в ранних редакциях которых торжествовало убеждение о скорых политических переменах в России. Это, казалось бы, подтвердили общеевропейские события ("Революция тут, революция там"). Вполне сформировавшееся, как кажется поэту, общественное мнение о необходимости реформ также торопило события.
Интенсивная работа над АЗ после некоторого перерыва возобновилась в Михайловском с ноября 1824 г. Нам представляется, ничто не препятствует предположению, что хронологически первым фрагментом АЗ, из написанного в Михайловском, дошедшем до нас, является так называемый "Воображаемый разговор с Александром I" -свободная форма мемуаров, намеченная уже в Кишиневе, предполагала варьирование их стилистики, своеобразные розыгрыши, литературную игру. "Прямое столкновение" поэта с царем при этом было неизменным. Выше уже говорилось, что "Десятилетнее изгнание" Ж. де Сталь, внимательно прочитанное Пушкиным, подспудно и прямо постоянно имело в виду Наполеона. Мог ли Пушкин забывать о своем высочайшем гонителе? Между прочим в черновом тексте "разговора" содержалась явная ироническая реминисценция из "Десятилетнего изгнания".
Примерно в то же время Пушкин пишет и черновик так называемого "письма к Д", которое свидетельствует, что общая концепция АЗ к этому времени существенно изменилась. Дело даже не только в том,
15 Фейнберг И.Л. Читая тетради Пушкина. С.308.
что, создавая произведение литературное, Пушкин заметно отступает от подлинных фактов во имя большей психологической выразительности. Ничто не мешало ему привести подлинные свои стихи, созданные во время и непосредственно после путешествия по Крыму. Однако он включает в автобиографический рассказ стихи, очевидно специально для него предназначенные, отражающие существенно иное отношение к миру, чем то, когда за четыре года до того он посетил Крым.
Данные наблюдения, как нам представляется, позволяют судить об изменении общего строя АЗ. Очевидно, они становятся теперь менее политизированными, более внимательными не только к разговорам и спорам о "текущем моменте" и о будущем России и Европы, но и к личностям, встречу с которыми даровала судьба ссыльному поэту. Недаром за условным адресатом "письма" угадывается А.А.Дельвиг, поэзия которого одухотворена высоким заветом: "Здесь проходчиво все -одна непроходчива дружба"!"16 Это вовсе не значит, что политическая тенденция из АЗ вообще исключается. Иначе бы "Некоторые исторические замечания", их открывающие, были бы теперь неуместными.
Выскажем предположения о хронологических границах АЗ. Не вызывает сомнения, что они были доведены до михайловской ссылки, что получило отражение и в дате "19 ноября 1824" в сохранившемся фрагменте о встрече с П.А.Ганнибалом (сюда тяготеют сведения об Абраме Ганнибале, использованные в примечании к первой главе "Евгения Онегина"), и "Воображаемый разговор с Александром I".
Едва ли, однако, правомерно о ранней границе содержания АЗ судить по позднейшему (1834-го года) плану вновь задуманных Пушкиным мемуаров. Наоборот, как нам кажется, подробно набросанная там хронологическая канва, начатая с ранних детских впечатлений, свидетельствует о тех событиях, которые были освещены в АЗ (иначе этот план едва ли был бы нужен: Пушкин и в 1834-м году хорошо помнил, о чем было рассказано в АЗ).
Глава 2. "Ганнибаловская тема в АЗ".
С Ганнибаловской темой связан один из двух сохранившихся фрагментов беловой рукописи АЗ, представляющий собой отдельный клочок бумаги, нижняя половина которого оторвана (ПД №145). Несмотря на то, что на нем сохранилось буквально несколько фраз, этот фрагмент нуждается в отдельном исследовании, ибо на нем можно
16 Дельвиг А.А. Сочинения. Л., 1986. С.53.
продемонстрировать основные тематические и идеалогические особенности реконструируемого нами произведения.
Характер этого текста предполагает ряд вопросов:
1. Текст открывается датой. Это заставляет предположить, что перед нами вроде бы дневник. Но описываемое событие на 7 лет отстоит от указанной даты: Пушкин передает свои впечатления от первого приезда в Михайловское (в 1817 году). В таком случае какую функцию играет начальная дата и зачем она поставлена?
: 1 • 2. Авторское настроение от жизни в деревне, описанное Пушкиным в этом фрагменте, явно корреспондирует с настроением, описанным годом раньше в первой главе "Онегина" применительно к герою романа в стихах. Случайно ли это совпадение настроений? Осенью 1824 г. Пушкин занимался как раз подготовкой первой главы к печати.
3. Фрагмент встречи с П.А.Ганнибалом построен явно на личных, даже интимных деталях, - и он, вероятно, должен был быть "прологом" к чему - то более важному для Пушкина. Ведь не мог же он ограничиться в Записках констатацией того очевидного факта, что брат его деда злоупотреблял горячительными напитками? Что же в таком случае должно было последовать далее?
4. Когда происходила описанная встреча со "старым арапом": в 1817-м или в 1824-м году? Какие важные обстоятельства биографии Пушкина в ней скрывались?
5. Дата, обозначенная в начале отрывка, соответствует времени сообщения Пушкина (в письме к Л.С.Пушкину от 20-х чисел ноября 1824 г.) о том, что он "продолжает свои Записки" (XIII, 123). Анализируемый отрывок относится к самому интенсивному периоду работы над АЗ. Но какое место он должен был занимать в общей структуре реконструируемого нами произведения?
Без сомнения, анализируемый нами отрывок нельзя рассматривать как дневниковую запись. Пушкин, ставя дату "1824, ноября 19", не просто фиксирует день в году (1824-м), а придает этой дате более значимое содержание. Как нам представляется, она имеет двоякое значение: передает душевное состояние поэта, и в то же время отмечает веху в его жизненной и творческой позиции. То есть, с одной стороны, "буря миновала"и теперь он может без помех предаваться своим занятиям, - с другой, начался отсчет предстоящего одиночества в родительском доме его мнгомесячного изгнания, которое, чтобы оно не превратилось в непрерывную муку, предстоит преодолеть, благодаря творчеству.
Между первым и вторым отрывком сохранившихся записей, как и после второго, - существовал какой-то текст.17 После первого отрывка Пушкин мог описывать встречу в Михайловском 1817 года с бабушкой Марией Алексеевной Ганнибал, которую он не видел ровно шесть лет. Воспоминание, связанное с ней, было овеяно поэзией интимного мира, отзвуками которого из его дества является стихотворение "Сон" (1817) лицейское "Послание к Юдину", где Пушкин вводил черты реального пейзажа села Захарова.
О чем Пушкин мог беседовать с Петром Абрамовичем? Можно предположить, что он не упустил удобного случая, который, учитывая преклонный возраст деда, мог больше и не повториться, распрашивал его и о прадеде, и о нем самом, и о его старшем брате Иване Абрамовиче, о котором он скажет потом в примечании к первой главе "Евгений Онегина": "И.А.Ганнибал принадлежал бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века" (VI, 665). Наверняка, старику было лестно, что его молодой внук проявляет серьезный интерес к своей родословной. Можно представить, что он, расположившись к внуку, дополняя свой рассказ о истории своей фамилии, показывал Пушкину семейные реликвии, документы и многое другое.
И.Л.Фейнберг считает, что примечание к первой главе "Евгения Онегина", является отрывком из АЗ. Доказывая свою версию, он говорит, что "приступив к возобновлению сожженных "Записок", поэт повторил в начале новой Автобиографии свой рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале (с некоторыми только, главным образом стилистическими отличиями).18 С этим утверждением, как нам представляется, согласиться нельзя. И вот почему. Сопоставляя текст примечания с "немецкой биографией А.П.Ганнибала, с ее переводом Пушкина, "Воспоминаниями П.А.Ганнибала" и "Началом автобиографии (1834) мы видим следующее:
- "Немецкая биография" прадеда и мемуары П.А.Ганнибала (хотя последние написаны сумбурно из-за его старческого склероза) повествуют об одних и тех же фактах из жизни А.П.Ганнибала без особых различий. В "немецкой биографии" они изложены развернуто, а у Петра Абрамовича - кратко.
- В документах, в "Начале автобиографии" нет эпизода, повествующего о "роскошной жизни прадеде", о 19-ти братьях, "из коих он был меньшой: помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за
17 Гордин A.M. Из текстологических заметок. С.111-112. - А.М.Гордин предполагает, что <...> речь в этом тексте могла идти не только о первом посещении юным поэтом Петровского в июле 1817 г., но и о последующем, осенью 1824 года.
18 Фейнберг И. Читая тетради ... С.214.
:пину, между тем как он был свободен и плавал под фонтанами отческого юма" (VI, 530); не говорится, что прадед был послан в подарок Петру Зеликому, что Бирон личный его враг, что Абрам Петрович возвратился 13 Франции с чином французского лейтенанта, что "умер в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы, с чином генерал-аншефа на 92-м году от рождения" (VI, 530). Все эти факты представлены з примечании.
- В "немецкой биографии", в ее переводе, сделанном Пушкиным, в мемуарах П.А.Ганнибала и в "Начале автобиографии" нет расхождений в освещении жизни прадеда.
Без всяких сомнений, публикуя первую биографию А.П.Ганнибала, Пушкин основывался на "семейственных преданиях", не располгая на тот момент ни "немецкой биографией" прадеде, ни мемуарами П.А.Ганнибала
После письма к П.А.Осиповой (11 августа 1825 г.) или в начале 1826 г. Пушкин, получив вместе с мемуарами П.А.Ганнибала "немецкую биографию" прадеда, приступил сразу же к ее переводу. В это же время он уже переписывает черновую тетрадь A3, о чем сообщает П.А.Катенину.
Возращаясь в 1830-х годах к возобновлению новой Автобиографии, Пушкин мог взять рассказ о прадеде и его сыновьях из A3, если предположить, что он сохранил эту часть беловой рукописи. В "Начале автобиографии" и документы, и "семейственные предания" соседствуют рядом с собственными чувствами Пушкина, пережитыми им в годы михайловской ссылки. Так появляется в "Начале автобиографии" сообщение, что Абрам Петрович "написал было сови записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами" (XII, 311). О том, что Абрам Петрович сжег записки, им написанные на французском языке, не говорится ни в его "немецкой биографии", ни в мемуарах П.А.Ганнибала. И снова, спустя десять лет, как и в примечании к первой главе "Евгения Онегина", так и в "Начале автобиографии" Пушкин сопрягает свою судьбу с судьбой прадеда.
Глава III. Жанровое и стилевое своеобразие A3. Решение вопроса о соотнесении с A3 какого-то конкретного фрагмента, хронологически и тематически сближающгося с ними, - дело весьма непростое. При конкретном решении его в каждом отдельном случае необходимо учитывать, по крайней мере, два обстоятельства:
1. "Готовый" отрывок из A3 в этих случах включения его в текст,
имеющий иную функциональную предназначенность, должен был существенно меняться в соответствии с новой прездназначенностью.
2. Вместе с изменившейся целью фрагмент A3 получал иную стилевую и содержательную направленность, исключал "личности" и может быть определен лишь некоей общей гипотетической связью с не дошедшим до нас целым.
Поэтому при определении соотнесенности того или иного опубликованного Пушкиным фрагмента A3 с гипотетически конструируемым целым необходимо прояснить некий общий характер проделываемой Пушкиным трансформации. А этот характер, в свою очередь, может быть прояснен на анализе двух сохранившихся воспоминаний о Карамзине.
Первый отрывок - два листа, вырванные Пушкиным из беловой тетради с A3 (ПД 825), которые обыкновенно печатаются вместе с черновым наброском (ПД 416); от слов: " <... > Кстати, замечательная черта" - (XII, 306-307).
14 августа, сообщив Вяземскому об уничтожении записок, Пушкин подтвердил сообщение, переданное с сестрой: "Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя" (XIII, 291). Мысль сохранить отрывок о Карамзине возникла у Пушкина при известии о смерти писателя - написан же он был, несомненно, ранее. Фрагмент был-таки переработан для печати и появился в "Северных цветах на 1828 год"19 в составе заметок, озаглавленных "Отрывки из писем, мысли и замечания". История появления этой публикации и иллюзии, с нею связанные, были подробно разобраны В.Э.Вацуро.20 Не повторяя всех интереснейших наблюдений исследователя, укажем на ряд существенных моментов, имеющих значение для нашей темы.
Во-первых, фрагмент о Карамзине занимает центральное место в "Отрывках из писем...": весь остальной материал "организован" вокруг этого фрагмента. "Этот отрывок, - замечает В.Э.Вацуро, - хотел Пушкин издать в ноябре 1826 года, чтобы противопоставить официальной легенде живого Карамзина... Он начал готовить мемуары к печати, но оставил, не видя в них ничего достойного опубликования или не веря, что их пропустят. Но за год произошли события, которые требовали немедленного, крайне срочного отклика. Пушкин печатает свои воспоминания с риском для себя, хорошо рассчитанным ходом обойдя высочайшую цензуру".21
19 Северные цветы на 1828 год. Спб., 1827. С.223-225.
20 Вацуро В.Э. "Подвиг честного человека". // Вацуро В.Э., Гилельсон М.И., Сквозь "умственные плотины". 2-е изд., доп.М., 1986. С.29-113.
21 Там же. С.96.
Во-вторых, в этом фрагменте замечателен прежде всего сам факт 'пора с декабристами (ив какой-то степени с самим собою, юддерживавшем в 1818 г. идеи декабризма): "Он спорил страстно и убежденно, так, что историческая точность его воспоминаний отступала т задний план, и мемуары переставали быть мемуарами, превращаясь в современную животрепещущую статью".22
В-третьих, включая фрагмент из "Записок" в корпус литературных "мыслей", Пушкин сознательно трансформировал жанр мемуаров, переосмысливая задачу "воспоминаний" ради пропаганды лублицистических мнений и симпатий, определившихся после 1825-1826
Таким образом, приведенный пример трансформации фрагмента из A3 во фрагмент, имеющий иное функциональное назначение демонстрирует, как далеко уходил автор от первоначальной 'свободной" структуры повествования, принятого в своем первом прозаическом сочинении. При этом сама возможность такой переделки и кардинального "пересмотра" повествовательных функций позволяет указать, по крайней мере, три поэтических особенности реконструируемых A3:
1. Они представляли собою именно автобиографическое, мемуарное сочинение, основные эпизоды которого объединялись повествовательным "я" и воссоздавали подробности внешней и "внутренней" биографии самого Пушкина.
2. Это повествование, воссозданное от лица "я", не было самоцелью автора, которому важнее было представить в форме автобиографических заметок и воспоминаний собственные размышления на политические, философские, историософские и бытовые темы и определить собственную, еще формирующуюся, жизненную позицию в открытом и прямом столкновении ее с позициями других персонажей собственных воспоминаний. Авторское "я" здесь должно было соотноситься - как в случае с Карамзиным - с полноценными "чужими я" тех лиц, поведение, суждения и труды которых он описывал. При этом "Записки" не должны были быть открыто полемичными. Цель Пушкина - представить подробную и многоцветную картину переживаемого им времени и, соответственно, "многоцветные" портреты встреченных им людей, "которые после сделались историческими лицами" (XII, 310).
3. A3 не должны были строиться по жестокому "биографическому" плану: сама структура подобных воспоминаний предполагала изначальную "фрагментарность" обращения и каким-то "опорным" сюжетам и личностям, оказавшимся на пути Пушкина.
12 Там же. С.96-97.
Соответственно этому дата вспоминаемого эпизода должна была своеобразно соотноситься с датой воспоминания об этом эпизоде (так, над обрывком записи, повествующим о событиях лета 1817 г. стоит дата : "1824. Ноябрь 19. Мих.<айловское>" -XII, 304) - факт прошлой биографии пересматривался и переоценивался уже "повзрослевшего" и изменившегося его героя. А это удобнее всего было сделать в границах жанра "отрывка" - жанра, весьма популярного в русской словесности 1810-1820-х годов.
Вот, к примеру, финальный афоризм (после которого в "Северных цветах..." и стоит указание: "Извлечено из неизданных записок" - ХТ, 331): "Французская словесность родилась .в передней и далее гостиной не доходила" (ХТ, 58). Эти строки в первоначальной редакции записаны в черновом наброске "о поэзии классической и романтической" (1825): "Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда не доходившая далее гостиной..." (XI, 38). Сам же этот набросок, реконструированный С.М.Бонди23 может быть интерпретирован как не противоречащее поэтике Реконструируемых "Записок" рассуждение "попутного" характера, соотнесенное с авторским "я" (обороты типа: "не считаю за нужное говорить" и т.п.) и с определенным этапом творческой биографии Пушкина.
Показательна, наконец, и общая тональность "Отрывков из писем..." В них очень часты отсылки к неким "зашифрованным" собеседникам, мнения которых извлечены из личных встреч с ним автора: "Один из наших поэтов говорил гордо..." (XI, 53 - имеется в виду, скорее всего, А.А.Дельвиг); "...некто заметил, что..." (XI, 54 - имеется в виду В.К.Кюхельбекер) и т.д. Способ "представления" этих собеседников аналогичен способу представления оппонентов Карамзина: "Л., состарившийся волокита, говорил..." (XI, 54) и "Н., молодой человек, умный и пылкий, разобрал..." (XI, 57). Показательно, что в отрывке "Идиллии Дельвига для меня удивительны..." (XI, 58) Пушкин убрал в (беловой редакции) сохранившуюся в черновике характеристику личности Дельвига: "... ничего, что отзывалось бы новейшим остроумием; сию вечную простоту и нечаянность добродуший, тонкость соображений, оградить себя от прозаического влияния остроумия и умничанья, от игривой неправильности романтизма, дабы сохранить полноту и равновесие чувств" (XI, 330). Эта ссылка к личности была явно ориентирована на "личностное" замечание о Дельвиге е хронологически предшествовавшей АЗ...
23 См.: Бонди С. Историко-литературные опыты Пушкина. // Литературное наследство. Т.16-18. М„ 1934. С. 421-429.
Уничтожив A3, Пушкин, однако, долго не мог избавиться от их влияний.
Сложнее обстоит дело с отнесением к "Запискам" "Отрывка из письма к Д.". И.Л.Фейнберг24 предлагал считать это "автобиографическое письмо" готовой сохранившейся частью "Записок". Б.В.Томашевский оспорил это утверждение, сославшись на "историю текста" "Отрывка ..."25; Я.Л.Левкович поддержала эти сомнения26. Вкратце аргументы исследователей, решительно отвергавших связь "Отрывка из письма к Д." с "Записками", могут быть сведены к следующему:
1. Этот текст изначально имел утилитарную направленность: Пушкин, недовольный предисловием Вяземского к первому изданию поэмы "Бахчисарайский фонтан" (1824), вознамерился вдогонку этому изданию написать свое "послесловие" в альманахе Дельвига "Северные цветы". Текст письма, по мнению Я.Л.Левкович, посылался Дельвигу дважды: сохранился черновик (в составе "второй масонской" тетради), датируемый декабрем 1824 г. (ПД 835) и беловой текст письма к Дельвигу от конца декабря 1825 г. (ПД 249). Это письмо, в несколько сокращенном виде, попало во все издания "Бахчисарайского фонтана" после 1830 г. - и имело не столько собственно биографическую, сколько литературно -полемическую цель.
2. Представленное в "Отрывке из письма к Д." описание путешествия по Крыму содержит элементы некоторой мистификации и не вполне соответствует реальным обстоятельствам пребывания там Пушкина в сентябре 1820 г. (что выясняется из сопоставления его с письмом к Л.С.Пушкину от 24 сентября 1820 г. - XIII, 18 - 20).
3. В "Отрывке ..." совсем не упоминается семейство Раевских, вместе с которым совершалась поездка Пушкина по Крыму. Между тем, в "Записках" Пушкин не мог "пропустить" Раевских, ибо собирался писать о лицах "достойных замечания ...".
Комментируя письмо к Дельвигу, Д.Д.Благой справедливо отметил, что оно является "чисто литературным произведением, написанным с заведомой целью отдать его в печать" (XIII, 487). Но это произведение занимает необычное "промежуточное" положение в пушкинских текстах. В Академическом издании сочинений Пушкина оно печатается трижды: как письмо к Дельвигу (XIII, 250 - 252), как приложение к Бахчисарайскому фонтану" (IV, 175 - 176) и как самостоятельное прозаи-
24 Фейнберг И.Л. Читая тетради. С. 234 - 236.
25 Томашевский Б.В. Пушкин. T.I. С. 567, 482 - 484.
26 Левкович Я.Л. Автобиографическая проза... С.252-255.
ческое произведение, отнесенное к жанру "путешествия" (VIII, 435 - 440). Однако само существование такого "тройного" текста вовсе не противоречит его основной "автобиографической" направленности.
Высказанные ранее аргументы против отнесения его к "Запискам" оказываются правомерными лишь в одном случае: если мы воспримем этот текст как "готовый фрагмент" (выражение И.Л.Фейнберга) "Записок", не подвергшийся никакой литературной обработке. Между тем, как явствует из предложенного выше сопоставления непосредственного фрагмента о Карамзине из "Записок" с его переработанным для печати вариантом, Пушкин всегда в аналогичных случаях производил необходимую трансформацию. Следы этой трансформации видим уже в черновых проработках "Отрывка из письма к Д.". Характер черновика (в котором сравнительно немного исправлений и зачеркиваний) позволяет предположить, что Пушкин, работая над ним, уже имел какой - то "исходный" текст, который в данном случае подвергается смысловой, композиционной и стилистической обработке.
Неожиданные следы уничтоженных A3 встречаем в написанной по заказу Николая I записке "О народном воспитании" (1826). Пушкин работал над нею в октябре - ноябре в Михайловском - уже после сожжения A3. Между тем, в черновике этого документа встречаются характерные указания.
"К сожалению, - отметил Б.В.Томашевский, - в беловом тексте нет никаких следов намеченных здесь извлечений"27. Это не вполне точно, в начальном абзаце соответствующего фрагмента ("Любопытно видеть etc...") действительно нет. Но в рассуждениях о вреде "чинов" есть замечание о необходимости уничтожить экзамены для плучения чинов 8-го и 5-го класса, введенные по проекту М.М.Спиранского в 1811 году (возможно, что оно входило в ту главу A3, которая в пушкинском черновике названа "Александр").
Несмотря на неизбежную гипотетичность отношения этих фрагментов к A3 ( они, конечно же, в лучшем случае, могут считаться не "готовыми отрывками", а значительно переработанными фрагментами, функция которых значительно трансформирована), - они косвенным образом характеризуют сам замысел и характер повествования в пушкинских мемуарах. Пометы Пушкина на черновой рукописи - "из записок" -восстанавливают ситуацию прямого "списывания". Пушкин вроде бы намечает начало соответствующего абзаца, который собирается использовать...
27 Томашевский Б.В. Пушкин. Т.1. С.569.
Между тем, мы можем с большой уверенностью утверждать, что ; том времени, когда поэт работал над трактатом "О народном юспитании" - в октябре - ноябре 1826 г. - его "Записки" были уже ■ничтожены.28 Означают ли эти указания, что поэт уничтожил их не юлностью? Что, кроме листов о Карамзине, у него оставались еще какие-о дошедшие до нас фрагменты?
Скорее всего, мы имеем дело с другим пушкинским фрагментом. ]ама возможность использования биографических записок о составе юлитического трактата, предназначенного не для печати, а для подачи шператору, показывает, что в "Записках" были суждения и о склонности лолодого поколения к политическим преобразованиям, и о мерах Члександра I, связанных с существованием "Табели о рангах" ... что 'Записки", уничтоженные Пушкиным, представляли собой не просто штобиографию, а историю того времени".29 Более того, заветные 1ушкинские идеи, существовавшие в "Записках", могли быть изложены, в сонечном итоге, и "без биографии" (как в переработанном фрагменте о Карамзине).
Та творческая установка, которая определила жанр и стиль A3, 5ыла очень характерна для думающего российского интеллигента первой ютверти XIX века. Вот характерный пример рождения подобного ¡амысла - не у Пушкина:
"Мая 3-го 1817.
Болезнь моя не миновала, а немного затихла. Кругом мрачное иолчание. Дом пуст. Дождик накрапывает. В саду слякоть. Что делать? Все прочитал, что было, - даже "Вестник Европы". Давай вспоминать :тарину. Давай писать набело impromptu, без самолюбия, и посмотрим, -ITO выльется. Писать так скоро, как говоришь, без претензий; как мало авторов пишут, ибо самолюбие всегда за полу дергает и на место первого :лова заставляет ставить другое ,.."30.
Это состояние зафиксировано человеком, психологически очень близким к Пушкину и оказавшимся в подобной бытовой и творческой обстановке. Константин Николаевич Батюшков; май 1817. ; глухая деревня в Новгородской губернии; неожиданно пришедшее состояние творческого вдохновения ... Предмет будущего творчества еще не приобрел сколь - либо
п Левкович Я.Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки? // Временник
Пушкинской комиссии. 1979. Л., 1982. С. 102 - 106.
!9 Томашевский Б.В.Пушкин. М.-Л., 196. С. 169. 50 Батюшков К.Н. Сочинения. М., 1989. Т.2. С. 35.
определенных очертаний, - но "пальцы просятся к перу, перо к бумаге" ... И приходится рассуждать "внутри себя" - о самом творчестве. А самое первое, что в этом случае приходит на ум, - это воспоминание.
Думается, что процесс работы Пушкина над его "Записками" был аналогичен батюшковскому. Как и Батюшков, он сохраняет дату записи того или иного "воспоминания" (дата записи, как и у Батюшкова, лишь на несколько лет отстоит от даты воспоминаемого события). Показательно и то, что на последнем этапе работы Пушкин, по существу, занимался систематизацией разрозненных записей (см. в письме к П.А.Катенину от сентября 1825: " ... переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь" - XIII, 225). Следы этой систематизации сохранились и в рукописях ("№ №" в автографе "Некоторых исторических замечаний" ). Все это, в сущности, косвенные указания на жанровое своеобразие "Записок", в соответствии с которым они находились вполне в русле традиционной литературы первых десятилетий XIX века.
Характерное ироническое обозначение малых жанров "карамзинистского" направления журнальной словесности 1810 - 20 - х годов дал А.С.Грибоедов, литературный противник "карамзинизма", в монологе Репетилова из "Горе от ума" (д. IV, явл. 4).
Несмотря на полемическую направленность, эти обозначения довольно точно определяют существо тех "малых" прозаических жанров, которые действительно наполняли тогдашние журналы. С.А.Фомичев отметил, что такого рода жанровые обозначения "не придуманы драматургом: это обычные "жанры" журналистики того времени.
Пушкинский "Отрывок из письма к Д." не датирован. Он писался через четыре с лишним года после события (в декабре 1824 г.), а перебеливался еще год спустя - в конце 1825 г. При этом показательно, что перебелив "Отрывок ...", Пушкин зачеркивает в нем первый и последний абзацы (последний, в нарушение авторской воли, был все-таки напечатан Дельвигом): в первом содержалось указание на книгу И.М.Муравьева - Апостола(, вышедшую в свет три года спустя после описанного путешествия); в последнем прямо говорилось, что это "воспоминание", а не письмо. Пушкин тоже явно стремился сохранить иллюзию теперешнего восприятия.
Пушкин-прозаик открыто играет с читателем, демонстрируя несовместимость факта литературного и факта реального. И у него, так же, как у Батюшкова, заявленная "прозаическая" стихия "отрывка" оказывается многослойной. Поэтому при внешней традиционности его "отрывок" выглядит новаторским.
Сохранившиеся фрагменты АЗ Пушкина прямо ориентированы в санровом отношении на ироническую "классификацию" Грибоедова. Отрывок" о посещении деревни и встрече со "старым арапом". "Взгляд" ¡а "Историю..." Карамзина. "Нечто" о русской политической истории СУШ столетия...Общая установка собственного подхода к прозе аявлена Пушкиным в известной черновой заметке 1822 года:
"Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она ребует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не лужат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам (меть сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкнов<енно> ¡одится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша (алеко вперед не подвинется).
Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ - Карамзина. )то еще похвала не большая - скажем несколько слов об сем ючтенн<ом>..." (XI, 19; на этом заметка обрывается). !аметка эта тоже имеет отношение к "Запискам" - и не только по своей фонологической близости к ним. Начало рассуждения о Карамзине в ее финальной части прямо ведет к оценке карамзинской "Истории..." представленной в сохранившихся фрагментах "Записок".
Приведенная выше творческая установка Пушкина - это, по :уществу, дальнейшее развитие подобного же представления. "Точность \ краткость" прозы для него становятся показателями творческой щсциплины, - между тем как "стихи дело другое". При этом 'воспоминания о протекшей юности" противопоказаны именно стихам, ю вполне естественны в "точном" прозаическом описании.
Сама структура и состав ранних пушкинских АЗ непременно должна была быть очень пестрой, соединяя в себе и воспоминания о гережитом, и заметки о живых и уже умерших современниках, и более 1ли менее отвлеченные рассуждения об истории, политике, философии, штературе и т.п. Эта творческая установка определяла и их жанровые зсобенности. Ориентированные на фрагмент, они должны были быть лепременно яркими и броскими, либо представляя неординарных людей с лепременно интересными и противоречивыми личностными чертами ( <ак Карамзин, Державин, Дельвиг ) либо развивая некие, внешне ларадоксальные ( и опять-таки неординарные ) мысли и соображения.
При этом определение "биографическое" в применении к пуш-шнским "Запискам" следует понимать расширительно: элемент внешнего 'биографизма", рассказ о более или менее знаменательных событиях собственной жизни, не обязательно долженбыл здесь господствоать.Более гого, такого рода "отрывок" не имел смысла без дополнений
в духе "взгляда" и "нечто". В данном случае Пушкин вовсе не стремила к создании сколь-либо "связных" или последовательных мемуаров ( ка! это было в позднейших планах ): ориентация на "фрагмент" помогала I данном случае "заготовлять воспоминания или материалы для поэзии".
В заключении подводятся итоги приведенного исследования I намечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы.
Список опубликованных работ.
1. К вопросу об истоках пушкинской прозы, //газ. "Пушкинский край". 1983. №54.
2. Портрет на память. //Ж. "Слово". М., 1990. №6.
3. Принципы реэкспозиции в доме-музее Ганнибалов в Петров ском.//Научный архив Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское". 1992.
4. Завещание В.П.Ганнибала. //Ж."Слово"., М., 1993. № 7.
5. Художественно-экспозиционное решение выставки "Пушкин в Псковском крае". // Михайловская Пушкиниана. Сборник статей научных сотрудников музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское". Вып. 1. М., 1996.
6. Документы, книги и семейные предания Ганнибала. //Пушкин и другие. Сборник статей к 60-летию С.А.Фомичева. Новгород. 1997.