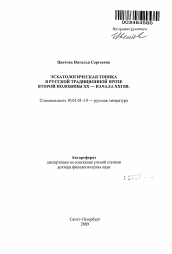автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Эсхатологическая топика в русской традиционной прозе второй половины XX - начала XXI вв.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Эсхатологическая топика в русской традиционной прозе второй половины XX - начала XXI вв."
На правах рукописи
Цветова Наталья Сергеевна
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПИКА В РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПРОЗЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВВ.
Специальность 10.01.01-10 — русская литература
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Санкт-Петербург 2009
003464586
Работа выполнена в Отделе новейшей литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Научный консультант-
доктор филологических наук Вячеслав Петрович Муромский
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук Ольга Владимировна Богданова доктор филологических наук Алла Юрьевна Большакова
доктор философских наук, профессор, академик РАО Александр Аркадьевич Корольков
Ведущее учреждение -
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Защита диссертации состоится 16 марта 2009 года в 14.00 на заседании Специализированного совета Д 002.208.01 по присуждению ученой степени доктора филологических наук в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН: Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4.
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки ИР ЛИ (Пушкинский Дом) РАН.
Автореферат разослан
февраля 2009 года.
Ученый секретар Специализирова! канд. филол. нау!
//
•у^'Светлана Алексеевна
Семячко
Общая характеристика работы
Актуальность исследования обусловлена современным филологическим интересом к национальной онтологии и отечественной духовной традиции, к разнообразным формам контакта литературного творчества и теософии1, к апокалиптическому дискурсу. Этот интерес сегодня активно реализуется в поле интердискурсивных изысканий. Базируются данные изыскания на идеях интегративного типа, в отечественном литературоведении впервые отчетливо обозначенных в двухтомном издании материалов Всесоюзной научно-творческой конференции (ИМЛИ РАН, 1989),2 получивших развитие в новом варианте академической теории литературы (том «Литературный процесс»)3 и в более поздних работах Ю.Б. Борева, В.В. Ванслова, С.Т. Ваймана, А.Д. Михайлова, П.Е. Спиваковского, Ю.С. Степанова4, В.Г. Арсланова, М.Н. Виролайнсн, B.C. Жидкова, В. Кантора, К. Касьяновой, A.A. Королькова, С. Масси, Л. Мюллера, К.Б. Соколова, H.A. Хренова и др. Но в рамках обозначенной тенденции до сих пор не появилось системных исследований русской литературной эсхатологии - конституционального явления для национального культурного пространства. Более того, в научной среде множатся высказывания о «чужеродности», «экзотичности», «непродуктивности» или «затухании к ХУ1-ХУ11 вв.» эсхатологической темы в русской литературе5, что, на наш взгляд, продиктовано, с одной стороны, неизучепностыо проблемы, с другой - попыткой ее искусственной герметизации, сведения литературного эсхатологизма к апокалиптической тематике, т.е. только к одной эсхатологически значимой идее, причем не являющейся ключевой для русской картины мира.
Подобного рода высказывания нельзя считать доказательными, поскольку отечественная эсхатологическая традиция беспрерывно развивается с момента возникновения древнерусской литературы. В зависимости от исторической ситуации доминировали различные ее проявления - во времена глобальных катаклизмов, например, апокалиптические мотивы, которые довольно быстро вытеснялись частно (лично)-эсхатологической топикой. Последнюю полную эсхатологическую картину, при художественном воспроизведении которой системно использовалась соответствующая топика, увидел Достоевский в пушкинских «Египетских ночах». Только в послепушкинскую эпоху в русском
1 Черницкая Л.А. Литература сквозь призму философии. — СПб, 2003.
2 История советской литературы: Новый взгляд. Т. 1-2. — М., 1990.
3 Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс. — М., 2001.
" Теоретико-литературные итоги XX века. Литературное произведение и художественный процесс. — М„ 2003.
5 Демин A.C. Путешествие души по загробному миру (в древнерусской литературе) II Герменевтика древнерусской литературы. Сб.7. 4.1. — М., 1994. С. 74.
литературном дискурсе начались модернизация и дробление православной эсхатол о ги чес ко й ко и цеп ци и.
Во второй половине девятнадцатого века равномасштабиой Пушкину эсхатологически значимой фигурой стал Толстой, казалось, навсегда и безвозвратно уводивший русскую литературу от теоцентричного монизма, утративший понимание смерти как явления безусловно онтологического. Он исследовал несколько подходов к проблеме неизбежной конечности жизни: неведение (или нежелание думать о смерти), самоубийство (как «выход силы и энергии»), смирение («знаешь, что умрешь, но тянешь лямку») и эпикурейство («пей, гуляй - одиова живем»/'.
Идеи Толстого в значительной степени повлияли на литературную эсхатологию эпохи декаданса и Октябрьской революции.
Вся сложность восприятия православной эсхатологии литературным сознанием вплоть до появления в начале 1990-х в журнале «Знамя» известной статьи А. Якимович7 оставалась закрытой для исследователей. Понятно, что отечественная филология не могла уделять должного внимания теологической проблематике в силу определенных социально-исторических причин.
На сегодняшний день существует единственная монография, автором которой предпринята попытка системного освещения данной темы8. Российское литературоведение ограничивается анализом эсхатологического мотива в творчестве отдельных художников (статьи Аленькиной Е.В., Алсщеико НИ., Анненковой Е.И., Гречнева В.Я., Лекманова O.A., Липовецкого М., Ольшевской Л.А., Рудомазиной Т., Сисикина В., Сисикиной И., Скатова H.H., кандидатские диссертации Варламова А.Н., Сморжко С.I I. и др.).
В этом контексте значимость предпринятого нами исследования определяется его предметом, которым стала художественная эффективность текстовых реализаций эсхатологической топики в новейшем литературном дискурсе. Опора на топику при литературоведческом анализе традиционных текстов, отличающихся особого рода «кодифицировапностью» (АЛО. Большакова), позволяет минимизировать ошибки произвольной интерпретации, дает возможность обнаружить зафиксированную в художественных образах сопряженность всех граней бытия: искусства и морали, памяти и воображения, хаоса и гармонии, общественной и индивидуальной жизни. В конечном итоге наш выбор предмета исследования исключает противопоставление формы и содержания, дает возможность продемонстрировать внутреннее единство анализируемого материала.
6 Шихирев П. Предупреждение? // Наука и религия. 1989. № 11. С. 38.
7 Якимович А. Эсхатология смутного времени// Знамя. 1991. № 6. С. 221-228.
6 Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература. — М., 2000.
Объектом интерпретации является русская традиционная проза второй половины завершившегося столетия - наиболее мощный сегмент литературного потока, который по ряду причин именно сегодня нуждается в реинтерпретации. Принципы отбора материала были обусловлены предметом анализа. Внимание к эсхатологическому дискурсу определило интерес к текстам, авторы которых стремились к постижению особенностей национального психо-ментального комплекса.
Цель диссертационного сочинения заключается в исследовании русской традиционной прозы второй половины двадцатого - начала двадцать первого веков как литературно-эсхатологического феномена, характеризующегося определенной системой -голосов, структура которых сложна, а словесная форма неразрывно связана с эмпирической реальностью.
С этой целью напрямую соотносятся конкретные задачи исследования:
- обоснование необходимого терминологического инструментария;
- изучение характера связи православной и народной, зафиксированной в фольклоре и литературе, эсхатологии;
- формирование общего представления об основных этапах эволюции отечественного литературно-эсхатологического дискурса;
- анализ «деревенской прозы» как уникального варианта русской литературной эсхатологии через описание соответствующей топики;
- определение идейно-эстетической перспективы развития русской традиционной прозы, не исчерпывающейся и не ограниченной литературным опытом «деревенщиков»;
- осмысление на материале постмодернистской литературы и медийного дискурса этапиости наблюдаемого в современной словесности увлечения танатологией.
Научная новизна диссертации определяется недостаточной степенью изученности данной проблемы, включенными в текст диссертации архивными материалами, материалами из Астафьевского фонда Рукописного отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) и переводами еще не известных в России немецких теоретико-литературных работ.
Методологическую базу диссертации составляют научные труды, в которых представлены описательно-аналитические, мифологические, текстологические, интердискурсивиые, интертекстуальные аналитические методики. Это работы С.С. Аверинцева, М,М. Бахтина, Ю.Б. Борева, В.В. Ванслова, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева, А.Ф. Лосева, A.M. Паиченко, IO.C. Степанова, В.Н. Топорова, Г. 11. Федотова и т.д.
В основе избранного научного подхода, во-первых, предложенное Д.С. Лихачевым понимание культуры «как некоего органического целого явления, как особого рода среды, в которой существуют общие для разных аспектов культуры тенденции, законы, взаимопритяжения и
взаимоотталкивания...»4. Данное определение является актуальным, так как задает и мотивирует современную интеграцию гуманитарных наук, развитие национальной компаративистики, возникновение которой предсказал М.М. Бахтин, уверенный в том, что «наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры происходит на границах отдельных областей ее; а не там и не тогда, когда эти области замыкаются в своей специфике»10.
Во-вторых, учитывались современные принципы интерпретации художественного текста, с одной стороны, базирующиеся на концепции линпюстилистического анализа, разработанной академиком В.В. Виноградовым, с другой, на идеях К. Юнга, в частности, его убежденности в том, что в «индивидуально-авторской картине мира» (термин В.В. Кожинова) неизбежно прорастает опыт многих поколений. Этот опыт соотносим с ключевыми, с методологической точки зрения, принципами «обратного историзма» и «археологии гуманитарных наук», разработанными М. Фуко, заставляющими размышлять над культурно-историческими предпосылками явлений истории литературы, исключающими приписывание этим явлениям тех свойств, качеств, атрибутов, которые к ним исторически не могут иметь отношения.
В-третьих, использовались результаты филологических изысканий, основанных на описании «внутренней структуры произведения», презентующих художественные тексты в одном смысловом иоле с другими текстами культуры (в том числе бытовыми, поведенческими), позволяющих выявлять их мифологичность, социологичность, политические, бытовые, религиозные составляющие. Такого рода исследовательский опыт оправдывает совмещение литературоведческого и лингвистического подходов к художественному тексту с психоаналитическим и культурологическим ".
Основные положения, выносимые на защиту.
Использование эсхатологической топики в художественном тексте является одной из онтологически значимых особенностей русской литературной традиции. Ее постижению препятствует уже сложившийся литературоведческий подход к анализу эсхатологического дискурса в прозе, предполагающий отождествление эсхатологической темы с темой смерти и приводящий к подмене исследования литературной эсхатологии литературной же аиокалиптикой или танатологией.
Этот подход во многом спровоцирован модернизацией литературной эсхатологии в послепушкинский период, когда реанимировались
9 Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Новый мир. 1994. № 6. С. 4.
10 Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. — М., 1986. С. 503.
Кузина Н.В. Семантическое развертывание прозаического текста: Методика анализа. Предварительный опыт//Алфавит. Филологический сборник. — Смоленск, 2002. С. 71-92.
национальные доэсхатологические представления и началось оформление танатологической концепции.
Наиболее серьезным испытаниям литературная эсхатология подверглась в революционную эпоху.
Возвращение эсхатологической топики в художественный текст состоялось в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором мотив смерти получил инвариантное воплощение и был'расширен за счет топоса «бессмертие».
Кульминационным событием в процессе возвращения русской прозы к православной эсхатологической концепции в ее народном варианте, акцентирующем внимание на частно-эсхатологических1 идеЯх^ стала «деревенская проза» 1960-1980-х гг.
В 1990-е годы в постмодернистской литературе и медийном пространстве под влиянием активно развивающихся экзистенцианалистских подходов к жизни и смерти, достаточно отчетливо зафиксированных уже в повестях Ю.В. Трифонова, традиционный эсхатологический мотив был трансформирован в танатологический.
В начале нового тысячелетия эта трансформация приостановлена возникновением новой прозы, ориентированной в своем развитии на классическую литературную традицию.
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут использоваться в вузовских академических и специальных курсах, при подготовке спецсеминаров, школьных факультативов. Научно-теоретические взгляды автора могут быть учтены при дальнейшей разработке темы «Русская литературная эсхатология», при выборе исследовательского инструментария для системного анализа литературного текста.
Апробация работы. Содержание диссертации отражено в монографии, четырех учебных пособиях, одном специальном издании для школьников (на корейском языке) и в ряде статей, опубликованных в России, Беларуси, Болгарии, Республике Корея.
Основные положения диссертации были изложены в докладах на международных научных конференциях «Михаил Булгаков в XXI веке. К 40-летию выхода в свет романа «Мастер и Маргарита» (С-Петербург, ИРЛИ РАН, 1-2 ноября 2006 г.), «Русская литература в формировании современной языковой личности» (С-Петербург, СПбГУ, 24-25 октября 2007 г.), «Писатели русской традиционной школы в контексте современности» (С-Пстербург, ИРЛИ РАН, 14-15 ноября 2007 г.), «Национальное и общечеловеческое в славянских литературах» (Гомель, октябрь 2007, 2008 гг.), «Северный текст русской литературы» (Архангельск, 22-24 сентября 2008 г.), «Творчество В.Г. Распутина в социокультурном и эстетическом контексте эпохи» (Москва, МГ1ГУ, 22-23 ноября 2007 г.), на Международном конгрессе «Русская литература в мировом культурном и
образовательном пространстве» (С-Петербург, 15-17 октября 2008 г.); на Всероссийских научных чтениях «Наследие В.П. Астафьева в историко-культурном сознании современности» (Вологда, 25-26 апреля 2007 г.), на межвузовской научной конференции «Литературные чтения» (С-Петербург, СПбГУКИ, апрель 2005, 2007 гг.), на научно-практической конференции «СМИ в современном мире. Петербургские чтения» (С-Петербург, СПбГУ, апрель 2006, 2007 гг.), на X Научных чтениях Рукописного отдела ИР ЛИ РАН (10 апреля 2008 г.), на методическом семинаре «Проблемы отбора произведений русской литературы для изучения в иностранной аудитории» в РГПУ им. Герцена (С-Петербург, сентябрь 2008 г.) и др.
Структура работы. Диссертационное сочинение состоит из введения, четырех глав, заключения. Последний раздел - приложение, в котором публикуется машинописный вариант «попытки исповеди» В.П. Астафьева «Из тихого света». Завершает исследование библиографический список, содержащий около 400 наименований.
Основное содержание
Во Введении, кроме традиционных разделов, представлен аппарат описания интересующего нас феномена: рассматриваются дефиниции терминов «традиционная проза», «топика».
Термин «топика» внесен в гуманитарную науку из античной, греческой риторики. Топика в риторике - инструмент создания текста, система универсальных смысловых моделей - топов. В российской словесности наиболее убедительное и полное описание этой системы предложил в 1851 году К.П. Зеленецкий12. Его работа оставалась наиболее авторитетной для отечественных гуманитариев вплоть до начала советской эпохи.
Следует заметить, что идею существования топики культуры (устойчивых мотивов, героев-символов, событий-символов, определенного набора литературных средств, с помощью которых воплощался народный нравственный кодекс), поддерживал академик A.M. Панченко13.
Возникновение литературной топики было связано с уходом от риторической сущности явления и зафиксировано Э.-Р. Кёртисом (Э.-Р. Курциусом) (1941), соотносившим топику, по некоторой аналогии с М.М. Бахтиным, в первую очередь, с мотивом в изобразительно,м искусстве, которому «присуще временное и пространственное всеприсутствие»14. О том, что идеи Кёртиса и Бахтина отраженно сосуществовали в параллельных плоскостях, дополнительно свидетельствует дефиниция термина «топика» в наиболее авторитетном сегодня для немецкоязычной Европы «Лексиконе Метцлера» (1995).
12 Зеленецкий К.П. Топики // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста Антология. Под общей редакцией проф. В.П. Нерознака.— М., 1997.
13 Панченко A.M. Русская история и культура. — СПб, 1999. С. 236-237.
14 Цит. по: Махов А.Е. Топос// Западное литературоведение XX века. Энциклопедия,— М., 2004. С. 401.
В современной российской науке о литературе топика активно используется при исследовании агиографического жанрового канона (Лихачев Д.С., Еремин И.П., Творогов О.В., Руди Т.Р. и др.)- При использовании топики как инструмента для изучения реалистической прозы логически оправданной является опора на концепцию П.Е. Бухаркина. Согласно этой концепции, подтверждающейся анализом новейшей традиционной прозы, реализм только внешне отказывается от топических принципов организации текста и образа. Стремясь внести в текст и образ «универсальное, выходящее за рамки социально-психологической эмпирики содержание», писатель-реалист находит новые, «неявные» способы внедрения топоса в художественное пространство: через введение метонимии в семантическую структуру образа, через расширение «существа и пафоса» мотива, через расщепление топоса на «оценочно-семантические модусы» и т.д.15.
Во введении также дается дефиниция термина «традиционная литература». Этот термин определяет не литературную школу, даже не течение или направление в привычном, устоявшемся в истории литературы понимании, а историко-литературную парадигму, объединяющую произведения, в которых, с точки зрения содержания, воплощаются основы, исторический опыт национальной культуры при сбалансированности идеи, сюжета, психологии персонажей с соответствующими поэтикой и стилистикой. Традиционность в сфере поэтики и стилистики заключается в сосредоточенности на развитии классической жанровой системы; в подчиненности хронотопа реальному времени и пространству и реальному человеку, раскрывающемуся в аксиологически выверенной мотивной структуре сюжетов; в наследовании принципов психологизма; наконец, в обновлении литературного языка, усиливающем его изобразительно-выразительные возможности за счет возвращения классической чистоты и ясности, мифологической объемности и глубины слова.
Ведущая роль в сохранении русской литературной традиции во второй половине двадцатого века принадлежала так называемым «писателям-деревенщикам», многие из которых успешно работали над «военной» темой, и «городским» прозаикам, в первую очередь Ю. Трифонову.
В первой главе «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ И РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» предмет исследования представлен в историко-генетическом и типологическом планах. Выявляются исторические, мифологические, теософские источники русской литературной эсхатологии, определяются основные этапы в развитии данного феномена. Во вступительной части подчеркивается, что, несмотря на небольшое количество работ, посвященных русской литературной эсхатологии, литературоведение все же сумело уйти от поиска формальных
15 Бухаркин П.Е. Риторика и смысл. — СПб. 2005. С. 96.
типологических соответствий эсхатологическому дискурсу (цитат и реминисценций из Библии или Апокалипсиса, открытой, прямой, публицистической рефлексии по поводу конца света или окончания человеческой жизни). Но при этом в изучении эсхатологического дискурса русской литературы на сегодняшний день достаточно четко обозначились, как уже было отмечено выше, две тенденции: отождествление эсхатологической темы с темой смерти, задающее неразличение эсхатологической и танатологической проблематики; подмена исследования литературной эсхатологии литературной же апокалиптикой.
Первая тенденция обладает глубочайшей исторической ретроспективой. У истоков ее - общеславянские языческие представления о смерти, бесспорная реконструкция которых по понятным причинам сегодня более чем затруднена.
Большинство современных исследователей противоречивой и непоследовательной раннеславянской, дохристианской «танатологии» считают, что эта система, выросшая из календарных мифов о смерти и воскресении природы16, имела архаичную форму «полидоксии», включающей скромный культ мертвых, веру в сверхъестественные, мистические возможности различных объектов природы (в том числе демонов, предлагавших осуществление идеи бессмертия на земле), и представление о смерти как о сне17. Следует согласиться с теми, кто убежден, что «полидоксия» избавляла язычников от осознания драматизма смерти, но в то же время препятствовала пониманию истинной ценности человеческого бытия18. Как нам представляется, наиболее точно прокомментировала эту ситуацию A.A. Тахо-Годи,19 считавшая, что язычеству свойственно представление о человеческой жизни как о своего рода «театральной сцене», на которую неизвестно откуда приходят и куда уходят люди. Таинственный приход и уход, регулируемый мистическими силами, с которыми при определенных обстоятельствах можно было заключить договор, не мог осознаваться как нечто, обладающее абсолютной ценностью.
Развивающаяся под давлением эволюции социальных отношений полидоксия позволила славянам пережить кризис языческих представлений о мире и человеке и стала основой прототеизма - веры, связанной с космогоническим мифом, заставившей наших предков-язычников отказаться от представления об акте смерти как о сне и задуматься о существовании
16 Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. // Т. 1. — М., 1988. С. 671.
" Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. — М,, 1966, С. 199; Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок (У1 - Х11 вв.). Warszawa, 1979 - СПб, Академический проект, 2003. С. 319; Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 1Х-Х1 вв. — Смоленск, 1995. С. 196; Карпов A.B. Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси в 1X-X1 веках. — СПб, 2008. С. 123.
18 Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. — М., 1993. С. 20.
Тахо-Годи A.A. Жизнь как сценическая игра в представлении древних греков // Искусство слова. — М„ 1973. С, 310.
внутренней стороны этого явления. А.Н. Соболев писал, что именно в эпоху протогеизма человек почувствовал необходимость в определении необъяснимой силы, «которая причиняет смерть; объяснить же себе эту силу младенческое сознание нашего предка могло не иначе, как представить ее материально, в каком-либо видимом образе»20.
Знаток славянской мифологии представил и совместил три важных и принципиально разных «предэсхатологических» этапа в процессе формирования образа смерти в народном сознании: полидоксии, прототеизма и политеизма. О первом говорилось выше. На юором этапе древнерусская культура начала усиливать нравственные значения, рожденные в поисках противоядия против страха смерти, вполне соотносимые с более поздними христианскими понятиями «дух», «душа», «добро», «зло», «бес»21.
На третьем в древнерусской мифологической системе появился образ бога смерти - Флинца, которого «иногда представляли его остовом, с левого плеча висела у пего мантия, а в правой руке держал он длинный шест, на конце которого находился факел. Па левом плече у него сидел лев, который двумя передними лапами упирался в голову, одною же заднею в плечо, а другою и руку остова. Славяне думали, что этот лев принуждает их к смерти. Другой способ изображать его был такой же, только с тем различием, что представляли его не остовом, а живым телом»22. Данное изображение можно воспринимать как более позднее по времени возникновения доказательство сущностной, родовой слиянности двух мировоззренческих систем, до сих пор воспринимаемых большинством как сугубо антагонистичные. В нем уже присутствуют некоторые признаки возникающего интереса к монотеизму, позволившему человеку надолго преодолеть ощущение собственного бессилия перед Судьбой и ставшему основой собственно эсхатологической христианской, православной концепции. Флинц не сохранился в народном сознании отчасти потому, что литература предпочла эксплуатацию фольклорного, антропоморфного образа смерти.
Сущностным продолжением древней традиции можно считать се возрождение уже в трансформированном виде в танатологичном по своей сути постмодернистском дискурсе (в постмодернистской прозе, массовой литературе и медийном пространстве). Трудно согласиться с мнением Дубравки О. Толнк23, Н.Е. Личиной24, признающих «Кладбищенские
20 Соболев А Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям.
Литературно-исторический опыт исследования русского народного миросозерцания. Серия «Мир культуры, истории и филологии». — СПб, 2000. С. 39-40. Личутин В. Душа неизъяснимая. — М., 2000. С. 19.
22 Славянская мифология. Словарь-справочник. Сост. Л.М. Вагурина. — М., 1998 С. 65.
23 Дубравка О. Толик. Конец реальности. К проблематике постмодернистской эсхатологии // Russian Literature. L1 (2002). North-Holland. С. 321-329.
истории» Б. Лкунина (2004), «Похороны кузнечика» Н. Кононова (2000), «Голову Гоголя» (2000) и «Быть Босхом» (2004) А. Королева, «Прыжок в гроб» и «Живое кладбище» Ю. Мамлеева (1990-е годы), «Ведьмины слезки» Н. Садур (1996), «Веселые похороны» Л. Улицкой (1997) формирующими современную литературную эсхатологию.
Сторонники таких оценок исходят из характерного для классической философии представления о смерти как о «безусловном органическом конце макросуществования», представления отнюдь не традиционного по сути, переориентированного в танатологии XX века с идеи витальности на идею конечности человеческого существования. А. Демичев утверждает, что при таком подходе неизбежная, но бессмысленная смерть воспринимается как находящееся в конце линейной «биографической траектории» событие, которое можно попытаться передвинуть, т.е. со смертью можно бороться, в чем наши предки язычники также были уверены, только способы этой борьбы теперь стали более разнообразными и реалистичными. Все чаще вслед за Жилсм Делезом, Мишелем Фуко и Мари Биш ученые рассуждают о возможности сосуществования жизни и смерти, о предпочтительности смерти насильственной по отношению к естественной. Результат этих философских штудий один - «смерть проникает на территорию жизни, постепенно становясь предметом широких и далеко идущих фшософско-антропологических, символических, семиологических и других интерпретаций»25. Именно этот результат с большим или меньшим успехом используется в перечисленных текстах, для авторов которых амбивалентность, взаимопроникновение, диффузность жизни и смерти выглядят односторонне: жизнь - умирание - смерть26.
Другая тенденция в исследовании русской литературной эсхатологии, оппозиционная по отношению к частично модернизирующей полидоксию, сформировалась в результате антидогматического усечения христианской эсхатологической идеи до апокалиптической с последующей ее метафоризацией. Литературные факты для обоснования ее обнаруживаются, в первую очередь, в художественном мире Достоевского, герои которого (Свидригайлов, Ставрогин, Кириллов, Смердяков) при жизни стали «носителями страшной метафизики небытия, собственноручно сотворенного и ставшего жизненно реальным ада»27. Не менее убедительное
24 Лихина Н.Е. Эсхатологический дискурс современной литературы II Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Серия «Филологические науки». Вып. 8. Калининград, 2006. С. 68.
25 Демичев А. Тематичность смерти. Дискурсы и концепты II Memento vivere или Помни о смерти. Сб. статей. Под общ. ред. В.Л. Рабиновича и М.С. Уварова. — М., Академия, 2006. С. 73.
Малинович Ю.М., Мишуткина И.И. Парадигма бытия человека в рамках «начало»-«конец» в немецкоязычном сознании: Leben und Tod // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Антропологическая лингвистика. № 7. — Иркутск, 2004. С. 65.
Соина О.С., Сабиров В.Ш. Философская антропология // Читаем Достоевского.— Новосибирск, 2005. С. 254.
исследование «мертвенности, прострации души» как причины для «вселенской тревоги» было предложено в лирике Ф.И. Тютчева.
Эту тенденцию развивает Л. Кацис. Его концепция базируется, как он сам утверждает, на «открыто апокалиптическом иудео-христианстве», выросшем па рубеже веков из «Повести об Антихристе» Владимира Соловьева. В качестве объекта исследования Л. Кацис избирает «Грядущего хама», «Апокалипсис в русской поэзии» А. Белого, «Апокалипсис в русской литературе» А. Крученых, «Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «апокалип тическое мышление русского авангарда в целом и К. Малевича в частности» 28. В такой ряд с определенными оговорками могут быть включены произведения В. Распутина («Прощание с Матерой», 1976), Л. Леонова («Пирамида», 1994), А. Варламова («Лох», 1995; «Купол», 1999) и некоторых других прозаиков двадцатого столетия.
Главное основание для возникновения, существования и развития данного направления - таинственная, мистическая, метафорическая природа самого Апокалипсиса — заключительной, единственной пророческой книги Нового Завета.
Первым собственно славянским толкованием Апокалипсиса'можно считать обширные трактаты Стефана Яворивского и Дмитрия Ростовского, вступивших в начале тринадцатого века в борьбу с распространившимся тогда мнением «мужиков-простолюдинов» «о наступлении последних времен» . Протоиерей А, Мень выделил в понимании Апокалипсиса два направления. Первое из них - реалистическое, сторонники которого воспринимали язык символов буквально и превратили Апокалипсис в явление материальное, «с реальными громами, катастрофами и видимым, вещественным вторжением небесных сил в мир и борьбу с темпы ми силами в виде войны Армагеддон»30. Второе, которое представлял он сам, можно назвать идеалистическим, возвращающим самому слову «апокалипсис» то значение, которое оно имело в греческом языке-языке древних христиан -не «страшная болезнь», не «катастрофа», но «откровение», «обнажение, раскрытие, обнаружение».
Понятно, что первое понимание активно использовалось и используется постмодернистской, массовой литературой и новейшим литературоведением. Второе, основанное на православном толковании Апокалипсиса, учитывающем эсхатологические идеи Псалтыри, Екклизиаста, Послания апостола Петра, сочинения святых отцов Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Анастасия Синайского,
28 Кацис Л. Русская эсхатология и русская литература. Sens STADIES IN RUSSIAN INTELLEKTUAL HISTORI. Edited by M. A. Kolsrov. V. 5. — M„ 2000. C. 14-15, 138.
29 Плюханова МБ. О национальных средствах самоопределения личности// Статьи по истории и типологии русской культуры. - Из истории русской культуры, Т 3 ( XVII-XVIII вв.). — М., 1996. С. 383.
30 Протоиерей Александр Мень. Читая Апокалипсис. Беседы об Откровении святого Иоанна Богослова. — М., Фонд имени Александра Меня. 2005. С. 228.
Иоанна Лестиичника, Григория Нисского, на народной эсхатологии, отчасти трансформировавшей канон, стало предметом рефлексии традиционной прозы второй половины двадцатого века,
Изначально же, бесспорно, эсхатологизм русской литературы питала преимущественно ортодоксальная православная традиция, очерк истории которой представил С.С. Аверинцев в словарной статье из известной пятитомной «Философской энциклопедии» под редакцией Ф.В. Константинова31.
Вслед за С.Н. Трубецким - автором «эсхатологической» статьи в энциклопедии Брокгауза и Эфрона и его последователями П.А. Флоренским и С.И. Фуделем С.С. Аверинцев подчеркивал, что в христианской традиции всегда различали «индивидуальную эсхатологию, т.е. учение о загробной жизни единичной человеческой души, и всемирную эсхатологию, т.е. учение о цели космоса и истории, об исчерпании ими своего смысла, об их конце и о том, что за этим концом последует»32. По Аверинцеву, в православии эсхатологические свершения чаще всего оказывались перемещенными во внутренний мир человека {«Царствие божие внутри нас») и только через доктрину о втором пришествии Христа сохраняли свое значение для внешнего мира. Православная эсхатологическая концепция, утверждавшаяся в сознании славянина исподволь, примерно с IX века, по мнению целого ряда исследователей (Еремина В.И., Лещенко В.Ю. и др.), ядром своим в полном соответствии с новой христианской картиной мира определила лично(частно)-эсхатологическую составляющую, предоставлявшую человеку возможность реализации порыва «к одухотворенному смыслу бытия»33. И связано это отчасти с тем, что уже в дохристианской культуре славян «<...> идея «конца мира» специально никогда не прослеживалась»34, славяне довольно равнодушно относились к общеиндоевропейскому мифу о Последней битве. Их сознание было поглощено рефлексией, связанной с возросшей после болезненного распада патриархального общества ответственностью за собственную судьбу.
Подтверждением этой точки зрения можно считать замечание Д.С. Лихачева о том, что в древнерусской литературе наибольшего писательского внимания заслуживал не конец света, а изображение смерти как наиболее значительного момента в жизни человека (пример - «Повесть о Петре и Февронии»). В русской классической литературе эту традицию наиболее активно развивали Тургенев («Отцы и дети», стихотворения в прозе) и Чехов («Вишневый сад»).
Единственная эпоха, подвергнувшая действительному, серьезному и глубокому сомнеиию это обобщение - эпоха хилиазма. Тогда четко
31 Философская энциклопедия: в 5-ти т. //Т.5.— М., Советская энциклопедия, 1970. С. 580-582.
32 Там же.
33 Непомнящий B.C. Да ведают потомки православных: Пушкин, Россия, мы.— М., 2001. С. 71.
3< Карпов. Указ соч. С. 143.
обозначился переход интереса от индивидуальной эсхатологии к всемирной. А наиболее яркие ее художественные проявления были связаны с началом советской эпохи, потому имели весьма специфический характер.
О том, что примат малой (частной, индивидуальной, личной) эсхатологии над общей сохраняется и в современной православной теологии, убедительно свидетельствуют финальные строчки «Комментария» отца Александра Меня к «Откровению» Иоанна Богослова, в которых он закрепляет победу, одержанную малой эсхатологией в русской культуре еще в тринадцатом веке35.
Глава заканчивается принципиально важным выводом о соотносимое™ комментария теолога не только с классическим литературным дискурсом, но и с народными представлениями, в которых до сих пор сохраняется старославянская тройственная, эволюционная, сопряженная, в первую очередь, с частной эсхатологией трактовка смерти: смерть как перемещение души в иной мир (преставление-перенесение); смерть как достижение человеком его жизненной цели (кончина); смерть как переход в состояние вечного сна (успение-сон).
Во второй главе «ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИОННОГО АПОКАЛИПСИСА» обозначены подходы к теме смерти, спровоцированные революционными событиями. Эти подходы были представлены в трех основных направлениях литературного 1 потока: в модернистском, преимущественно символистском; в классическом, продолжающем реалистическую традицию; и в только зарождающейся, находящейся на стадии становления массовой литературе.
Наивысшую поглощенность переживанием' : грядущих глобальных исторических катаклизмов демонстрировало первое направление, представители которого создали ряд произведений с организующим их художественную идеологию апокалиптическим мотивом. Этот ряд открывался «Эсхатологической мозаикой» (1904) П. Флоренского36, продолжали его сочинения И. Анненского, А. Блока, 3. Гиппиус, Г. Иванова, Д.Мережковского37.
Менее очевидное, но более сложное, глубинное по отношению к культурной традиции «овеществление» эсхатологической концепции предложили прямые наследники классической традиции Девятнадцатого
35 Алексеев А.И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности. -7- СПб, 2002. С. 53.
36 Флоренский П.А. Эсхатологическая мозаика. Подготовка текста и комментарий Е.В. Ивановой, Л.А. Ильюниной, О.С. Никитиной // Контекст. 1991. Литературно-теоретические исследования.— М„ 1991.
37 Аленькина Е.В. Оппозиция «жизнь-смерть» в позднем творчестве А. Блока и ее реализация в поэтических текстах // Язык художественной литературы. Литературный язык. Сборник статей к 80-летию Мары Борисовны Борисовой. —Саратов, 2006. С. 226-232; Кознова H.H. Апокалиптические мотивы в мемуарах 3. Гиппиус и Г. Иванова II Малоизвестные страницы и новые концепции истории русской литературы XX века. Материалы международной научной конференции. Выпуск 3. Часть 1. Литература Русского Зарубежья.— М., 2006. Серафимова В.Д. А. Платонов и философско-эстетические искания русской литературы второй половины XX века. — М.,2006. С. 186-189.
века: М. Горький («Несвоевременные мысли», 1917-1918), И. Вольнов (очерк «Орел» из цикла «Круги жизни», 1915), А. Чапыгин («Дневники. 1919 год»), Е. Чириков («Зверь из бездны», 1926), отчасти В. Набоков (лирика, пьеса «Смерть», 1923)38, И. Шмелев, создавший «космогонию наоборот»39, и И.А. Бунин. Их эсхатологические концепции отличаются ярко выраженным стремлением к политопичпости, позволяющей воспроизвести традиционное для национального сознания совмещение обоих компонентов теологической идеи при сохранении интереса к эсхатологии личной.
Третий вариант отношения к теме смерти демонстрировала с самого начала отличавшаяся довольно жесткой подчиненностью социальным вкусам и предпочтениям так называемая «массовая» литература, представленная в начале прошлого века, прежде всего, авантюрно-детективной прозой. В качестве аргумента приводятся фрагменты публикаций в популярном общественно-литературном журнале «Пробуждение», издаваемом Н.В. Корецким в начале прошлого века. В проанализированных текстах отчетливо проявляется изживание эсхатологической топики, отсутствие писательского внимания к жертве, что можно рассматривать как знак приближающейся гибели эсхатологических переживаний в медийном дискурсе, как первое проявление только зарождающейся танатологичной художественной топики массовой литературы будущего.
Все эти тенденции в эпоху становления советской литературы с усилением партийного давления на литературное дело получили дифференцированное развитие. В стране, только что пережившей исторический Апокалипсис, силы преодоления были направлены главным образом на апокалиптическую ветвь литературной эсхатологии. При этом при создании государственной идеологической доктрины скрыто эксплуатировался опыт православной малой эсхатологии. Эта мысль давно уже перестала восприниматься как парадоксальная, о чем свидетельствуют работы Д. Куюижича об общей теологической подоплеке революционной традиции в России40, убедительная концепция М. Эпштейна,
утверждающая бессознательную религиозность богоборческого авангарда и эдипов комплекс советской цивилизации'11. Менее известно, но от этого не менее значимо исследование Иеромонаха Серафима (Роуза)42, в котором коммунистическая идеология представлена как секулярный вариант идеи хилиазма. Но первым, видимо, эти параллели установил Н. Бердяев в
зв Погребная Я.В. «Плоть поэзии и призрак прозрачной прозы...». Лирика В. Набокова. — Ставрополь, 2005.
39 Осьминина Е. А. Песнь песней смерти (О «Солнце мертвых» И. Шмелева II Известия АН. Серия литературы и языка. Т. 53. № 3. 1994.
40 Петровские реформы и архив будущего II НЛО. 2005. № 1. С. 339.
41 Эпштейн М. Слово и молчание. Метафизика русской литературы.— М., 2006.
Иеромонах Серафим (Роуз). Будущее России и конец мира. Православное миросозерцание. — Рига - Л., 1991.
«Философии неравенства» (в специальной главе, посвященной социализму)43.
В основание обозначенных параллелей до сих пор встраивалась идея принципиального сходства религии и идеологии. Вопрос о существовании различий, приблизиться к пониманию "которых помогает забытая статья В. Вересаева (журнал «Красная Новь», 1926), до сих пор обходился. В этой статье формулируется идеологически важное определение человека, базирующееся на рационалистическом представлении о смерти: «Для нас, в настоящее время живой человек есть лтиь известная комбинация физиологических, химических и физических процессов. Умер человек -данная комбинация распадется, и человек, как таковой, исчезает, превращается в ничто». Далее автор подчеркивает, что при таком отношении к смерти неизбежно последует убивающее человеческую душу «неоформленное» чувство к умершему, которое никак нельзя будет «направить в определенное русло» и использовать для воспитания людей в нужном направлении, как это веками делала православная церковь. «Оформить» необходимое чувство недавний сотрудник Наркомпроса предлагает по образцу древнеэллинской трагедии гимном, заменяющим центральную молитву православной панихиды «Со святыми упокой», и театрализованным представлением.
О том, что эти размышления были востребованы эпохой, наглядно свидетельствует живопись, демонстрирующая утрату человеком революционной эпохи целостного представления о собственной сущности. В качестве примеров можно привести работы Л.А. Бруни («Харчевня веселых мертвецов», 1917), К. Малевича («Женский портрет», 1919), Э. Лисицкого («Победа над солнцем», 1923), П. Филонова («Живая голова», 1926), А.Ф. Пахомова («Жница», 1929) и другие, где были представлены пустые одинаковые оболочки вместо тел, примитивные, рационально
'14
сконструированные маски вместо лиц .
Человек «массы» в жажде обретения себя не без труда усваивал примитивный заменитель православной веры - материалистическое, марксистское миросозерцание. С интеллектуальной элитой дело обстояло еще сложнее. Так слушатель философского факультета Лейпцигского университета М. Пришвин в 1919 году записал в своем дневнике: «<...> Высшая интеллигенция напиталась мистицизмом, прагматизмом, анархизмом, религиозным исканием, тут Бергсон, Нтцие, Джемс, Метерлинк, оккультисты, хлысты, декаденты, романтики <...>»45.
Новая идея, способная преодолеть этот хаос, сомнения, недомыслие, должна была обладать красотой, привлекательностью и силой, чтобы на ее основе могла возникнуть объединяющая всех вера в будущее, отменяющая
43 Бердяев Н. Философия неравенства.— М., 1990. С. 181-183.
44 Языкова И.К. Богословие иконы. Общедоступный Православный университет. 1995. С 13.
45 Пришвин М.М. Дневники,— М., 1990. С. 46.
рефлексию по поводу смысла жизни и смерти. Задача эта на какой-то период, казалось, была решена, что позволило М. Эпштейну, например, иронизировать: «<...> У нас смерть была заводила, запевала: голос звонкий, грудь вперед, гимнастерка в обтяжку, пятки вместе, носки врозь: здравия желаю, товарищ генерал! Прибыла в ваше полное распоряжение! - Очень полезный товарищ, со смекалкой и огоньком - не унывает, не сидит без дела, шныряет но окопам, по землянкам, и ко всему у нее такой интерес, боевой настрой, что никто носу не повесит. Я так скажу: без смерти никакой настоящей жизни не было бы - одно вымирание. Смерть ставит точку. А когда нужно - и восклицательный знак!»'16.
Временный успех литературной пропаганды советской «эсхатологии», в первую очередь, обеспечивали «последовательные и восторженные» пролетарские поэты - «радикально-революционная среда» (С. Семенова): Е. Нечаев («Внуку», 1920), А. Г'астев («Выходи», 1925), М. Герасимов («Минин», 1925), В. Кириллов («Мы», 1917), В. Казин («Всплеск удивленья, трепет вдохновенья...», 1925)47. Наиболее мощным и показательным пропагандистским оружием была поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», в финале которой создается грандиозная символическая картина: за гробом вождя во весь горизонт поднимается
48
коммуна .
Новая литературная «эсхатология» просуществовала совсем недолго в силу противостояния идеологической «проективной модели» и «художественной практики»"'9. Художественная практика разрушительно воздействовала на идеологический проект. «Литературоцентризм» русской культуры оказался серьезным оружием сопротивления.
Знаком окончательного провала устаревшей к середине 1930-х годов политической доктрины стал роман сына профессора Киевской духовной академии М.А. Булгакова, который «экзаменует» уже идеологически обескровленную «эру лицетворения» (С.Н. Булгаков), создает «советскую Библию» (А. Смелянский) - новое духовное чтение взамен утраченного.
Пафос диалога со временем, в который вступил М.А. Булгаков вопреки истовой генеральной устремленности общества в прекрасное будущее, определял именно эсхатологический мотив, центральное, ведущее положение которого обозначилось в тот самый момент, когда массовый герой нарождающейся эпохи с огромным энтузиазмом после только что завершившегося мощнейшего революционного энергетического выброса
,в Эпштейн М. Великая Совь,— Самара, 2006. С.55.
" Ежов И С., Шамшурин Е.И. Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней. Вв. ст. В. Полянского.— М., 1925. С.403-558.
4 Мильдон В. Тринадцатая категория рассудка. (Из наблюдений над образами смерти а русской литературе 20-30-х годов XX века) II Вопросы литературы. 1995. №3. С. 130. "9 Никонова Т.А. «Новый человек» в русской литературе 1900-1930-х годов. Проективная модель и художественная практика — Воронеж, 2003.
должен был сосредоточить все свои устремления на фядущей идиллии («Л/ы наш, мы новый мир построим...»).
Па страницах «Мастера и Маргариты» достаточное количество подтверждений тому, что индивидуальный страх смерти не был преодолен социалистической идеей. Главные из них - множественность, инвариантность воплощения мотива смерти и расширение его через введение сложнейшего топоса «бессмертие».
Множественность эта воплощается в разнообразии событийной реализации мотива, в его сюжетной полифункциональности: завязкой романа становится смерть как возмездие (гибель Берлиоза); кульминацией -бал мертвых, устроенный Воландом; развйзка - уход в надмирное пространство центральных персонажей. Булгаков создает мощное ассоциативное поле вокруг центрального для частно-эсхатологического дискурса события (см. названия глав «Казнь», «Погребение», «Конец квартиры № 50», «Прощение и вечный приют»). Ассоциации эти множатся на протяжении всего романа (детали описания первой встречи мастера и Маргариты, интерьер психиатрической клиники, описание последнего пристанища главных героев).
Глобализация мотива осуществляется через введение сложнейшего, теософского по сути топоса «бессмертие», принципиально отличавшегося от господствующего в 20-е годы идеологического аналога, провоцирующего восприятие смерти в героическом, жертвенном аспекте. На бытие после смерти в романе претендуют прежде всего всемогущие силы зла - свита Воланда, у которого нет абсолютной власти над временем и пространством. Нет ему доступа в область предвечного. Его хронотоп - падмирная область неба и время луны. Гораздо больше оснований для такого рода претензий у мастера и Маргариты. Но мастер стремится к покою - состоянию безжизненности: его взгляд постоянно притягивают лес и река, которые в славянской мифологии сближаются с пространством инобытия. Маргарита же выполняет все требования похоронного обряда уже во время сборов на бал к са гане.
Неоспариваемое право на бессмертие в; романе получают только Пушкин и Достоевский. Тайна их бессмертия оказывается зашифрованной в главном афоризме романа, который, с опорой на изыскания Б. Соколова, может прочитываться как утверждение о том, что не исчезает бесследно, не растворяется в темноте только тот, кто сохраняет душу.
Получивший в романе эсхатологическое звучание мотив смерти явился знаком возвращения русской культуры к вековой национальной культурной традиции, кульминацией которого станет уникальная не только для отечественной, но и для мировой культуры русская «деревенская проза», представившая поливариаптное текстовое овеществление эсхатологического дискурса в его народном изводе.
Третья глава «ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТОПИКА «ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ» состоит из шести разделов. Вступительный посвящен «деревенской прозе» - ядру русской традиционной литературы второй половины XX века. «Деревенская проза» рассматривается как литературное событие, уникальность которого заключается в художественной феноменальности - в неподчиненности поэтическим предпочтениям литературного контекста, в особом ощущении жизни, мира, его нравственных координат, в особой концепции человека. Не менее важное проявление уникальности «деревенской прозы» - единственный в своем роде вариант воплощения сформировавшегося под влиянием «малой» эсхатологии народного отношения к смерти, гуманистического пафоса православной эсхатологической концепции.
В этом же разделе подчеркивается, что при использовании ставшего привычным термина «деревенская проза» сознательно не сделано никаких специальных оговорок о достоинствах или недостатках его, поскольку наличие оценочное™ в семантике терминологического словосочетания исключается.
Во втором разделе («Смерть праведницы в рассказе А. Солженицына «Матренин двор») как художественная адаптация эсхатологического «топоса праведничества» анализируется центральный, впоследствии ставший «заглавным» для всей «деревенской прозы» топос рассказа А.И. Солженицына. Образ праведницы ведет свою литературную генеалогию от Лескова. Во второй половине двадцатого века получил вариативное воплощение в текстах 10. Казакова (девяностолетняя «поморка» из одноименного рассказа), Ф. Абрамова (Махонька из «Чистой книги»), Б. Можасва (Федор Кузькин из повести «Живой»), В. Распутина (Иван Пе трович - герой повести «Пожар»).
В начальной редакции рассказа непривычная для конца 1950-х годов православно-христианская концептуализированность центрального характера декларировалась уже в названии («Не стоит село без праведника»). Общеизвестно, что авторское название до журнальной публикации было снято по совету А.Т. Твардовского. Отказавшись от первого варианта названия - уступив в сильной позиции начала, писатель отстоял финальные строчки - публицистический монолог повествователя, в котором сохранилась оценка главной героини - праведница. Формально в сильных позициях текста была отчетливо выражена отсылка к православной традиции. По сути, к синтетичному народному представлению о праведпичсстпе, которое будет дополнительно трансформировано в тексте уже с учетом коррекции художественной символики праведничества, осуществленной светской культурой Х1Х-ХХ веков (поэтика имени, портрет героини, топос пространства, речевая характеристика, языческие символы судьбы).
В финале рассказа героиня Солженицына погибает. Для писателя принципиально важно отношение окружающих к смерти Матрены. Только в первые часы после ее гибели и, пожалуй, только повествователем, приезжим учителем математики, эта смерть воспринимается как жесточайшая трагедия, как последняя земная несправедливость. Пришедшие проститься с великой труженицей и «терпежницей» незнакомые и малознакомые Игпатьичу люди кажутся ему отталкивающе жесткосердными участниками публичного зрелища, ничтожными соискателями жалкого наследства. Подобающим образом, с его точки зрения, реагируют только приемная дочь Кира и вторая Матрена - нелюбимая жена Фаддея. Стороннему наблюдателю не понять, что Кира страдает от'осознания собственной причастности к гибели приемной матери. «Вторая Матрена» оплакивает свое одиночество, наступившее с уходом подруги-родствепницы, единственной сострадающей слушательницы печальной истории натруженной души. Игнатьич мучительно бьется над смыслом происходящего. На помощь приходит древняя старуха. Умудренная жизненным опытом, впитавшая вековые народные представления о сущности бытия старая женщина воспринимает смерть так, как воспринимали древние славяне, не видевшие в этом событии отрицания жизни. Ее отношение поддерживается деревенскими женщинами, пришедшими подготовить Матрену к погребению. Все они уверены, что свершившееся обладает высшей целесообразностью.
В выводах к разделу подчеркивается, что от повествователя основы гармонии земного бытия главной героини сокрыты, ее жизнь не поддается рациональному объяснению учителя математики. С чужим миром Игпатьича примиряет только уникальная готовность к постижению духовного опыта Матрены, готовность, основанная на желании адекватного «прочтения» эсхатологических событий.
Нацеленность на поиск истоков уходящего ощущения эпической устойчивости русской души, организующая художественное пространство рассказа А.И. Солженицына, будет органично воспринята Е. И. Носовым. Конфликту хронотопов жизни и смерти в повести Носова «Усвятские шлемопосцы», национальному ((пространству жизни», образ которого создан в этом произведении, посвящен третий раздел главы («Пространство жизни в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемопосцы»).
Первые же страницы повествования, на которых описывается лето, как «взошла туча над полем» (апокалиптический символ), началась война -«разор» и «поруха прежнего лада», через пейзаж, через описания общего крестьянского труда передают ощущение вечной естественной жизни идеальной «Касьяновой вселенной» (по имени главного героя). Жизнь, этой в особом ритме существующей крестьянской Атлантиды по-бунински насыщена цветом, запахами, удивительными звуками, обладает
архетипической многоцветной, многозвучной пластикой. В восприятии пейзажа героем Носова демонстрируется традиционно русское, нравственное, ценностно-символическое, связанное с национальным «пространствопонимание» (термин Ф. Разумовского) - способность мыслить взаимопроникающими, неделимыми категориями пространства и времени. Касьян, однажды покидавший зримые отеческие пределы, имеет свое представление о продолжении обжитого пространства за привычной чертой - где-то за лесом находится далекий, неведомый город Ливны, потом Москва, за ней - Козлов-город, еще далее Муром, а там и Куликово поле... Перечисление включает, с одной стороны, географическую, линейную, одномерную пространственную, с другой - историческую перспективу. В результате «белый свет» в «Усвятских шлемоносцах», кроме привычных трех, предметно воспринимаемых, обретает четвертое измерение -временное, присоединяющее к реальному еще и пространство былинное. Это особенность традиционного представления о времени, замеченная еще Ф.И. Буслаевым, утверждавшим, что в Ипатьевской и Новгородской летописях иногда одна и та же мера принималась для обозначения времени и пространства. Для Касьяна, его односельчан и в двадцатом веке речка Осто.мля течет не из дальних далей, а из «дальних веков», запредельных не для воображения, а для памяти. И пересекает она не поля и покосы, а «жизнь каждого усвятца».
Носов подчеркивает, что Касьян, сколько себя помнил, без труда и видимых усилий довольствовался необходимыми и досягаемыми отеческими земными пределами, распадавшимися для него, несмотря на сущностное единство, на несколько кругов, очертания которых совмещались по принципу «матрешки». Центр «вселенной» - прочно приковывающий героя к жизни родной дом, в котором его сердечные привязанности - жена Иатаха, сыновья и старуха-мать. За домом - «столешная гладь лугов», «утешная речка», дюжина деревенек с Усвятами в центре, а дальше -«необжитая сторона» с «потаенными старицами» и «диким чернолесьем».
Очевидно, что изображаемое пространство лишено географической определенности, наделено былинными деталями: калина, дикая смородина да глухое чернолесье. И вся «былинная благодать» разместилась под ссныо «свечечки колоколенки» да старой мельнички на вековом могильном кургане. Так первый, земной круг «Касьяновой вселенной» осеняется символами веры и хлеба (хлеба насущного и гшщи духовной), которые в последний раз возникнут в финале тающими на глазах покидающих У святы шлемоносцев зримыми приметами родных пределов, отчего мира.
Вслед за знаками основного круга - уровня земли в повествовании возникает символ пространства небесного - солнце, несущее свет стороне, в которой царили «покой <...> и извечная благодать». Смысл этого образа-символа не менее традиционен. Он также базируется на мифологических
предпочтениях русского человека, обусловленных способностью солнца поддерживать жизнь.
Далее Носов пристально следит за тем, как поэтапно, шаг за шагом входит в сознание ею героя война: через приметы разрушающегося «мира», через ощущение украденного, урезанного, усеченного времени. За подменой привычных звуков, наполнявших довоенный «мир», к Касьяну приходит болезненное чувство, что его вселенную покидает свет. Трагизм ощущений героя достигает кульминации именно тогда, когда ему начинает казаться, что война сильнее солнца и земли, которым крестьяне привыкли доверять безгранично. Свет уходит с исчезновением крыши над домом и неба над головой, когда тает световая граница мира, разрушается защитный купол. Следом человек перестает чувствовать власть земли над собой - любая работа теряет смысл и охранительную для души функцию. Доминирующим символом нового состояния «Касьяновой вселенной» становится крест.
Вот на этом сложнейшем процессе разрушения мира в душе человеческой и сосредотачивается внимание повествователя. Повествователь убежден, что остановить надвигающийся Апокалипсис можно только с опорой на «мирные», унаследованные от «нецивилизованных» предков истины и установки, позволяющие сохранить, отстоять лад в доме, в деревне. Суть этих установок - абсолютная их подчиненность идее жизни, форматирующейся под влиянием архитепических представлений усвятцев о времени и пространстве. Конфликтная эволюция этих представлений превратилась в основное художественное средство воплощения центральной идеи произведения, связанной с поиском оснований для преодоления эсхатологических ожиданий.
Четвертый раздел главы называется «Бытийные мотивы в творчестве В.П. Астафьева». Начинается раздел с анализа астафьевского варианта топоса «праведничества» - образа «лучшего человека» в «повествовании в рассказах» «Царь-рыба». Но ключевые фрагменты раздела, позволяющие, на наш взгляд, приблизиться к постижению творческой индивидуальности писателя, определить центральную точку приложения художественных усилий всей «деревенской прозы», посвящены эволюции мотива смерти в двух вариан тах «сокровенной» повести «Пастух и пастушка» и символическому образу «тихого света» в последнем художественном произведении писателя - в «попытке исповеди».
Рожденный из светлых «мук, которые происходили в душе»''0, наиболее известный астафьевский топос «лучшего человека» впервые становится организатором художественного пространства в «повествовании в рассказах» «Царь-рыба». В философском по природе жанре Астафьев рассказывает о людях, претендующих на автономную по отношению к
50 Астафьев В. Память сердца // Литературная газета. 1978. 15 ноября. С. 7.
общепринятым нормам жизненную философию. От разнообразия и формальной разобщенности центральных героев основных частей повествования сначала возникает впечатление, что действует внутри текста неведомая центробежная сила, разбрасывающая все и всех в художественном пространстве, создающая иллюзию огромной жизненной пестроты, изолированной многочисленности рассказов об отдельных человеческих судьбах. Но первое впечатление почти немедленно растворяется под влиянием еще более жгучего ощущения недопустимости самостоятельного, единичного существования отдельных фрагментов новой жанровой конструкции. Эта конструкция цементируется собственно асгафьевской концепцией человека, в которой проверяется однозначность базовой для русского самосознания характеристики идеального персонажа как доброта, концепцией, мотивирующей разрушение типологического для традиционной прозы топоса «лучшего человека», единственным воплощением которого в финале «Царь-рыбы» остается автор-повествователь.
В повести «Пастух и пастушка» этот топос получает более сложное литературное воплощение. В произведении, которое писатель называл «любимым детищем», представлено эсхатологически-глобальное видение трагического процесса гибели, уничтожения «лучшего человека». Творческая история повести отражает нечто большее, чем просто этапы совершенствования стилевого облика текста, даже не эволюцию замысла, суть которой сам Астафьев в комментариях к собранию сочинений формулировал четко и просто: удалить «бытовую упрощенность, - от индивидуально-явных судеб и мыслей» уйти «все далее и далее к общечеловеческим».
При сопоставлении наиболее значительных фрагментов первого «книжною» («молодогвардейского») варианта 1971 года и окончательной редакции 1997 действительно можно придти к выводу, что Астафьев во имя реализации хорошо осознанной, абсолютно конкретной цели решил несколько задач.
Расширил проблемно-тематическое содержание произведения. Для этого во всех подробностях представил тему мародерства, ввел описание фактов и событий, отражающих работу фронтовых спецслужб и штабных подразделений. В новых, дополнительных публицистических отступлениях, в которых голос и позиция повествователя чаще всего сливались с голосом и позицией наивного философа, рядового бойца Ланцова, писатель декларировал свое отношение к изображаемым событиям, открыто пытался управлять читательским восприятием, в конечном итоге, упрощая художественную философию, уводил от объективно существующей тайны художественного целого.
При доработке характеров персонажей только для антипода центрального героя - для бывалого старшины Мохнакова Астафьев
выбирает ожидаемый в реалистической прозе вектор развития - углубление психологизма: в окончательной редакции этот образ «теплее», биография детализирована, причина гибели опредмечсиа - сифилис. Пусть редко, но не только перед смертью, как в первой редакции, приходят к этому персонажу воспоминания о семье, смиряются его жестокость и высокомерие в о тношении к юному и романтически настроенному командиру,
С основными героями Астафьев обошелся по-иному. Так «в первых вариантах <...> Люся, имела точную биографию, - комментирует сам писатель, - даже мужа имела и любовника, немецкого генерала, - все имела и была совершенно упрощена, бесплотна, неинтересна...ж В последней редакции конкретные детали трагической женской истории исчезают, нарастает обобщенность судьбы. Неоднозначнее становится первоначально концептуально-определенный образ центрального героя, развивавшийся от заложенного в имени «Борис» намека на благочестие, на способность к чистой христианской любви. Это очевидные изменения, но не ключевые.
Главное - перефокусировка сюжета, изменение акцентов в его мотивной структуре, которое возникло в результате разнонаправленных, разномасштабных перемен, затрагивающих многие уровни сюжетостроения, совмещенных с архитектоническими, фабульными коррективами. В первой редакции ведущим повествовательным мотивом в полном соответствии с жанровым определением был любовный, который усиливался вставными сюжетами, кольцевой композицией, частичным слиянием с мотивом противостояния жизни и смерти, завершавшимся в классическом, тургеневском ключе, в духе финального кладбищенского пейзажа из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», символически утверждавшим неодолимую силу любви.
В последней редакции в батальных картинах, в любовной истории, во вставном сюжете о пастухе и пастушке, в кольцевом пейзаже, обрамляющем событийное повествование, появляются иные акцепты. Композицию, структуру, стилистику, образную систему теперь «держит» мотив смерти через явное доминирование художественного концепта «смерть», получившего «тройственное» воплощение и связанного с двумя персонификациями смерти, принципиально отличающимися от фольклорной масштабностью, всесильностью, способностью к всемерному поглощению пространства жизни. Три возможных отношения к смерти на войне (смерть-наказание, смерть-избавление, смерть как проявление военной обыденности) стягиваются, объединяются и словно отменяют образ «костлявой и безобразной старухи с косой»51. Долгий и сложный процесс отмены завершается в сцене физической смерти персонажа, которую Астафьев переписывал много раз. Самой серьезный, содержательный, на наш взгляд, результат переработки - исчезновение из текста значительного
51 Толстая С М. Смерть // Славянская мифология. Энциклопедический словарь.— М., 1995. С. 360.
пейзажного фрагмента. В результате этого исчезновения, если в первой редакции Борис уходит при свете солнца, прощается с миром, наполненным животворящим светом, то во второй - при грозовых всполохах, вечером, на фоне апокалиптического пейзажа. Кроме того, в повествовании возникают детали, которые вызывают отдаленные ассоциации с мученической кончиной и искупительной жертвой Иисуса Христа, исчезают детали, эти ассоциации отменяющие.
В редакции 1989 года Астафьев пытается задержать, остановить своего героя: отчетливо удваивает сюжетные ходы, с помощью выздоравливающего госпитального соседа указывает на природные источники жизни; напоминает о матери и о любимой. Но, впадая в ярость, страдая от обид и несправедливости, герой не принимает выстанывания ожившего фронтовика «На пашню!». Описание его погребения завершается жестом пьяного станционного сторожа, который «спьяну, спутав ноги с головой, вбил топором свое изделие (некое подобие надгробного памятника-пирамидки) в глиняные комки в головах покойного», бездумно закрыв его лицо от солнца, лишив возможности посмертной молитвы. Эти последние трагические жесты в соотнесенности с содержанием последнего сна заставляют воспринимать свершившееся как очистительную жертву, позволяющую надеяться на преодоление Апокалипсиса.
В эсхатологической концепции Апокалипсис после очистительной бури предполагает акт творения. В заключительной двадцать первой главе «Апокалипсиса» есть такие слова: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, а моря уже нет»51. У Астафьева в кольцевом сюжете в сознании героини, как в космогоническом мифе, бескрайнее степное пространство, которому теперь принадлежит ее любимый, покрывается водой. Эта финальная картина напоминает о возможности последней фазы Апокалипсиса, после которой предоставляется человеку и человечеству возможность возрождения, воскресения. Для автора «Пастуха и пастушки» эта возможность зависит не от Бога, ее дает женщина-земля, «старчески потрескавшаяся», покрытая проволочником, татарником, полыныо, чернобылом. В последней редакции в перечислительных рядах в логически сильной постпозиции непременно оказывается из всех трав, затягивающих усталую, измученную землю, полынь - трава одиночества, запустения, покрывающая заброшенные пашни, трава забвения, скрывающая не только доброе, но и злое. Кроме того, в пейзаже появляется наплывающий из-за солончаков пусть «мертвенный и льдистый», но все же «свет». Тело героя покоится «е безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны». Заключительный этот образ может восприниматься как аллюзия из
52 Откровение Снятого Иоанна Ногослола. Глава двадцать первая. — Житомир, 2006. С. 197.
последней сказки-были А. Платонова «Неизвестный цветок», которая поддерживается, усиливается эпиграфом к вступлению - четверостишием из стихотворения Т. Гогье «Тайные слияния» (1852), имеющего подзаголовок «пантеис тический мадригал». В произведении французского романтика есть такая строчка - «Из праха взмоет красота». У А. Платонова из праха и пыли, из смертных останков, перерабатывая смерть в жизнь, сквозь камни прорвется к свету прекрасный цветок. Не Бог, а природа побеждает смерть. У Астафьева - только предощущение возможности этого прорыва. Сам писатель объяснял заключительную пантеистическую символику кольцевого сюжета сомнениями в силе православия, уже отвергнутого человеком и человечеством. По-видимому, в момент завершения работы над «Пастухом и пастушкой» он осознает только одну веру - веру в силу божественно мудрой, совершенной, гармоничной и непобедимой природы и надежды на продолжение жизни связывает с женщиной, сохранившей способность восприятия древней, материнской силы земли. Если принять это предположение, то вся сделанная в течение десятилетий правка, приведшая к усилению мотива смерти, будет восприниматься как системная, направленная на реализацию единой, абсолютно четко выраженной авторской идеи, утверждающей победу смерти, и на поиск средств преодоления эсхатологически-трагической предопределенности будущего «лучшего человека» и человечества.
Заключительный этап этого поиска в современном литературоведении оценивается как самый противоречивый. Завершен этот этап словно в преднамеренное усложнение ситуации по-астафьевски же мощно и своевольно «попыткой исповеди» - «Из тихого света». В архиве писателя, переданном М.С. Корякиной в Рукописный отдел ИР Л И РАН (Пушкинский Дом), имеется единственный автограф этого произведения, на котором обозначена дата, не совпадающая ни с одной из указанных в собрании сочинений - «Академгородок, 23-24 ноября 84 г.». Дата эта имеет отношение только к машинописному тексту, хранящем следы двухэтаиной рукописной правки, фактически представляющей еще два варианта, наложенные на машинопись.
При сопоставлении вариантов становится ясно: каноническая редакция текста впитала и аккумулировала энергию семичастного цикла «Затесей», объединившего более двухсот текстов, и стала последним, глубоко выстраданным словом писателя, в котором был предъявлен еще один базовый для художественной философии Астафьева топос - «топос света». Появление нри публикации названия «Из тихого света» можно рассматривать как окончательное осознание повествователем сверхзадачи, полностью соответствующей избранному жанру и назначению этого текста как венчающего цикл «Затесей» - обретение утраченной за долгую и многотрудную земную жизнь душевной гармонии, возвращение к «свету», единственному необходимому источнику всеобщей древней жизни.
Богатство и разнообразие «оязыковления» данного топоса в последнем художественном произведении Астафьева обнаруживает все необходимые литературно-культурные предпосылки для причисления этого образа к эонотоносам (термин O.A. Сергеевой). Истоки его - в выводящих свет в семантическое поле благодати образах церковного гимна «Свете Тихий (Пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний...)»53, в апокалиптическом топосе «свет незримый» - «свет человеков», о существовании которого возвестил 1800 лет назад Иоанн Богослов. Публикация «попытки исповеди» как текста, завершающего блок художественных сочинений писателя, свидетельствует о том, что Астафьев на финальном этапе творческой эволюции ступил на путь обретения благодати, почувствовал надобность, необходимость его, только времени на ощущение Благодати писателю в этом мире не было отпущено.
Пятый раздел третьей главы посвящен «личной эсхатологии шукшинских «чудиков». Главное в этом разделе - идея метатипичпости шукшинского эсхатологического дискурса. Для доказательства этой идеи использована обратная историко-литературная перспектива: анализ эсхатологической прозы Шукшина начинается с последней, незавершенной повести «А поутру они проснулись» (1974), в которой Шукшин предсказал сегодняшнюю остановку на избранной когда-то давно траектории то ли движения, то ли падения человека. Он одним из первых ощутил наступление настоящего, подлинного «светопреставления», «конца света», связав новый Апокалипсис в полном соответствии с вековой православной традицией с утратой эсхатологичности индивидуального сознания. С утратой, которая без войн и исторических катаклизмов погасила сиявшее над головой человека солнце, отменила ощущение природной и мировой гармонии, радость жизни.
Персонажи последней повести Шукшина просыпаются в медвытрезвителе от отчаянного, «истеричного» крика «человека довольно интеллигентного вида»: «Где я?!», «Где мы?». В ответ звучит меланхоличное «На том свете», минутой позже смягченное значительным пояснением: «Не на тол1 свете, а в морге пока. У меня вон номерок на ноге... вот он - болтается, чую». Пока живы, но номерок уже па ноге54. Так в последний раз возобновляется центральный, сквозной шукшинский мотив - мотив смерти, организующий художественное пространство многих рассказов и нескольких киносценариев («Охота жить» - 1966, «Волки» -1966, «Как помирал старик» - 1967, «Думы» - 1967, «Земляки» - 1968, «Сураз» - 1969, «Осенью» - 1972, «Калина красная» - 1973, «Я пришел дать вам волю» - 1974 и др.), в которых смерть - сюжетообразующее событие.
53 Сергеева O.A. Обратная перспектива образа «тихого света» (на материале русской поэзии XIX века) // Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений. Вып. 1. — СПб, 2006. С. 55-64.
54 Шукшин В.М. А поутру они проснулись...// Собр. соч.: в 5-ти т. Серия «Литературное наследие» - Т. 2. Рассказы. Повести для театра. — М., 1996. С. 544.
Но эсхатологическое звучание темы смерти в творчестве Шукшина связано отнюдь не с мотивом «светопреставления», а с «топосом света», который практически всегда включается в структуру пейзажа, сопровождающего соответствующие эсхатологическому дискурсу события. Свет у Шукшина имеет минимальное количество источников: солнце и луну. И в отличие от Астафьева и Носова, солнце в его крохотных по объему пейзажах - и реальный источник света, тепла, необходимых для продолжения физического существования, и символ, множественно сопряженный с жизнью человека. «Апокалиптический» тип сопряжения у Шукшина центральный: «отвращение от солнца» - верный знак «потемнения» человеческих инстинктов (М.В. Лодыженский, 1915). Хотя, с одной стороны, появление солнца и заход его соотнесены с хозяйственной деятельностью, как это исторически сложилось в реальном крестьянском мире: большинство шукшинских героев живет и трудится по «солнечным» часам. С другой, по Шукшину, жизнь, исполненная высокого смысла должна быть окрашена в солнечные цвета и оттенки, в момент ощущения наивысшей гармонии напоена светом («Мастер», 1969). В-третьих, образ солнца является неотменимым при демонстрации не менее реального, хотя и принадлежащего духовной, мировоззренческой сфере, параллелизма основных этапов человеческой жизни с природными циклами, ведь в жизни каждого человека неизбежно наступает момент, единый для природы и человека и единственный для земного срока, отмеренного последнему, когда далеко, за лесом, медленно и навсегда опускается в синие дымы огромный красный шар.
Характерная только для Шукшина прямая соотнесенность природных циклов и двупланового (материального, физического и идеального, духовного) течения человеческой жизни давала его героям возможность воспринимать движение времени как процесс естественный, исполненный высочайшей целесообразности, которой отличается и завершение жизни: уходит солнце в конце светлого дня за горизонт, но его уход не разрушает ощущения гармонии земного существования - хорошо на земле, задумчиво, покойно («Думы» - 1967, «Упорный» - 1972). Потому смерть и не страшит, не заставляет суетиться, мельтешить. Правда, для предсмертного спокойствия необходимы еще эсхатологически значимые ощущение, убежденность в том, что жизнь прожита достойно. В силу именно этой необходимости смерть, как правило, торопит шукшинского героя с принятием каких-то больших или малых, серьезных или не очень, но обязательных для достойного окончания жизненного цикла решений, высвечивает смысл завершающегося жизненного пути.
Кажется, все просто и обыкновенно. Уникальность шукшинского эсхатологического дискурса в открытом, декларируемом признании существования непостигаемой для современного человека тайны этой кажущейся простоты («Дядя Ермолай», 1971), в установке на исследование
истоков и причин цельности национального мира и характера, причем, в трагический момент окончательной утраты ощущения гармонии земного бытия, решительного наступления «нового века» - века рационализма, изобретшего и принявшего как официальную веру общественную философию потребления, только брезжившую в яростных монологах жизнелюбивого попа и беглого варнака (рассказы «Верую» (1970) и «Охота жить»).
Последний раздел этой главы посвящен «дискурсу смерти в прозе В. Распутина». В этом разделе анализируется повесть «Последний срок» (1970) и обойденный литературной критикой рассказ «Видение» (1997), в которых воплощением эсхатологической топики становится сложнейший мотив смерти.
Во вступительной части подчеркивается, что Распутин исследовал разные варианты выражения мотива смерти. В повести «Живи и помни» (1974) смерть осмысливается как избавление от лжи и бессмысленного существования. В повести «Пожар» (1985), как мы уже отмечали, этот мотив оказывается связанным с топосом «праведничества». В «Прощании с Матерой» (1976) мотив смерти звучит как апокалиптический. В рассказе «В ту же землю» (1995) фиксируется языческое отношение к уходу человека, обусловленное историческими причинами. Только в двух текстах, «окормляющих» прозу писателя, несмотря на естественную и необходимую художественную.трансформацию, представлена православная эсхатология.
, , В повести «Последний срок» В. Распутин модернизирует православно-эсхатологическую логику в соответствии с народными представлениями, наделяет героиню твердой уверенностью в том, что каждого человека Бог награждает, «своей» смертью (фольклорное словосочетание «смертынька, смертушка моя» является наиболее частотным). Знаменитая распутинская старуха Анна знает, что «неправда, что на всех людей одна смерть — костлявая, как скелет, злая старуха с косой за плечами». Она уверена, что «это кто-то придуман, чтобы пугать ребятишек да дураков. Старуха верила, что у каждого человека своя собственная смерть, созданная по его образу и подобию, точь-в-точь похожая на него. Смерть как жизнь, смерть-подружка, «матушка-смертынька», много потрудившаяся, помучившаяся, а вот теперь легкая и пугливая, заслуживающая уважения и терпеливо ожидающая нужного момента. Задача старухи в момент ухода только не помешать «своей» смерти, не спугнуть ее, установить с ней верные отношения, потому что она твердо верит: «своя», «легкая» смерть дается человеку, чтобы он смог подготовиться: вспомнить о прошлом, снять грехи с души, покаяться, проститься с ближними - подготовиться к будущему, к иной жизни, а не к продолжению той же в холодном, темном царстве мертвых, как считали славяне-язычники.
Особо отмечается, что созданный Распутиным на основе доэсхатологических представлений образ используется им для изображения
ухода человека как сложнейшего процесса установления «контакта с собственной глубиной» (выражение Г. Померанца)55. И отчасти поэтому, как только завершается жизненный путь старухи Анны, писатель отказывается от любых комментариев и суждений. Финал повести аскетично прост: «Ночью старуха умерла».
В «Видении», словно пытаясь преодолеть недостаточность, аскетичпость эсхатологического дискурса «Последнего срока», Распутин заглядывает за запретную черту. По зову странного звона нарушив вековое табу, оказавшись на границе двух миров, писатель ставит завершающую точку в эсхатологии традиционалистов.
Сверхзадача рассказа - постижение непрерывности жизни и приближение к ее «единому смыслу». Сфера происходящего -представления, сознание и подсознание героя, или, как говорит повествователь, «второе представление» — «представление в представлении», оживляющееся тогда, когда герой отправляется на границу миров.
Перед читателем личность, которая пытается обнаружить «единый смысл жизни» не во внешней, логически выверенной и прагматически оправданной, неудивительной устремленности к материальному процветанию или общественному лидерству и не в усвоении приложимых к достойной ситуации религиозных ценностей, постулатов православной веры. Герой этого рассказа решает стоящую перед ним задачу метафизически - в стремлении к гармонии собственного существования, исключающей антитезы «я» и «мы» (потому и нет необходимости в присутствии рядом с ним даже самих близких людей), «я» и «мир» (потому нет четких, реальных границ или характеристик пространства, в котором герой к моменту начала повествования находится). Оставляя две традиционные для классической прозы сюжетные линии, Распутин развивает одну, новую - «я» и «я», но развивает с обновлением ее составляющих: его интересуют «я» сегодняшний и будущий, внешний и внутренний, в реальном измерении и метафизическом.
Новый герой Распутина на пути к обретению внутренней гармонии, укрепления души, на том пути, к поиску которого писатель приступил еще в годы работы над рассказом «Что передать вороне» (1981), где появился под влиянием пятилетней дочки задумавшийся о существовании «запределья» персонаж, почувствовавший ненужность «принятых в жизни правил», ощутивший стремление к делам, с которыми «соглашается душа», пожелавший однажды оказаться «на месте, в себе»ьь. Этот новый герой способен признать сверхчувственные основы бытия, полное и абсолютное совершенство обоих миров, принимает запрет на пересечение границы
55 Померанц Г. Опыт Майкельсона \\ Новый мир. 2005. № 4. С. 149.
56 Распутан В.Г. Собр. сом,: в 3-х т. //Т.1. Что передать вороне — М., 1994. С. 381, 382, 384, 387.
иноприродности. Перед ним в финале «Видения» возникает достаточно однозначный символ открывшейся человеку возможности постижения благодатной.сущности всего земного.
В заключительной части главы подчеркивается, что финал этого рассказа позволяет воспринимать его как наиболее яркое и подлинное в традиционной прозе начала двадцать первого века воплощение национального, народного эсхатологического канона, при литературной трансляции которого автор-повествователь восстанавливает столь необходимое и почти утраченное современным человеком чувство связанности со всем Сущим, «возвращающимся» сознанием постигает гибкость Сущего, вступает в процесс самопознания как открывающий возможность возвращения духовного самостояния человека, с которым теперь, при уже состоявшемся распаде человеческой общности (предмет исследования раннего Распутина), только и можно связывать надежды на будущее,.
Заключительная четвертая глава называется «РАЗРУШЕНИЕ ЭСХАТОЛОГИИ», состоит из трех разделов. Ключевым является первый раздел, посвященный «экзистенциальным мотивам в повести 10. Трифонова «Обмен» (1968). Эта повесть стала наиболее ярким и значительным свидетельством актуализации основ танатологической архаики, которые не исчезли бесследно в эпоху христианства, не растворились в новом миропонимании, периодически популяризировались то в эпоху Просвещения (А.Н. Радищев, трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», 1792), то во второй половине девятнадцатого века (лирика А. Фета). В русской прозе второй половины двадцатого века варианты такой актуализации предложили «логики», развивающие идеи рационалиста Радищева; «социологи», оправдывающие преждевременный уход людей, обреченных по тем или иным жизненным обстоятельствам на гибель и не имеющих возможности вдуматься в смерть как явление, осознать чужую смерть как трагическое событие; «психологи», стремящиеся табуировать страх перед смертью, часто провоцирующие спокойное до неприемлемо циничного, кощунственного отношение к ней. Увлечение одним из перечисленных аспектов время от времени становилось определяющим для художественной философии вновь возникающих литературных направлений и школ, обусловливало модернизацию литературной эсхатологии. Свой вариант модернизации предложила «городская проза». В произведениях А. Афанасьева (сборник рассказов «В городе, в 70-х годах», 1974), А. Битова («Инфантъев», 1965), И. Велембовской («Сладкая женщина», 1973), Ю. Казакова (рассказ «Свечечка», 1973), А. Кима («Нефритовый пояс», 1981, «Белка», 1984), Р. Кирсева («Победитель», 1979), В. Маканина («Предтеча», 1984), создавалось художественное пространство, в котором эсхатологическое трансформировалось в экзистенциальное.
В литературном процессе этого времени особое место занимает Ю.В. Трифонов. Литературная критика, используя эффективный прием умолчания, настаивала на внеэсхатологичности, социологизированности художественного сознания одного из ведущих прозаиков -традиционалистов. Эта «фигура ухода» мотивировалась примерно так: «Мир Трифонова абсолютно безрелигиозен. И там, где он затрагивает тему смерти, всегда обнаруживается некая тревожащая смысловая невнятица»57. У тверждение о безрелигиозности Ю. Трифонова можно принять без особых оговорок. Но наличие «смысловой невнятицы» не является характеристикой творческой индивидуальности одного из наиболее значительных художников завершившейся литературной эпохи. Ощущение «невнятицы», видимо, было продиктовано отсутствием традиционных эсхатологических знаков в тексте повести, внеэсхатологичностью сознания центральных персонажей и одновременно неподчиненностыо их рефлексии советской, идеологически ангажированной доктрине бессмертия человека, основанной па святой уверенности в возможности по окончании земного срока перевоплотиться в «пароходы, книжки и другие долгие дела». Аргумент, доказывающий отсутствие этого качества, - повесть «Обмен», в которой смерть, как и в «Последнем сроке» В. Распутина, превратилась в «элемент сюжетостроения» (термин П.М. Бицилли): смертельная болезнь матери главного героя инженера престижного НИИ, тридцатисемилетнего Виктора Георгиевича Дмитриева становится событием сюжетообразующим.
Писатель использует многие из возможных средств для того, чтобы разбудить человеческое сердце, душу, подвести Дмитриева к восприятию смерти матери как последнего события в цепи вдруг обнажившихся перед ним не только личностно значимых, но и исторически важных, исторически-катастрофических исчезновений. По привычной логике, происходящее в той или иной форме должно было спровоцировать хотя бы кратковременные, мгновенные апокалиптические переживания - наиболее привычное проявление эсхатологизма. Трифонов прибегает к художественным подсказкам, намекам, которые обнаруживаются достаточно легко: все события, описанные в повести, случаются осенью, все перемещения Дмитриева происходят в дождливую погоду... Но апокалиптический пейзаж, на фоне которого Дмитриев от бывшей любовницы едет к смертельно больной матери написан в пародийном ключе. Пугающе отрывочны, фрагментарны, обеднены переживания героя, ассоциирующиеся с личной эсхатологией, которая в православной традиции задавала уровень и качество размышлений человека, оказавшегося перед лицом смерти. В сознании «неудивительного» Дмитриева (так незадолго до собственной кончины охарактеризовал дед своего взрослого внука) лично-эсхатологическая проблематика не актуализируется. Герой Ю. Трифонова,
57 Крылоза С. Смерть и вина в повести Юрия Трифонова «Другая жизнь» // Историк и художник. 2006. №4 (10). С. 83.
оказавшись в кри тической ситуации, с ужасом понимает, что смерть другого человека для него не является, не может стать предметом рефлексии, потому что у него есть представление только о жизни. Как он говорит, знак жизни -счастье, за отсутствием его — пустота, которая в принципе не может вызывать никаких эмоций, переживаний, При этом Трифонов, выстраивая персонажные ряды, доказывает, что Дмитриев - не страшный «монстр», не исключительная фигура.
На первый взгляд, примерно так было и в русской классической
литературе, так было у Шукшина: смерть высветляла нравственное
состояние героев или, наоборот, проявляла их «душевную
недостаточность», Перед лицом смерти прожитая жизнь неизбежно
получала неотменимую морально-нравственную оценку. У Трифонова
принципиального изменения художественной функции мотива смерти
внешне не произошло, отношение к смерти осталось одним из главных
критериев оценки человеческой личности. Но ему удалось зафиксировать
рождение культуры симулякров, не испытывающей потребности в духовно
затратной и спасительной эсхатологии, сознательно ограничившей себя
экзистснцианалистскими подходами к жизни и смерти. Без этого подлинно
художественного открытия сегодня трудно уяснить и мотивировать логику
постмодернизма, взявшего па вооружение выросшие на дискредитации
марксистского материалистического мировоззрения популярные в Европе
58
теоретические построения Ж. Ф. Лиотара и Ж. Бодрийяра .
В следующем разделе заключительной главы «Онтологическая проблематика в постмодернизме» на материале художественных произведений Л. Петрушевской и О. Кучкиной показано, как постмодернисты с абсолютной серьезностью бились над проблемами, разрешенными трифоновскими персонажами, и пошли значительно дальше, попытавшись окончательно отменить не только личную, но и общую эсхатологию. С их точки зрения, даже по поводу Апокалипсиса не стоит рефлексировать, ибо виртуальный вариант мировой катастрофы уже осуществился и остался в прошлом человечества. Но никому из постмодернистов так и не удалось создать более убедительную, чем у Трифонова, художественную модель сознания цивилизованного человека второй половины завершившегося тысячелетия.
Постмодернистский герой без особого внутреннего сопротивления, без какой-либо рефлексии отмечает, фиксирует, констатирует собственную неспособность к переживанию чужой смерти, пусть это даже смерть близкого, дорогого человека, как, например, героиня О. Кучкиной «Музыка» (цикл «Собрание сочинений», 2003). О смерти теперь почти не говорят, не размышляют, о смерти близких долго не печалятся. Приближения смерти
68 См.: ЛиотарЖ,- Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985. Перевод с французского, примечания и общая редакция A.B. Гараджи. — М , 2008.
обычно боятся, но могут ждать как избавления (О. Кучкина. Собрание сочинений).
Если смерть персонифицируется в каком-то конкретном образе, как это, например, произошло в «Черном пальто» (1996) Л. Петрушевской, где смерть предстала в отвратительном облике шофера случайной попутки, подвозившей героиню на тот свет, то эта персонификация вызывает животный ужас. Традиционный фольклорный образ смерти - ангел, имеющий вид человеческого скелета или высокой старухи с белыми волосами, с провалившимся носом, в белой одежде и с косой за плечами, как и в «Последнем сроке» В. Распутина, отменяется. Но качество, суть происходящей замены принципиально иные. У Л. Петрушевской сознательно смешиваются черты реального человека и традиционного фольклорного персонажа. В результате этого смешения возникает персонаж, «работающий» на развенчание традиционного мифа смерти.
Но, пожалуй, главная особенность эсхатологического (точнее, «доэсхатологического», танатологического) дискурса в постмодернистском тексте заключается в ■ том, что смерть здесь вообще перестает восприниматься как заслуживающее внимания событие. Автор чаще всего сосредоточен на изображении сопровождающих смерть формальных, ритуальных действий. Бессобытийность, упрощенность, обыденность, нарочитая обедненность танатологического дискурса, как любое иное сущностное качество постмодернизма, программны и объяснимы. Герои Л. Петрушевской, О. Кучкиной и многих других популярных современных литераторов (О. Богаева, А. Мелихова, 3. Прилепина, М. Угарова и пр.) научились спокойно относиться к смерти, собственной и чужой. И это принципиально иное, чем у "деревенщиков", спокойствие обусловлено не отсутствием ощущения противостояния жизни и смерти, а принципиальным неразличением этих двух состояний, чреватым отрицанием жизни как единственной ценности земного бытия. К абсолютизации этой тенденции полную готовность выразил медийный дискурс, представивший убедительные доказательства изменений уже не в литературном, но в массовом сознании.
Основные из этих доказательств представлены в заключительном разделе «Концепт «смерть» в современных массовых текстах», в котором анализируется едва ли ни единственный (при исключении метафоры «Апокалипсис») «след» существования сложнейшей литературной эсхатологии в современном русском медийном дискурсе -концепт «смерть», но уже с максимально усеченной логической зоной, с нивелированными побудительными свойствами и возможностями.
Вопросы, над которыми бились М.А. Булгаков, М.М. Зощенко, Л.М. Леонов, А. Платонов, А.Т. Твардовский, М.А. Шолохов, поступательно усложнявшие логическую зону концепта «смерть», в современном медийном пространстве решаются без особого напряжения.
Как пишет II. Иванова, «культура глянцевая отвечает, что смерти нет. (Исходя из того, что в жизни есть «вечный двигатель», и этот двигатель -потребление). Потребитель бессмертен: тот, по крайней мере, кто хочет, -может быть вечно молодым. Все линии, тенденции, все расчеты, вся реклама глянцевой культуры складывается в религию молодости. И -религию отрицания смерти: правильный и мощный потребитель не бессмертен - для него смерти просто не существует. Старость и смерть игнорируются. В современном детективе смерть - всего лишь элемент декора занимательного сюжета»59.
Усиливается происходящее в медиапространстве и в «близлежащем» поле «массовой» литературы, прежде всего в жанре детектива, отметающем тематические, стилевые или жанровые ограничения на функционирование, эксплуатацию обладающего почти мистической силой, с точки зрения наших предков, слова.
Но сложившуюся ситуацию при всей ее масштабности нельзя воспринимать как окончательную хотя бы потому, что изобретшие замечательные литературные инструменты для исследования личности постмодернисты оказались не способными помочь Веничке (В. Ерофеев, «Москва-Петушки», 1969) и иже с ним изжить тоску одиночества и утробный страх смерти, потому что момент пробуждения неизбежно наступает и возвращается ощущение тупика на пути обретения экзистенциальных ценностей. Далее в развитии человека начинается фаза сомнамбулизма, о которой писала В. Нарбикова в повести с многозначительным названием «Видимость нас» (1988), населенной людьми, по определению критика, не успевшими «ничего совершить и обдумать», тонущими «в апокалиптическом тумане»60.
Пытаясь компенсировать эту недостаточность постмодернистской литературы, проза последнего десятилетия, внутренне обращенная к классической традиции, ради сохранения ортодоксальной эсхагологичности индивидуального сознания, поддерживающей человеческое в человеке, возвращается к традиционной эсхатологической топике. Эта обращенность многопланова. Пока очевиднее всего она проявляется в рождении нового героя. Например, в образе девушки Насти, ухаживающей за обитателями немецкого дома престарелых, наблюдает за которой молоденький немец-альгернативщик, придуманный Е. Водолазкиным (роман «Похищение Европы»), Иные формы «возвращения» предлагают А. Слаповский (сценарий для «русского народного детектива» «Участок»), В. Галактионова (роман «5/4 накануне тишины»), А. Варламов (романы «Лох», «Купол» и «Затонувший ковчег»), В. Дегтев (повесть «Крест», рассказ «Четыре жизни»), В.И. Аксенов (роман-дневник «Малые святцы»).
59 Иванова Н. Современная перспектива вечных тем // Новый мир. 2006. № 10. С. 222-223.
60 Эпштейн М. После будущего. О новом сознании в литературе // Знамя. 1991. №1. С. 219.
В Заключении подчеркивается, что в диссертации были проанализированы разножанровые, создававшиеся в разные исторические эпохи произведения многих авторов: от М.А. Булгакова до Л. С. Петрушевской. В историко-литературной ретроспективе представлены далекие друг от друга события и факты отечественной словесности и культуры. Избранному подходу соответствовал аналитический инструмент, которым стала эсхатологическая топика - один из наиболее значительных трансляторов национальной ментальности. Анализ художественной адаптации эсхатологической топики позволяет по-новому оценить масштаб и характер влияния православия на новейшую русскую литературу, сделать еще один шаг в постижении коренных, неизменных особенностей национальной культуры, способствует выявлению связей, если воспользоваться определением В. Топорова, существующих между самыми разнообразными явлениями на «метаисторическом уровне», т.е. более значительных, содержательных, чем те, которые обнаруживаются с помощью ставших привычными при анализе ситуационно-сюжетных или тематических подходов.
О том, что эти связи во многом обеспечивались присутствием в национальном культурном пространстве православной эсхатологической концепции, неуклонным возвращением в художественный дискурс эсхатологической топики, свидетельствуют роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», произведения создателей «деревенской прозы» и повести Ю.В. Трифонова, транслирующие базовые константы картины мира эпохи «расщепления исходных социальных ниш и матриц» (А. Рылева), тех исторических периодов, которые отличались особенно напряженной внутренней работой человеческого духа, направленной на поиски ответа на вопрос о путях будущего развития нации - Октябрьская революция 1917 года и перестройка 1980-х. Именно в эти десятилетия культура, отечественная литература включались в онтологический по сути своей поиск, предполагающий напряженное самоуглубление, самопознание с целью самоопределения, Россия была вовлечена в поиск «реальной новой онтологической перспективы для рода человеческого и для всей твари этого мира, которая «ожидает откровения сынов Божиих» в надежде, что «освобождена будет от рабства тлению» (Рим., 8, 19-21)»61.
И в первом, и во втором случаях (в первом - литературным успехом М.А. Булгакова, во втором - продуктивными в этом аспекте усилиями прозаиков-традиционалистов) воплощенная в литературном дискурсе эсхатология, свободная от продолжительное время навязываемых литературе и культуре политизированных, идеологизированных взглядов на жизнь и смерть, становилась одним из основных средств сохранения национальной ментальное™, трансляции жизненно важных охранительных
61 Котельников В. А. Монастырь и мир // Пути и миражи русской культуры,— СПб, 1994. С. 238.
компонентов концепции национального характера в процесс формирования мировоззрения человека новой эпохи, его индивидуального мышления, восприятия мира, окружающей действительности.
С метаисгорической точки зрения, наиболее значительным, укорененным в отечественной культурной традиции, обладающим ментальной поддержкой ответом литературы на запросы послевоенной эпохи с полным основанием можно считать «деревенскую прозу». Анализ ключевых эсхатологических топосов, воплощенных в ставших классическими текстах, презентующих данное литературное направление: в рассказах В.М. Шукшина, повестях В.Г. Распутина, произведениях В.П. Астафьева, «Усвятских шлемоносцах» Е.И. Носова, основополагающем для литературной школы «Матренином дворе» А.И. Солженицына -позволяет говорить о неповторимости созданных прозаиками-«деревенщиками» художественных миров. «Ключами» к этим мирам становились то характеры «чудиков» и «праведников», то уникальные, национально идентифицируемые способы организации времени и пространства, то антонимичные по форме, а не по сути мотивы жизни и смерти, то символы света, то специальные дискурсные детали, то концепты, погруженные в семантически значимые ассоциативные поля, т.е. система топосов - предельно содержательно нагруженных художественных знаков, посредством которых новейшая литература сигнализировала о глобальных цивилизационных сдвигах, подвергнувших неведомым доселе по силе, глубине, значительности испытаниям мир и человеческие души. Эти испытания были связаны с утратой человеком ощущения своего места в этом мире, ранее отведенного ему природой и Богом, и спровоцированными этой утратой, поселившимися в человеческой душе неведомого доселе масштаба рассеянием, сомнениями, ощущением дисгармонии.
Пришедшие на смену традиционалистам в начале 1990-х годов постмодернисты в сфере литературы и в медийном пространстве уничтожили почти на целое десятилетие надежду на возрождение православно-эсхатологической традиции в русском литературном дискурсе, узаконив: господство: экзистенциальных мотивов, заставили поверить в окончательную и необратимую победу литературной танатологии.
Но, как показывает современная литературная практика, эстетический опыт таких писателей, как А. Варламов, Е. Водолазкин, В. Галактионова, В. Дегтев, А.; Слаповский, В.И. Аксенов, процесс преодоления
эсхатологической традиции в литературе постмодернизма не стал абсолютно однозначным, необратимым и полностью разрушительным. Гармония литературной эсхатологии традиционалистов, находящая выражение во вновь модернизирующейся эсхатологической топике, прорывается сквозь деструктивные тенденции, актуализируется современным художественным сознанием как необходимое и достаточное средство выживания и обретения ускользающей или отторгаемой
направленными усилиями действительности. Лишенная сакральности «пост»литература (Н.В. Ковтун) под знаком танатологии оказалась не в силах предложить новую точку зрения на мир и человека. И «новые реалисты», или новые традиционалисты, усвоившие литературный опыт своих предшественников, уже озадачены поиском иных вариантов художественной адаптации эсхатологической топики, основанием для которой в полном соответствии с классической национальной литературной традицией становится частно-эсхатологическая концепция личности.
Основные положения диссертации отражены в следующих работах:
Монография и учебные пособия
1. Цветова U.C. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины XX века. Научное издание. Монография. - СПб, СПбГУ, 2008. 220 с. (14 п. л.).
Реф.: Смирнов С.А. В начале было Слово... Российский гуманитарный журнал. 2008. № 5-6. С. 56.
2. Цветова Н.С. Русская традиционная проза второй половины XX века: сюжеты, герои, поэтика. Уч. пособие. - СПб, СПбГУ, 2007. 102 с. (6 п. л.).
Рец.: Местсргази Е. Прорваться в область чистого духа // Московская среда. 2008. № 35 (11 октября). С. 9.
Реф.: Аринина А.Р. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. 2008. №2. С. 143-147.
3. Цветова Н.С. «Деревенская проза» как литературный феномен. Уч. пособие к спецкурсу для студентов-иностранцев. - СПб, РГПУ им. Герцена. 2005. 62 с. (4 п. л.).
4. Цветова Н.С. О русском... Уч. пособие к спецкурсу по русской культуре. Для студентов-иностранцев. - СПб, РГПУ им. Герцена, 2001. 52 с. (4 п. л.).
5. Цветова Н.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Книга для школьников и студентов (на корейском языке). - Сеул. Изд-во университета Кон-Кук, 1995. 96 с. (4,5 п. л.).
6. Цветова Н.С., Че Сон. Рабочие материалы к литературоведческому анализу «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» A.C. Пушкина (для корейских русистов, частично на корейском языке). - Сеул. Изд-во университета Коре, 1993. 76 с. (4 п. л.).
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК
7. Цветова Н.С. А.П. Чапыгин. Дневниковые записи // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год. - СПб, 1993. С. 101109 (0,6 п. л.).
8. Цветова U.C. Координаты художественного мира повести Е.И. Носова «Усвягские шлемоносцы» // Вестник Томского государственного университета. Филология. Русская литература Х1Х-ХХ веков. № 291. Июнь 2006. С. 336-343 (1,1 п. л.).
9. Цветова U.C. Концепт «смерть» в современном медийном пространстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Филология. Востоковедение. Журналистика. Серия 9. 2007. Вып.3. Ч. 2. С. 364-371 (0,7 п. л.).
10. Цветова U.C., Колесникова Е.И. Художественная эсхатология советской литературы (А. Платонов и М. Булгаков) // Вестник Ленинградского государственного университета имени A.C. Пушкина. Научный журнал. № 2 (12). Серия «Филология». СПб, 2008. С. 90-99 (0, 6 п. л.).
11. Цветова U.C. Эсхатологическая тема в народном сознаиии и ортодоксии (варианты интерпретации) // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2008. Т. 1. Вып. 4. С. 531-538 (0,6 п. л.).
12. Цветова U.C. В. Астафьев: попытка исповеди // Вестник Санкт-Петербургского университета. Филология. Востоковедение. Журналистика. Серия 9. 2008. Вып. 3. 4.2. С. 134-142 (0,7 п. л.).
13. Цветова Н.С. «Над миром властвует смерть». К творческой истории повести В.Г1. Астафьева «Пастух и пастушка» // Литература в школе. 2009. №3. С. 17-20 (0,6 п. л.).
Статьи и тезисы
14. Цветова U.C. Новая художественная философия В. Распутана// Всемирная литература (Минск, Беларусь). 2008. № 12. С. 195-201 (0,5 п. л.).
15. Красичкова Н.С. Диалектика жанра. Часть и целое в астафьевском повествовании // Диалектика части и целого в литературном произведении. Сб. научн. трудов. Воронеж, 1986. С. 133-141 (0,5 п. л.).
16. Красичкова Н.С. Время и пространство в повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» // Межвузовская конференция молодых ученых. Тезисы научных докладов и сообщений. Липецк, 1988. С. 71 (0,1 п. л.).
17. Цветова Н.С. Произведения В.М. Шукшина в восприятии иностранцев // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Вып. 1. Материалы научной конференции. Барнаул, 1989. С. 167-169 (0,2 п .л.).
18. Красичкова Н.С. Журнальная публицистика последних лег. Л.: Общество «Знание». 1990. 16 с. (1 п. л.).
19. Цветова Н.С. Концепция «настоящего человека» в рассказах В.М. Шукшина // В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Вып. 2. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Барнаул, 1992. С. 33-35. (0,2 п. л.).
20. Цветова Н.С. «Среди мирских печалей» // Журнал славяноведения. № 8. Сеул (Республика Корея). 1993. С. 49-61 (0, 7 п. л.).
21. Красникова H.С. Трагедия Маяковского // Rusistika , №5. Сеул (Республика Корея). 1994. С. 89-97. (0,7 п.л.).
22. Цветова Н.С. Тайна шукшинского «чудика» // Тезисы Шукшинской конференции. Сб. материалов Всероссийской научной конференции. Барнаул, 1995. С. 49-51 (0,2 п. л.).
23. Красичкова Н.С. К проблеме характера в рассказах Шукшина // Русский язык и литература на современном этапе. Сб. материалов научной конференции. Вып. 1. Тэгу (Республика Корея). 1996. С. 10-15 (0,3 п. л.).
24. Красичкова Н.С., Уте Шольц. Русская революция в фантастической прозе 20-х годов// Русский язык и литература на современном этапе. Сб. материалов научной конференции. Вып. 1. Тэгу (Республика Корея). 1996. С. 28-33 (0,5 п. л.).
25. Красичкова Н.С. «Положительный герой... какой он есть в жизни» // В. Шукшин. Жизнь и творчество. Сб. материалов научной конференции. Барнаул, 1997. С. 53-56 (0, 3 п. л.).
26. Красичкова Н.С. К проблеме жанра («До третьих петухов» В.М. Шукшина) // Русский язык и литература на современном этапе. Вопросы теории и методики преподавания. Сборник статей. Анянг (Республика Корея). 1997. С. 49-50 (0,3 п. л.).
27. Красичкова Н.С. О мировоззрении писателя // Провинциальная экзистенция. Тезисы докладов Всероссийской научной конференции. Барнаул, 1999. С. 69-71 (0,2 п. л.).
28. Цветова Н.С. Последний поклон писателю // Мир русского слова. 2001. №4. С. 126-127 (0,2 п. л.).
29. Цветова Н.С. Махонька - «святая» и «грешная» // Слово Федора Абрамова. Сб. научн. ст. Архангельск, 2001. С. 42-48 (0, 5 п.л.).
30. Цветова Н.С. Эсхатологический дискурс в рассказе А.И. Солженицына «Матренип двор» // Русская литература и философия: постижение человека. Материалы международной научной конференции. Липецк, 2004. С. 156-164 (0, 6 п. л.).
31. Цветова Н.С. Эсхатологический дискурс новейшей прозы // Постмодернизм: теория и практика современной русской литературы. СПб, филологический факультет СПбГУ. 2004. С. 20-24 (0,4 п. л.).
32. Цветова Н.С. Литературные «шифры» Василия Шукшина // Литературные направления и течения в русской прозе XX века. Вып. 2. Сб. статей. СПб, филологический факультет СПбГУ. 2005. С. 3-13 (0, 6 п. л.).
33. Цветова Н.С. О «крестьянском реализме» // Литературные направления и течения в русской литературе XX века. СПб, филологический факультет. 2005. С. 76-84 (0,6 п.л.).
34. Цветова Н.С. Возвращаясь к шукшинскому «чудику» // Русская классика: проблемы интерпретации. Материалы международной научной конференции «XIII Барышпиковские чтения». Липецк, 2006. С. 272-274 (0,4 п. л.).
35. Цветова U.C. «Архангельская артель» как литературное событие // Двина. 2006. № 12. С. 54 (0,2 п. л.).
36. Цветова Н.С. «Мир» и «война» Евгения Носова // Литературные направления и течения в русской литературе XX века. Вып. 3. Сб. статей. СПб, филологический факультет СПбГУ. 2006. С. 48-56 (0,5 п. л.).
37. Цветова Н.С. «Мотыльки рыночные... не творящие что-то» // СМИ в современном мире. Сб. материалов научно-практической конференции. СПб, факультет журналистики СПбГУ. 2006. С. 296-300 (0,3 п. л.).
38.Цветова Н.С. Дискурс смерти в повести В. Распутина «Последний срок» // «Пусть меня еще любят и ищут...». Сб. статей по русской литературе. СПб, филологический факультет СПбГУ. 2006. С. 94-103 (0,6 п. л.).
Реф.: Петрова Т.Г. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение. 2007. № 3. С. 185.
39. Цветова Н.С. Крестьянская «вселенная» в повести Е.И. Носова // Вестник Красноярского государственного технического университета. Выи. 41. Культура и образование. Красноярск, 2006. С. 162-173 (0,8 п. л.).
40. Цветова Н.С. Слаповский А. // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь. Т. 3. М., 2005. С. 344-345 (0,2 п. л.).
41. Цветова Н.С. Мелихов А. // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь. Т. 2. М., 2005. С. 551-553 (0,3 п. л.).
42. Цветова Н.С. Афонин В. // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь. Т. 1. М., 2005. С. 134 (0,2 п. л.).
43. Цветова Н.С. Наблюдения пессимистки // Нева. 2006, № 11. С. 203209 (0,5 п. л.).
44. Цветова Н.С. Мотив смерти и бессмертия в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Современная русская литература па грани веков. Вып. 11. СПб, филологический факультет СПбГУ, 2006. С. 10-19 (0,6 п. л.).
45. Цветова Н.С. Лингво-культурный концепт «смерть» в русской словесности рубежа столетий // Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы 111 Международного конгресса исследователей русского языка. М., МГУ, 2007. С. 417 (0,2 п. л.).
46. Цветова Н.С. Лингвокультурные концепты в языке современной публицистики // Язык и социум. Материалы У11 Международной научной конференции. Ч. 1. Минск, 2007.С. 207-210 (0, 3 п. л.).
47. Цветова Н.С. Валентин Распутин - «летописец души народной» // Мир и слово В. Распутина. Международная научная конференция, посвященная 70-летию В.Г. Распутина. Иркутск, 2007. С. 246-250 (0,4 п. л.).
48. Цветова Н.С. Экзистенциальиые мотивы в повести Ю.Трифонова «Обмен» // Сюжет и мотив в русской литературе ХХ-ХХ1 вв. Литературные течения и направления. СПб, факультет филологии и искусств СПбГУ. 2007. С. 22-30 (0,6 п. л).
49. Цветова Н.С. Последнее событие литературной биографии В. Астафьева // Литературные чтения. Время, личность, судьба. 13-14 апреля 2007. СПб, СПбГУКИ, 2008. С. 110-111 (0,7 п. л.).
50. Цветова Н.С. Образ мира и человека в прозе В. Астафьева // Универсалии культуры. Опыт дискурсного анализа. Красноярск, СФУ, 2007. С. 94-108(1 п. л.).
51. Цветова Н.С. Тема смерти в новейшей русской прозе // Национальное и общечеловеческое в славянских литературах. Материалы международной научной конференции, 19-20 сентября 2007 года. В двух частях. Ч. 1. Гомель, 2007. С. 144-146 (0,3 п. л.).
52. Цветова Н.С. «Головокружительная, опасная круча» В.М. Шукшина // Между нещата. Юбилеен сборник в чест на доц. Д-р Ивайло Петров по случай неготовата 60- годовшнина. Велико Търново. 2008. С. 417-429 (1,2 п. л.).
Подписано в печать 04.02.2009. Формат 60x84'/] 5
Объем 2,5 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 13. Отпечатано в Лаборатории оперативной печати факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, Санкт-Петербург, В. О., 1-я линия, д. 26.