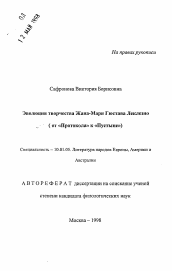автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.02
диссертация на тему: Эволюция творчества Жана-Мари Гюстава Леклезио (от «Протокола» к «Пустыне»)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Эволюция творчества Жана-Мари Гюстава Леклезио (от «Протокола» к «Пустыне»)"
^ #
На правах рукописи
Сафронова Виктория Борисовна
Эволюция творчества Жана-Мари Гюстава Леклезио „. • ' (от «Протокола» к «Пустыне»)
Специальность - 10.01.05. Литература народов Европы, Америки и
Австралии
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Москва - 1998
Работа выполнена на кафедре истории зарубежной литературы филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Научный руководитель: Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
доктор филологических наук, профессор Л.Г. Андреев доктор филологических наук, профессор М.М. Владимирова кандидат филологических наук O.A. Васильева Российская Академия печати
Защита состоится «<х_-» мая 1998 г. на заседании Диссертационного совета Д.053.05.13 при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по адресу: 119899, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке филологического факультета МГУ.
Автореферат разослан 1998 г. Ученый секретарь
Диссертационного совета ^ у
к.ф.н., доцент --А.В. Сергеев
Жан-Мари Постав Леклезио (род. 1940) по праву считается одним из наиболее крупных и ярких представителей современной французской литературы. За свою более чем тридцатилетнюю творческую деятельность писатель выпустил около тридцати книг, приобрел всемирную известность, был удостоен самых престижных премий. Предметом исследования в реферируемой диссертации являются его романы, эссе и сборники новелл, написанные в 60-70-е годы XX века.
Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего тем, что творчество Леклезио представляет собой важный пласт не только французской, но и мировой литературы. Его глубинная связь с предшествующей как художественной так и философской традицией, в частности с экзистенциализмом, позволяет поставить и решить ряд актуальных вопросов о генезисе современной литературы. Писатель затрагивает также в своих произведениях существенные социальные и философские проблемы современности, претворяя их в оригинальных художественных формах. Исследование творчества этого пока малоизвестного широкой читательской аудитории нашей страны писателя ( на русский язык переведены его романы «Путешествия по ту сторону» и «Пустыня», повесть «Мондо» и отрывки из эссе «Незнакомец на земле») особенно важно и в связи с общераспространенной и усиливающейся к концу XX века тенденцией к метафоричности и усложненности художественного стиля. Анализ произведений Леклезио позволяет выявить не только их своеобразие, но и определить основные закономерности развития современной постэкзистенциалистской прозы.
Новизна исследования и состояние вопроса. Несмотря на высокую оценку творчества писателя на его родине, на обилие рецензий, газетных и журнальных статей о его книгах, тем не менее проблема творческой эволюции Леклезио изучена мало. Недостаточный же анализ творчества Леклезио в его динамике приводит к серьезным разночтениям Так, например, одни критики относят его произведения к «новому» роману
(Боторель, Дюгаст, Тораваль), другие - к «литературе великого отказа» (Le grand refus), идейно связанную с гошизмом (Ю. Уваров), третьи - к французской «новой притче» (Ф. Нурисье, М. Галей). Между тем творчество Леклезио не только не укладывается в эти рамки, но порой даже являет собой нечто противоположное любому из вышеназванных направлений. Отмечая связь произведений Леклезио с французским экзистенциализмом и «новым романом», многие исследователи как во Франции так и в России, считают, что писатель прошел на своем пути все те этапы, которые так или иначе отражают историю развития послевоенного французского романа вплоть до «постмодернистских» его модификаций.
По мнению Ботореля, Дюгаста и Тораваля, следы влияния «нового романа» наиболее заметны в ранних произведениях Леклезио и прежде всего связаны с романной техникой. Эту точку зрения разделяет и российский литературовед Т.М. Балашова, полагающая, что текст «Протокола», «Потопа», «Войны» легко может быть представлен в качестве модели «новороманного» письма. Отсутствие сквозного сюжета и психологической мотивировки той или иной реакции героя, хронологический волюнтаризм в книгах Леклезио позволяют с полной уверенностью говорить о нем как о талантливом ученике Н.Саррот, А.Роб-Грийе, М.Бютора. К «новороманистам» приближает писателя и попытка наметить «роман в романе». Однако, как справедливо замечает Л.Г. Андреев, «новым романистом» или же «антироманистом» Леклезио так и не стал.
Противоречивость оценок и большое количество оговорок при попытках определить место писателя в современной литературе свидетельствуют о том, что произведения этого самобытного писателя требуют более серьезного и пристального прочтения, чем это было сделано до сих пор. Таким образом, новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые в отечественном литературоведении дается
системный анализ произведений Леклезио в их внутренней взаимосвязи и художественной целостности, что приводит к пониманию особенностей эволюции его творческого метода.
Целью диссертации является исследование эволюции философско-эстетических и художественных взглядов Леклезио от его первого романа «Протокол» (1963) до «Пустыни» (1980). При анализе используются не только художественные тексты, но и его философские эссе, а также многочисленные интервью и высказывания.
Основные задачи работы:
И исследовать идейно-художественное своеобразие ранней прозы Леклезио: романов «Протокол», «Потоп», сборника новелл «Лихорадка», философского эссе «Материальный экстаз» с целью определения особенностей творческого метода начинающего писателя;
В рассмотреть поэтику романов «Terra Amata», «Книга бегств», «Война», «Великаны» с точки зрения преломленной в них как европейской, так и восточной культурно-художественной традиции, а также французской философско-эстетаческой и научно-технической мысли 70-х годов XX века;
И проследить движение творческого метода Леклезио от экзистенциализма к неоромантизму.
Метод исследования в соответствии с решаемыми задачами носит комплексный характер. Традиционный историко-литературный подход к рассмотрению эстетических и философских воззрений Леклезио и их проявлений в художественном произведении сочетается с историко-типологическим анализом художественных особенностей тех произведений, которые, на наш взгляд, представляют принципиальный интерес для изучения творческой эволюции писателя.
Научная и практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, что в ней впервые в отечественном литературоведении
дается систематический анализ творчества Леклезио, развивающегося в русле основных тенденций послевоенной французской литературы. Положения и материалы диссертации могут быть использованы при разработке учебных пособий и лекционных курсов, а также на семинарских и практических занятиях по истории французской и мировой литературы. Наблюдения и выводы, касающиеся художественных особенностей прозы Леклезио, могут быть использованы при переводе произведений писателя на русский язык, а также при подготовке комментариев к русским изданиям этих произведений.
Апробация. Ход работы и ее результаты обсуждались на заседаниях кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Положения работы прошли апробацию в лекционном курсе «История зарубежной литературы XX века», который автор диссертации читала в Камчатском государственном педагогическом институте и Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, а также в докладах, изложенных на научных конференциях профессорско-преподавательского состава КГПИ и на Межвузовской научной конференции «Текст в гуманитарном знании», проходившей в Москве в апреле 1997 г.
Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, примечаний и списка использованной литературы.
Во Введении наряду с обоснованием актуальности и новизны избранной темы даются биографические сведения о Леклезио и краткий обзор критической литературы по исследуемой проблеме, выделяются три последовательно сменяющих друг друга основных периода творческой эволюции писателя.
В первой главе работы предметом исследования стала проза Леклезио 60-х годов: романы «Протокол» (1963) и «Потоп» (1966), сборник «Лихорадка» (1965), состоящий из девяти «историй» (по определению самого автора), а также эссе «Материальный экстаз» (1967).
В самом начале своего творческого пути, подобно новороманистам, Леклезио открыто заявляет о своем неприятии традиционного романа (классического бальзаковского реализма), почти дословно повторив декларацию Натали Саррот. Он считает, что «великие чувства»: любовь, ненависть, смерть, описываемые «традиционалистами», заслоняют «менее величественные», но не менее значимые переживания.
В ранних романах Леклезио «Протокол» и «Потоп» предстают принципиально незавершенные, а подчас и несовершенные картины мира. При этом автор оказывается как бы «дирижером» многочисленных и часто очень различных суждений, оценок и точек зрения.
Романам Леклезио присуще сложное, неустойчивое и часто противоречивое соотношение самоорганизации и организации, вносимой автором, тем более противоречивое, что последний обычно не находится на первом плане и не раскрывает своих намерений в конструировании текста.
Путь автора идет через самые разные, часто радикально отличные друг от друга пространства, пространства, где можно встретиться и беседовать с людьми, которым в ином «возможном мире» он не подал бы руки (или которые не подали бы руки ему), даже с людьми изначально «лишними», неинтересными (к ним, кстати сказать, относит себя и сам автор). Такого рода поиск собеседников, не по критерию их фиксированного «совершенства», а с точки зрения того, в какой мере соприкосновение фрагментов смысла, принадлежащих разным мирам, позволяет приблизится к границам нового, «авторского» возможного мира, и войти в него, и порождает присущую Леклезио «граничность» или даже «предельность» смысла, «духовную объединенность» элементов в целостный образ.
Как заданный, так и создаваемый на описываемых предпосылках мир обладает подчеркнутой способностью к саморазвитию, потенциально бесконечному развертыванию во времени и, возможно, в пространстве.
При таком подходе к изображению автор сам становится текстом -автором, которого можно извлечь из множественности его собственного текста.
Герои ранних произведений Леклезио - молодые люди 25-30 лет, разочаровавшиеся и одинокие, мечтающие о «чуде встречи» и одновременно боящиеся ее. Всех их объединяет стремление выразить свое разочарование и свой протест на принципиально новом языке, без скомпрометировавших себя штампов - на языке бытового поведения, вкусов, вещей, способов организации досуга и материально-пространственной среды. Они совершают эксперимент, или точнее, экспериментируют с самими собой, со всем своим существом от сознания до тела. Последствия подобного экспериментирования нетрудно предсказать. Леклезио не оставляет своим героям ни малейшей надежды на то, что их бунт будет понят, а крик - услышан.
«Глупым и раздутым» представляется мир и герою первого романа Леклезио «Протокол», которому автор дает многозначащее имя Адам, имя, определяющее место человека во Вселенной.
В предисловии к этому произведению Леклезио говорит о своем намерении создать «активный» роман, который заставил бы поверить в то, о чем в нем говорится. С этой целью писатель включает в текст немного юмора, чуть заметной фамильярности и анекдотичности. Основное желание автора заключается в том, чтобы его «рассказ представлял собой абсолютный вымысел», единственная задача которого «сводилась бы к получению некоего отзвука, отголоска (пусть даже эфемерного) в сознании того, кто его читает».
Уже с первых страниц Леклезио демонстративно использует почти все штампы современного романа: образ одинокого бродяга, бредущего на встречу с человеческими существами и вещами, которые предстают перед ним в своем естественном беспорядке; использование разговорного языка, многочисленные пропуски, помарки, коллажи (реклама, афиши,
статьи), призванные продемонстрировать черновой вариант романа; отсутствие стройной завершенной композиции (главки не пронумерованы, а просто помечены буквами алфавита); и, наконец, использование в качестве соединительного союза не французского й, но английского &. Однако все эти приемы нельзя назвать простым трюкачеством, скорее это средства воплощения авторских идей, которые первоначально дезориентируют, вводят в заблуждение читателя, но лишь для того, чтобы очень скоро увлечь за собой в странный и загадочный мир, где мы вновь и вновь оказываемся перед целым рядом неразрешимых вопросов, а именно: что есть правда, а что ложь, и возможно ли вообще такого рода деление?
В романе «Потоп» намечаются первые шаги эволюции писателя. Это выражается и в построении произведения, и в характере отношения к предмету изображения. В пространном, абстрактно-мистическом описании пейзажа уже легко угадываются некоторые черты современной городской цивилизации. Леклезио не намерен больше ограничиваться простым описанием абсурдности бытия, свою задачу он видит теперь гораздо шире: запечатлеть эмоциональную реакцию на происходящее. Автор пытается воссоздать не психологическую историю индивидуума, а историю человеческого сознания.
Характер повествования в «Потопе», как и в «Протоколе», отличается загадочностью, двусмысленностью, недосказанностью. Такое впечатление прежде всего рождается из-за техники повествования, регистрирующего лишь внешннй рисунок поведения, реакций, впечатлений героя, лишь доступное писательскому взору, но всегда таким образом, что читатель при этом чувствует, необходимость самому дополнить то, что герой объяснять не хочет.
Для романа «Потоп» характерны многозначительная недоговоренность, постоянные умолчания и даже нарочитый отвод внешними мотивировками в сторону от истинных причин того или иного
действия или переживания героя, что отражает общие мировоззренческие, философские установки автора: не только отказ от осмысленного рационального объяснения мира вообще, но и недоверие к возможностям адекватного постижения в слове внутренней жизни человека, мира его часто смутных и противоречивых чувств, переживаний, душевных движений.
Важной особенностью первых двух романов Леклезио является обязательное присутствие в них фрагментов реального мира, которые еще более усиливают странное и необъяснимое чувство беспокойства, тревоги.
Отличительной чертой сборника «Лихорадка» является сочетание драматичности, даже трагедийности изображаемых событий и подчеркнуто реалистичного, будничного описания среды. Выбирая для своих «патологических полотен» реалистическое обрамление, Леклезио, тем самым, дает понять, что в ситуации его героев может оказаться каждый из нас. Таким образом, напрашивается вывод о том, что физические муки, изображенные в новеллах, есть лишь аллегории мук метафизических - одиночества, необъяснимого страха перед вещами и людьми.
Размышляя над проблемами человеческого существования, Леклезио подошел к новому этапу творческой и мировоззренческой эволюции, что нашло отражение в его эссе «Материальный экстаз».
Структура книги сложна, поскольку сюжеты, составляющие ее, не связаны друг с другом логическими переходами. Не менее сложной представляется и идейно-тематическая сторона этого эссе. Если в предыдущих произведениях предметом изображения были боль и отчаяние человека, живущего в сегодняшнем обезличенном цивилизацией мире, то в «Материальном экстазе» писатель стремится уже показать человека, «погруженного во Вселенную».
Кратко тема эссе может быть сформулирована таким образом: место человека во Вселенной; но не человека вообще, а единичного
человека, «я» в конкретности его существования. Писатель пытается поместить это трепещущее «я» во Вселенную, находящуюся в постоянном движении, причем это движение представляется ему триединым: метафизическим, психологическим и духовным одновременно. Философское раздумье о мире у Леклезио - это раздумье художника, который тяготеет к иносказательным, метафорическим формам выражения своих представлений о мире.
Вторая глава диссертации посвящена анализу второго периода творчества Леклезио, хронологически заключенного в рамки 1967-1973 годов. Предметом анализа в этой главе стали четыре романа, написанные в данный период: «Terra Amata» (1967), «Книга бегств» (1969), «Война» (1970) и «Великаны» (1973).
Эти произведения фактически продолжают многие темы, затрагиваемые в ранней прозе писателя. При этом от романа к роману отрицание "пластикового", неестественного мира становится у Леклезио все более последовательным, а сам образ этого мира - более конкретным и определенным. Автора, как и прежде, интересует сознание героя и его реакция на окружающее, поэтому он описывает скорее психологическое состояние, чем характер, типизируя качества, которые могут быть общими, по сути, для всех в наше время сверхмашинной цивилизации.
Сознание его персонажей по-прежнему отчуждено, отъединено от мира, но в то же время уже появляются как мотивировки такого разрыва, так и герои, способные не только созерцать или спасаться бегством, но и бунтовать. Однако такие бунтари, бросающие вызов обществу, возникнут только к концу второго периода (роман «Великаны»), герои же предыдущих трех романов как бы подготавливают их появление.
Роман «Terra Amata» - произведение отчетливо выраженной философской направленности. В нем Леклезио вновь обращается к одной из основополагающих проблем философии - проблеме пространства и времени. Через все произведение лейтмотивом проходит и тема смерти,
которая предстает в романе как единственная определенность в мире хаоса и абсурда.
В этом романе намечается некий перелом в позиции писателя, ранее полагавшего, что молодые люди, живя в мире, полном лицемерия, жестокости и насилия, обречены на непонимание. Герои его ранних произведений ни от кого не могли ждать помощи, им приходилось в одиночку бороться за свое существование, жить без какой-либо перспективы, целиком полагаясь на случай. Будущее представлялось им пустотой, ничего не сулящими годами. Герой же «Terra Amata» Шанселад пусть на мгновение, но обретает реальную ценность своей жизни. Этой единственной ценностью оказывается для него любовь. Только любовь, как островок верности, доброжелательности, человечности, как теплый оазис среди холодной пустыни, остается у героев, хоть и ненадолго.
Существование предстает в романе в изобилии, кипении красок, запахов, форм, цветов, звуков, но звуков резких, дисгармоничных, двусмысленных, цветов - контрастных, нечистых, форм - расплывчатых, аморфных. Шанселад время от времени предается бессмысленному потоку ощущений, видений, сливающихся в настоящую вакханалию неопределенных красок, звуков, форм. Светлый бодлеровский образ «соответствий» заменяется у Леклезио темной, магической категорией «двусмысленного». Внешний мир во всех своих чувственно воспринимаемых качествах, переходящих друг в друга, предстает неким оборотнем, скрывающим за ними свою темную, страшную, непознаваемую сторону.
Всеми доступными средствами поэтической, суггестивной выразительности Леклезио старается вызвать в читателе чувство отвращения к этому механическому миру, миру голого существования, вещности. Погруженность сознания человека в месиво существования, когда он начинает чувствовать себя лишь одним из существований в массе других, и рождает ощущение экзистенциалистской, сартровской тошноты.
Леклезио вновь создает образ экзотического иноземца, носителя другой, нежели принятая, шкалы ценностей. Не принимая окружающую его действительность, Шанселад абсолютизирует свое отрицание, распространяя его на все человеческое бытие. В романе передано состояние острого отчаяния человека, вызванного утратой антропоцентрического видения мира, что порождает ощущение абсолютной пустоты вокруг и беспомощности самой личности.
Чтобы полнее выразить сложную гамму чувств и тревоги, писатель отказывается полностью от традиционной структуры романа, прибегает к символике, к аллегории, к крайне усложненным метафорам. В романе нет сколько-нибудь связного, последовательного изложения событий, фабулы в обычном смысле слова, но много внутренних монологов, страстных диалогов. Здесь большое место занимает эмоционально окрашенное описание ужасающего, отвратительного внешнего мира - символа современной цивилизации. В «Terra Amata» Леклезио пытается расшатать, разрушить рационалистический стереотип восприятия мира. Предметы, веши вырываются из всякого осмысляющего, организующего их контекста, предстают в неожиданном, странно-патологическом обличье. Основная установка - на эмоциональное, аффективное воздействие на читателя. Писатель пытается почти гипнотически внушить ему свое восприятие мира, свои идеи, втянуть его в тот «жуткий экстаз», который переживает его герой.
По своему языку и стилю «Terra Amata» походит скорее на поэму, чем на роман. Изображение «пластикового», неестественного мира часто достигает уровня какой-то жуткой поэзии. Там же, где автор пытается дать положительную интерпретацию мира, он не идет дальше четкой и предельно детальной кристаллизации отдельных вещей, жестов, впечатлений, самих по себе, во всей их обнаженной телесности.
В романе «Книга бегств» враждебность окружающих приобретает еще больше социальных оттенков, а экзистенциалистская концепция ада,
воплощаемого «другими», дополняется трагическим ощущением бессилия «одного», смутной надеждой, что вместе все-таки легче.
Для понимания места «Книги бегств» в творческой эволюции Леклезио важно отметить, что в этом романе писатель предпринимает, наконец, попытку окончательно разрешить столь важную для него проблему границ жанра художественного произведения, которая волновала его начиная с самых первых его произведений.
Леклезио бросает вызов будущим интерпретаторам своего произведения, которые наверняка будут пытаться дать ему определение, классифицировать, заключить в жесткие рамки. Более того, писатель выступает и против такого устаревшего, с его точки зрения, понятия, как стиль. «Дурацкое понятие стиля» (le stupide style) и «этикетки» (l'étiquette), клише, штампы лишь ограничивают, по мнению Леклезио, возможности любого произведения искусства, позволяя критикам с невероятной легкостью относить его то к любому жанровому образованию. Смело демонстрируя свое презрительное отношение к разного рода этикеткам и ярлыкам критиков, писатель, вместе с тем, открыто противоречит сам себе, называя «Книгу бегств» приключенческим романом. При этом он категорически отклоняет и то определение, которое традиционно ассоциируется с термином «приключенческий».
Отказываясь признать за этим термином принадлежность к определенном)' жанру или определенной тематике, Леклезио приглашает читателя принять участие в «тотальном спектакле реальности», в «постоянной выставке приключений, которые рассказывают маленькую историю мира».
Леклезио оставляет и попытку создать некий автономный, вымышленный мир, подчиняясь своей естественной тяге к полноте реальности, реальности бесконечной и непостижимой. И все же вымышленный мир присутствует в книге наряду с миром реальным в виде
отдельных эскизов, набросков. Эти два мира, которые интересуют писателя лишь в той мере, в какой способствуют более глубокому пониманию изолированного, в самом себе ограниченного существования, блестяще сосуществуют в произведении, взаимопроникая и дополняя друг друга.
Подобно тому, как чередуются в книге мир реальный и воображаемый, сменяют друг друга автор и персонаж. Часто Леклезио говорит о своем герое как о писателе, словно бы создавая эскиз персонажа, которому небезразличны авторские тревоги. Повествование в «Книге бегств» как, впрочем, и в предыдущих произведениях писателя, ведется то от первого, то от третьего лица. Но только в этом произведении появляется четкое разграничение, в соответствии с которым главы под названием «Самокритика», где Леклезио рассуждает с самим собой о том, зачем и как он пишет этот роман, написаны от первого лица, а те отрывки книги, в которых речь идет о бегстве героя, - от третьего.
Стремясь показать, что слова, язык, литература не могут дать полного представления о реальности, правде, Леклезио всякий раз умышленно противоречит себе. Ведь именно в этой игре противоречий, по мысли писателя, заключается единственная возможность если не передать, то хотя бы почувствовать, воспринять эту таинственную реальность.
«Фрагментарность» столь характерна для творчества Леклезио, что критики с достаточным основанием усматривают в ней отражение общей эстетической позиции писателя. Во всяком случае фрагменты его произведений, как правило, обладают (и «Книга бегств» не исключение) внутренней цельностью, и их повествовательная незавершенность существенно восполняется художественной выразительностью смыслового плана.
В романе «Война» Леклезио не ставит перед собой цель показать войну как социальную и историческую реальность, поскольку для него
война - это состояние души. Причины же этой трагедии, согласно авторской концепции, кроются в изначально присущей человеку агрессивности, в факте жестокости и страха, которыми пронизаны отношения между людьми, а так же между людьми и окружающими их вещами.
Как складывались отношения людей до войны? Писатель достаточно много говорил об этом на страницах своих предыдущих произведений, детально описывая природу этих взаимоотношений. При этом важно отметить, что названия его романов, носившие, как правило, обобщающий характер («Протокол», «Потоп»), резко контрастировали с их содержанием. Все внимание автора было приковано именно к малозначительным деталям. В этом заключалось писательское кредо Леклезио, сформулированное им уже в начале творческого пути и прозвучавшее из уст одного из его персонажей: «....никогда не следует говорить о чем то важном. Надо говорить о вещах самых простых, ничего при этом не объясняя». Этому правилу писатель остается верен и в романе «Война». По такому принципу построена вся книга, все без исключения главы посвящены описанию чего-то второстепенного. Однако это уже не лабораторные эксперименты в духе новых романистов, но изменение масштаба, шкалы ценностей в пользу того, что интересует писателя в первую очередь.
Что касается персонажей, то это скорее аллегории, а не живые люди. И в первую очередь это относится к героине романа Беа Б., которая, появляясь неожиданно, из ничего, до конца романа не обретает сколько бы то ни было конкретных и законченных черт. Впрочем, это неудивительно, ведь автор заявляет, что никто не имеет лица. Весь мир обезличен, все слито воедино. В романе есть лишь ставшая явью катастрофа и вселенский страх. Одиночество и страх — две доминанты, определяющие состояние Беа Б.
Беа Б., как и М.Х. ее единственный собеседник в романе, воплощают собой человеческое сознание в глубочайшем конфликте с окружающим. Причем и персонажи, и рассказчик как бы имеют «общее сознание», идентичную реакцию на явления внешнего мира. Это сознание абсолютно пассивно, оно вне сферы действия; но одновременно оно очень активно как материя, принимающая сигналы.
Сигналы же, посылаемые внешним миром, способны внушить лишь одно чувство - чувство страха, поскольку насилие исходит отовсюду - от множества людей и предметов, от какофонии звуков, от мельтешения оттенков, запахов, линий, от любого источника света, который фатально притягивает к себе, чтобы люди гибли как бабочки; от стен домов, которые «бьют вас балками и металлическими прутьями».
Фоном, на котором происходят все события, является город. Отношение автора к городу, чувства, которые он испытывает к нему, двойственны. С одной стороны, урбанистическое пространство символически уподобляется джунглям при помощи ншсгоморфной и катаморфной образности. Город, так же как лес, поглощает людей, но он к тому же безлик, его опасности неосязаемы, его агрессивность абсурдна, мрак непроницаем. Люди, подчиненные безостановочному, немотивированному, хаотичному, бессмысленному движению городской толпы, не находят в ней просвета. Город - тюрьма с его скоплением людей в тесных и холодных домах, с улицами, автострадами, бульварами и низким серым небом, обитель одиночества и источник нескончаемых человеческих пороков - таким, в частности, предстает «ад цивилизации» в романе Леклезио.
Но существует и другая сторона авторских зарисовок, идейно связанная с мыслью о том, что город - это мир, созданный человеческими руками и управляемый человеческим разумом. Отдельные эпизоды романа позволяют утверждать, что Леклезио воспевает горожанина и порядок, царящий вокруг него. Некоторые детали и механизмы городской
жизни выписаны им с таким великолепием и знанием дела, что буквально завораживают читателя. Это уже не просто фон, ведь Беа Б. иногда настолько сливается с городом, что возникает впечатление, будто бы за абстрактными рисунками на стенах и тротуарах скрывается тайна ее сознания.
Леклезио выступает в «Войне» как прямой последователь Лотреамона. Мир, который предстает перед читателем со страниц романа, ирреален и в то же время ужасающе конкретен, физически ощутим. Именно конкретность деталей, предметный характер видения придают достоверность подчас фантасмагорическим картинам Леклезио.
Леклезио убежден в фрагментарности человеческого восприятия, он считает неоправданными любые попытки преодолеть эту фрагментарность, полагая, что в технизированном мире атомарным фактам должен отвечать атомарный стиль. Автор «Войны» не стремится гармонизировать хаос повседневного существования, из осколков склеить целое, его роман напоминает скорее книгу по искусству, в которой вместо «целостной репродукции представлены ее отдельные фрагменты». Читатель сначала воспринимает движение, звучание, мерцание, а затем уже начинает замечать движущиеся, мерцающие, звучащие предметы, которые в конце концов снова растворяются в каком-то мареве: фрагменты вместо целого; видимость, расплывающаяся как мираж.
В своем творчестве Леклезио постепенно шел от абстракции к реальности. Наиболее полным этот переход ощущается в романе «Великаны», действие которого отнесено в неопределенное будущее. Писатель вновь обращается к теме «цивилизации потребления», но на этот раз он изображает отдаленные результаты ее развития. При этом, в отличие от своих соотечественников Веркора и Коронеля, в романе «Квота, или Сторонники изобилия» исследовавших процесс становления «цивилизации потребления», Леклезио показывает ее как уже давно
сложившийся и поддерживаемый на неком стабильном уровне общественный уклад.
Важно отметить, что роман «Великаны» находится на переломе творчества писателя от первой манеры ко второй, от подчеркнуто модернистской к условно-реалистической. Задавая все те же проклятые вопросы, хорошо знакомые нам по предыдущим произведениям, Леклезио впервые пытается ответить на них, а проблемы пагубных последствий научно-технической революции получают в романе точное социальное наполнение. Отличительной чертой «Великанов» является и то, что в них впервые автор не просто рисует ужасающие картины существования людей, но и пытается дать ответ на извечный вопрос «Что делать?», призывая к открытой борьбе.
Взгляды Леклезио на способы этой борьбы весьма специфичны. Писатель убежден в том, что она должна начаться с освобождения слов, человеческой речи, закабаленных Хозяевами. Согласно авторской концепции, на смену «мертвым», выражающим мысль словам должны прийти так называемые «настоящие» («vrais») слова, существующие вне мысли, вопреки ей. Это будут слова-противоядия, и, как только люди научатся выражаться с помощью этих, еще не рожденных слов, жизнь вновь станет свободной и достойной человека. После освобождения посредством слов, наступит освобождение посредством Поэзии, Красоты, Любви.
Леклезио, подобно графическим художникам Востока, переполняет свою книгу различными, часто причудливыми и суггестивными, рисунками и рекламой. Основная цель, которую преследует автор -максимально точно воссоздать реальность, сделать механизированный мир доступным для глаз, ушей, мысли, используя при этом средства самой реальной действительности.
Задача воссоздания реальной действительности представляется писателю невероятно сложной, в силу того, что возможности книги
ограничены и, выражаясь словами Леклезио, «она нема». Заставить же роман «заговорить» так, чтобы он захватил не только ум и чувства читателей, а все их существование, возможно лишь соединив таинственное и реальное, возвышенное и обыденное. Именно поэтому в «Великанах» страстная проповедь сменяется сухой, деловитой, «клинической» констатацией, холодная объективность повествования -апокалиптическим пророчеством. Добавим сюда все богатство и многообразие печатной графики, которой смело пользуется писатель и получим исчерпывающую характеристику стилистической манеры Леклезио.
Одной из важных задач, которую пытается решить Леклезио в своем романе, является преодоление барьера слов, оделяющего литературу, как от чувственного мира, так и от непосредственного переживания. Максимально полное и непосредственное воспроизведение реальной действительности возможно лишь в том случае, если будут задействованы все, без исключения, чувственные способности человека. С целью сделать действительность доступной для глаз, писатель использует все богатство и многообразие типографского шрифта, встречается даже шрифт печатной машинки. На одной и той же странице строки могут быть расположены на разном расстоянии, иногда они выстроены в два столбца; отдельные слова подчеркнуты, другие - увеличены до невероятных размеров. Буквы, цифры, знаки сосуществуют в перемешанном виде, образуя своеобразный рисунок.
Язык «Великанов» отличается особой интенсивностью; он находится в постоянном движении, помогая передать страх писателя перед чудовищно-бесчеловечными законами и порядками Гиперполиса. Глагол доминирует над прилагательным и существительным, что придает фразе особое звучание, способствует созданию особого ритма, отличающегося повышенным напряжением. Такой ритм призван передать
реальность, в которой нет больше места отдыху, тишине, любви, мкр, ритм которого не совпадает с ритмом человеческого сердца.
Леклезио неоднократно говорил о своей склонности описывать «то, что не агрессивно», что вызывает симпатию. Термину «взаимопомощь» он отдает предпочтение по ¿равнению с термином «борьба», потому что «источник жизни - радость, невинность, а вовсе не власть над другими». Своему новому видению мира писатель будет верен во всех произведениях третьего периода. На смену тиранам и монстрам придут простые люди, которым не знакома агрессия. И как следствие, со страниц его книг исчезнут такие слова-мотивы, как «бегство», «лихорадка», «война».
Третья глава начинается с анализа романа «Путешествия по ту сторо!гу» (1975), открывающего следующий, неоромантический период в творчестве Леклезио. Писатель выступает «певцом» высшего смысла жизни, постигаемого сердцем. Он узнает высшие ценности жизни и говорит с позиций человека, пропагандирующего ее высшие идеалы. Писатель уже не так открыто критикует нравы общества за их бессмысленность, бездуховность и бесчеловечность. Он уже не бичует и «потребительскую цивилизацию» за ее несправедливость, неразумность и неестественность.
Леклезио выступает против сведения человеческой жизни к биологическому функционированию или индивидуально замкнутому бытию, к бессмысленному прожиганию жизни или эгоистическому существованию. Писатель в этот период отстаивает общечеловеческие ценности и озабочен «счастьем для всех».
Перебросив мост из мира реального в мир трансцендентальный, Леклезио показывает, что рядом с обыкновенной жизнью существует другая жизнь, где все становится значительным, где ничто больше не забывается. Каждое самое простое, обыкновенное явление, помимо своего
прямого значения, заключает в себе еще высший таинственный смысл, постичь который может далеко не каждый.
«Путешествия по ту сторону» нельзя назвать в полном смысле фантастическим романом. Однако для обозначения жанра произведения вполне употребим термин «метафизическая фантастика», указывающий на сосуществование в нем реального и ирреального.
В феврале 1978 г. Леклезио опубликовал подряд две книги, «Мондо и другие истории» (Mondo et autres histoires) и «Незнакомец на земле» (L'Inconnu sur la terre). Первая из них представляет собой сборник новелл, вторая названа эссе (essai). Трактуя одни и те же темы (тему мальчика-короля и тему поисков счастья), эти произведения в некотором роде дополняют друг друга.
Леклезио не прибегает к грандиозным метафизическим образам, характерным для первых произведений писателя. Напротив, космос, развертывающийся перед глазами читателя, сводится к вполне конкретным, обыденным элементам - свет, море, гора, небо. Нет больше и экзистенциальной тоски, которая всегда присутствовала в ранних текстах Леклезио. Она исчезла, уступив место поискам счастья, обыденного повседневного счастья, простой и бесхитростной радости, самой простой и самой бесхитростной, какую только может узнать человек.
Разумеется, подобное изображение мира оказывается значимым только с учетом общей сложности произведений Леклезио, его концепции космоса, бесконечного во времени, существовавшего до нашего рождения и продолжающего существовать после нашей смерти, бесконечного в пространстве и проявляющегося в многообразных формах извечной материи. Это с неизбежностью вызывает чувство тоски - чувство непреодолимое, поскольку избавиться, уйти от него пытаются с помощью ложных ключей, техники, машин, разума, знания.
Персонажи сборника «Мондо и другие истории» - подростки, которые предстают одновременно как реальные и волшебные. В книге
«Незнакомец на земле» сам Леклезио произнесет: «Дети волшебны». Подобное отношение к ребенку представляется ключевым для обеих книг. При этом обладать волшебством, присущим детям, в конце концов стремимся мы, взрослые. Сами же подростки страстно желают лишь одного - свободы, то есть именно того, в чем наш сегодняшний мир отказывает нам, взрослым. У детей, какими их изображает Леклезио, есть время для того, чтобы жить и погружаться в загадочный, полный тайн и чудес мир природы, проникать в глубь вещей, в результате чего эти вещи обретают реальное существование, в то время как мы, наоборот, убиваем их своим безразличием, своей неуравновешенностью, своей жестокостью.
Все дети на страницах рассказов Леклезио ревностно стремятся отстоять и сохранить свою свободу. Не случайно многие из них внезапно появляются и самым неожиданным образом исчезают; вокруг них, пришедших неведомо откуда, возникает аура тайны, ореол загадки, атмосфера таинственности. И если существуют какие-то узы, связывающие персонажей Леклезио с миром обыденности, они легко оказываются мнимыми.
Эта свобода необходима персонажам Леклезио для того, чтобы воспринимать окружающий их мир, чтобы иметь возможность проникнуть в суть вещей, понять их. Дети в рассказах Леклезио видят то, что недоступно нашему, взрослому зрению, они способны увидеть, а не просто заметить людей, природу, космос. Увидеть нечто - значит вызвать его к жизни, придать этому нечто существование, экзистенциальную значимость и значительность.
Такая непосредственность поведения, означающая не только внутреннюю свободу, но и принципиально иную, чем у взрослых, ценностную иерархию различных элементов бытия, с неизбежностью вызывает у читателя чувство смутного беспокойства, ощущение неудовлетворенности, направленное не столько на художественный текст, сколько на самого себя.
Увидеть что-либо означает для героев Леклезио возможность постичь, понять, сделать это что-то частью бытия. Так универсум рассказов оказывается населенным животными, которых можно обнаружить, открыть для себя, наконец, полюбить. Какими бы маленькими и незаметными, не-обнаруживаемыми ни казались они взрослым, персонаж Леклезио способен одним взглядом проникнуть в них и тем самым вызвать к жизни, ввести в мир, идет ли речь о рыбах, крабах в их норах, пауках или кузнечиках в траве.
Самый хрупкий дар персонажей Леклезио - это умение расшифровывать вещи, предметы, материю, мир, - не воображая их себе, но переживая их, живя ими, ассимилируя их путем непосредственного опыта. Дети погружаются в этот мир, становясь его частью, и одновременно вбирают, впитывают его в себя, сливаются с ним.
Как и в прежних своих произведениях, Леклезио уделяет большое внимание не только визуальному изображению, но и звукам, которыми буквально пропитан создаваемый им универсум; эти звуки также имеют отношение к миру тайны, загадочности, волшебства.
Книгу "Незнакомец на земле", жанровая природа которой вряд ли допускает четкое однозначное определение, Леклезио снабдил подзаголовком «эссе». Это произведение представляет собой своеобразный лирический дневник, содержащий цепочку медитативных размышлений, которые следуют друг за другом, повторяются без какого-либо видимого логического порядка; их объединяет не четкая рациональная последовательность и даже не нарастание лирического чувства, но образ ребенка, который возникает в самом начале текста и, периодически появляясь и исчезая, присутствует в тексте до самого конца. Не случайно Леклезио охарактеризовал свой текст как «историю неведомого мальчика, который наугад разгуливает по земле, невдалеке от моря, немного теряясь в облаках, и который любит бесконечный свет дня», объясняя этот образ следующим образом: «Речь идет о неведомом
ребенке, в котором есть немного от меня и немного от вас, который гуляет наугад и смотрит на вещи, не объясняя их».
В «Незнакомце на земле» мы вновь встречаем столь дорогие сердцу Леклезио фантасмагорические видения. Как и в «Материальном экстазе», как и в сборнике «Мондо и другие истории», это особое видение вселенной, которая представляет собой неделимую, неразрывную, единую материю.
В этот мир, отличающийся огромным разнообразием и бесконечной красотой, нелегко проникнуть, его трудно уловить. Для того, чтобы достичь счастья, автор предлагает отказаться от рассудка, от логического анализа, от любых интерпретаций, от какой бы то ни было последовательной философии. Леклезио взывает к чувствам, к некой чувственности (sensualité), понимаемой в самом широком значении слова, утверждая, что лишь они Moiyr стать волшебным ключом, открывающим дверь в этот замкнутый мир.
Со сборником «Мондо и другие истории» книгу «Незнакомец на земле» роднит общая тема поисков счастья-света, постоянно обновляющегося счастья, которое открывает перед душой новое видение окружающего нас универсума. Как и в сборнике рассказов, здесь мы встречаем гимн видимому и осязаемому миру вокруг нас—морю, облакам, деревьям, животным. Но особое внимание Леклезио уделяет тому невидимому миру, который присутствует в бесконечно многообразных и изменчивых формах, смешивается с первичной силой солнца и камня, воды и неба, заставляя нас пускаться в пучь по неизведанным дорогам сакрального.
При том, что Леклезио остается в границах земного, он настолько настойчиво проводит тему света (и, соответственно, взгляда), превращая ее в постоянный лейтмотив своих произведений, что свет и взгляд приобретают в некотором смысле мистическую окраску. Рождается нечто вроде гипнотической маши, объединяющей с различные элементы
космоса, растворяющейся в бесконечно многообразном универсуме. Это новая мистика, призванная изменить миросозерцание человека.
В книгах «Мондо и другие истории» и «Незнакомец на земле» тон повествования, сам стиль становится как нельзя более простым. Лекяезио использует лаконичные фразы, в которых при помощи простых перечислений рассказывает, что делают, о чем думают персонажи и что их окружает. Стиль описаний также отличается простотой, лаконичностью и определенностью. Писатель постоянно стремится найти точное и емкое описание, нередко подкрепляя визуальный образ звуковыми и даже тактильными характеристиками
Леклезио стремится к объективной презентации персонажей, изображая их «в интерьере», в естественной среде, . практически отказываясь от вмешательства автора-повествователя.
Упрощение стиля по сравнению с предыдущими книгами Леклезио проявляется и в отказе от постоянно использовавшихся им ранее типографских приемов, а также коллажей, реминисценций и цитат.
Характерной чертой рассматриваемых книг представляется смешение реальности и мечты, реального и нереального. Для перехода от одного регистра к другому используются специальные слова-маркеры. Важную роль в процессе перехода от реального к ирреальному играют сравнения, которые всегда используются как бы мимоходом, без подробной развернутой характеристики объекта. Как правило, Леклезио отказывается от конкретных, полных сравнений, предпочитая им приблизительные, которые лишь намекают на сходство двух микрообразов, устанавливая определенное равновесие между реальным, фактически существующим и возможным, вероятным, данным лишь в потенции
Нередко в одной и той же фразе реальный мир превращается в фантастический, а внешний мир превращается в проявление внутреннего экстаза. Подобная гибкость, смешение в единое целое души и объектов
внешнего мира характерны для стиля Леклезио. Вещи оказываются знаками, объединяющими человека с космосом, становятся посланиями, текстами, которые обращены к человеку, говорят с человеком и могут его многому научить.
«Мондо и другие истории» и «Незнакомце на земле» Леклезио не проявляет себя как философ столь имплицитно, как в предыдущих своих произведениях. Смешение фантастического и реального носит здесь в первую очередь не идейный, а стилистический характер, позволяет писателю добиться поэтичности высказывания, которое становится уже суггестивным: художественное слово призвано выразить единство человека и космоса.
В центре конфликта романа «Пустыня» (Désert, 1980) оказывается столкновение двух миров, двух культур, противоположных по своей ценностной ориентации, по мироощущению, поведенческим, этическим и эстетическим нормам. Конфликт между двумя антагонистичными культурами представлен в романе на двух различных уровнях. С одной стороны, рассказ о населяющих пустыню кочевниках, сопротивляющихся проникновению материалистического мира «христиан» и в конце концов терпящих поражение, превращается в повествование о национальной судьбе расы. С другой стороны, счастливое существование живущей в пустыне девушки, юной Лаллы, которая оказывается все в том же западном мире, но на этот раз организованном - мире современного большого французского города, - предстает как изображение того же конфликта на уровне индивидуальной человеческой судьбы.
Леклезио стремится визуально разграничить два сюжетных пласта, используя для этого типографское выделение, подчеркивающее их независимость и обособленность. Вместе с тем, обе сюжетные линии развиваются параллельно, повествование об истории кочевников чередуется с рассказом о судьбе Лаллы, причем автор вводит в описание
жизни героини знаки, с помощью которых устанавливается имплицитная связь этих сюжетных пластов.
И побежденные воины, и разочарованная Лалла - все возвращаются в пустыню: они являются носителями идеала свободы, независимости, морального достоинства и даже некоторой святости, идеала, неподвластного поражению и стоящего значительно выше, чем материалистический идеал Запада.
Показывая жизнь кочевников, их борьбу и поражение через восприятие мальчика Нура, а современный мегаполис - глазами юной Лаллы, Леклезио получает возможность как бы двойного отстранения от столь ненавистных ему «индустриальной цивилизации», «механической цивилизации», «материального мира», которым противопоставлены уже не только «естественная» культура Пустыни, но и «чистый», «природный» взгляд ребенка.
Если события, связанные с рассказом о борьбе и поражении кочевых племен, предстают в романе как история становления мальчика Нура, то второй сюжетный пласт романа посвящен «воспитанию» Лаллы, юной девушки, которая, подобно Нуру, является своеобразным символом, выражающим неисчерпаемые жизненные силы пустыни. При этом в отличие от Нура, движущегося «прямолинейно», то есть проходящего путь от мальчика-подростка, стремящегося влиться в коллектив взрослых, стать полноправным членом сообщества, принадлежность к которому очевидна и для него, и для окружающих, движение Лаллы скорее можно представить в виде параболы, предполагающей удаление от исходной точки и последующее возвращение ка тот же уровень, но уже в новом качестве: подобно персонажам сборника «Мондо и другие истории», Лалла переживает своеобразную инициацию, заключающуюся в гибели прежней наивной девочки-подростка и возрождении ее в новом качестве -Матери, олицетворяющей бесконечность, преемственность и нескончаемость мира Пустыни.
Наделяя образ Лаллы функциями носителя, защитника и продолжателя культуры кочевников, подчеркивая глубинную связь этого образа с миром Пустыни, Леклезио имплицитно соединяет оба сюжетных пласта романа, которые предстают как два варианта постановки одной и той же проблемы невозможности сосуществования антагонистичных культур.
В Заключении подводятся итоги исследования и делается вывод о том, что Леклезио прошел харакгерный для французской литературы второй половины XX века путь от экзистенциализма к неоромантизму. Он увидел высший смысл жизни в полном и безоговорочном слиянии со всей живой и неживой материей, которое возможно в момент трансцендентного постижения «обратной», невидимой взору стороны бытия. Леклезио ратует за возвращение человека в его естественное состояние. Человек тропических джунглей для писателя намного нравственней человека «джунглей асфальтовых», ибо сущность первого не искажена воздействием «цивилизации потребления» и может беспрепятственно проявлять свой витализм, уживающийся с верой в трансцендентальное.
Краткий обзор творчества Леклезио в 80-90-е годы свидетельствует о том, что, несмотря на тематические и жанровые изменения, расширение диапазона художественных средств, неизменной в его творчестве осталась удивительная открытость любым поворотам философской и социальной мысли, которые под пером писателя обретают художественную достоверность и убедительность.
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях автора:
1. «Вулканические» тексты Ж.-М.Г. Леклезио: к проблеме филологического анализа// Текст в гуманитарном знании. Материалы межвузовской научной конференции 22-24 апреля 1997г. - М., 1997. - С. 224-229.
2. Идейно-тематический анализ эссе Ж.-М.Г. Леклезио «Материальный экстаз». - М„ 1998. - 24 с. - Рукопись деп. в ИНИОН РАН №53440 от 13 апреля 1998 г.