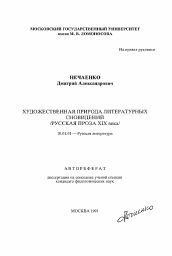автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Художественная природа литературных сновидений
Полный текст автореферата диссертации по теме "Художественная природа литературных сновидений"
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. ЛОМОНОСОВА
На правах рукописи
НЕЧАЕНКО Дмитрий Александрович
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЛИТЕРАТУРНЫХ СНОВИДЕНИЙ /РУССКАЯ ПРОЗА XIX века/
10.01.01 —Русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
МОСКВА 1991 и<1
ОУ
Работа выполнена на кафедре истории русской литературы Литературного института им. А. М. Горького Союза писателей СССР.
Научный руководитель — доктор филологических наук,
профессор В. В. Осношш.
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук В. 10. Троицкий кандидат филологических наук Д. П. Ишшскнп
Ведущая организация — Московский Государственный
педагогический университет им. В. И. Ленина.
Защита состоится« £ » 1991 г.
в /б часов на заседании Специализированного совета Д—053.05.11 по истории русской литературы при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Адрес: 119899, Москва, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке МГУ.
Автореферат разослан « / » /*ОЯ>дАА 1991 г.
Ученый секретарь Специализированного совета кандидат филологических наук
А. М. Песков
Сновидения в художественной литературе - тема для исследования лишь по видимости экстравагантная, а по сути исключительно пер-, спективная и плодотворная. Здесь литературоведение могло бы с успехом позаимствовать опыт сопредельных гуманитарных наук, издревле испытывавших пристальный интерес к сну как важнейшей сфере человеческого бытия, как форме наиболее интенсивного и яркого проявления бессознательных психических процессов..
Еще Аристотель в трактатах "О сне" и "О вещих сновидениях" предположил, что сновидения есть не "язык богов" или '"странствия души", а явления, вытекающие из самой сущности'человеческого духа и представляющие собой результат специфической деятельности мозга^. Петроний Арбитр, ссылаясь на авторитет Эпикура, отмечал:
Сны, что, подобно теням, порхая, играют умами, Не досылаются нагл божеством ни из храма, ни с неба, Всякий их сам для себя порождает, покуда на ложе Члены объемлет покой и ум без потехи резвится,
о
Ночью дневные дела продолжая... В поэме "О природе вещей" Лукреций Кар характеризует сновидения как воспроизведение представлений, которые переживались сновидцем в состоянии бодрствования, опережая при этом течение повседневной
о
жизни человека. Вышеприведенные суждения выделены нами по их близости к современным естественнонаучным предетавлениям о специфике сновидений.
Дальнейиее многовековое развитие исследований, посвященных психофизиологической природе сна и связанных с именами П.Кабаниса, Ж.Ламетри, Г.Нудова, Г.Лейбница /ввел понятие "бессознательного"/, Санте де Санктиса, И.М.Сеченова /по определению которого, сновидения - "небывалые комбинации бывалых впечатлений"/, привело не толь-
1 Arisioteles, Kleine nalurwibSenschaf-Qiclie Stfiriften /Parva NaturaliaS/. - "Leipzig, 1924.
г Петроний Арбитр. Сатирикон. - М.*, Л.,, 1924. С.165.
^ Подробнее см.: Кузьмин Е.С., Якунин S.A. Психологические воззрения в античную эпоху. - Л., 1984.
ко к появлению фундаментальные работ З.Фрейда "Толкование сновидений" /1900/ и "Психопатология обыденной жизни" /1901/, к обширным опытам И.П.Павлова''', но и к. наполнению этой темы эстетической проблематикой /Г.Шуберт, Кан Поль, А.Шопенгауэр, К.Абрагам, Ф.Фишер, К.Юнг/.
Имеются в виду, конечно,, не столько творческие озарения во сне, хотя и здесь история знает немало красноречивых примеров. Так, Коль-ридж,, по его свидетельству, "создал" в процессе снов около трехсот стихотворений, несколько десятков из которых успел запомнить и записать; Державину приснилась в готовом виде последняя строфа оды "Бог", а Грибоедову - сюает "Горя от ума". Сочиняли во сне стихи Данте, Петрарка, Вольтер, Лафонтен, Пушкин..»
Но в данном случае речь идет прежде всего об изучении художественных функций сновидений, издавна появлявшихся в фольклорных и литературных памятниках. И в отечественной словесности таким ониричес-ким /т.е. сновидным/ фрагментам несть числа: это и "мутен сон" князя Святослава в "Слове о полку Игореве", и сны протопопа Аввакума, и сновидяые гротески фонвизинского ¡/штрофана, грибоедовской Софьи Фамусовой, пушкинской Татьяны Лариной, голстоважого Стивы Облонского „ гоголевских Шпоньки, Сквозник-Дмухановского, Коробочки, Ноздре-ва. Некоторые персонажи /Пискарев, Анна Каренина или Василий Логин в романе Ф.Сологуба "Тяжелые сны"/ переживают по ходу развития повествовательного сюжета целые циклы непредсказуемых, таинственных, фантасмагорически "ночных грез", существенно дополняющих, а порой и определяющих их художественно-психологический облик, их характер и манеру поведения как литературных типов. Напряженным внутренним драматизмом насыщена знаменательная (фраза пушкинского Бориса Годунова - фраза, в которой, без преувеличения, заключена доминанта трагической сюжетной и исторической судьбы горемычного русского царя:
См.: Павлов И.П., Воскресенский Л.Н. Материалы к физиологии сна. - В кн.: Павлов И.П. Полн. собр. соч. Т.З, кн. I,- М.; Л.,1351.
"...тринадцать лет мне сряду все снилося убитое дитя!" Здесь ситуативная доминанта сна полностью совпадает с драматургической доминантой художественно-психологической жизни и поведения Годунова, которого томят беспрестанные укоры совести, связанные о роковой гибель» малолетнего цесаревича.
К постижению диалектически взаимосвязанных, вечных нравственно-мировоззренческих антитез добра и зла, веры и неверия, преступления и покаяния, к духовному обновлению и "воскресению души" многие герои русской классики /Пьер Безухов, Андрей Болконский, князь Касатский, Раскольников, Ипполит Терентьев, Дмитрий и Алексей Карамазовы, "смешной человек" Достоевского/ приходят в результате углубленных раздумий над тайным смыслом явившихся им сновидений. В книгах И.А.Гончарова "Обломов", Ф.Ы.Достоевского "Преступление и наказание", Н.Г.Чернышевского "Что делать?" сны центральных персонажей приобретают настолько важное идейно-философское и художественное значение, что могут уже рассматриваться как своеобразный "роман в романе", т.е. как некое относительно самостоятельное внутри-жанровое образование, целостный повествовательный комплекс со своими специфическими законами, своей структурой и образно-символической логикой.*
Коротко говоря, в ходе развития литературы сновидения исподволь становятся исключительно емкой, и выразительной формой художественного языка. Вместе с тем это крайне важное обстоятельство, этот знаменательный и очевидный факт литературной истории до сих пор не получили сколько-нибудь систематического, всестороннего научного осмысления. Несмотря на существование целого ряда глубоких, содержательных статей, посвященных разбору сновидений в конкретных произведениях отечественной классики /НЛЗ.Страхов, С.Г.Бочаров, В.М.Маркович, Р.НЛоддубная, О.Б.Улнбина, Г.1С.Щенников и др.,/
* О характеристике некоторых литературных сновидений как "вставных >велл" в романном повествовании см.: Старосельская Н.Д. Вставная
новелл" в романном . _ новелла в русском романе XIX века. - В сб.: Писатель и жизнь. -М., 1987. С.177-179.
даже с учетом наличия зарубежных работ о литературных сновидениях /А.Беген, Ф.Прескотт, К.Кодуэлл, Х.Борхес, Р.Мортимер/, мы по-прежнему останавливаемся зачастую в растерянности перед океаном снов, донесенных до нас за истекшее тысячелетие русского словесного искусства.
Обращение к вопросу генезиса, идейно-художественной проблематики, поэтики и типологии персонажных сновидений русской прозы с целью определения их места и значения в историко-литературном процессе первой половины XIX века обусловливает актуальность данного исследования.
Отсюда дели и задачи предлагаемой диссертации - изучить художественное своеобразие формы "сновидение", как она откристаллизовалась в отечественной беллетристике^ к 1830-м годам. Естественно, что правомерность самого выбора определенного исторического периода, к которому отнесено начало широкого бытования формы "сновидение", проистекает из усилий по выяснению происхождения и становления названной формы художественного языка. Вместе с тем закономерное стремление проследить последующее развитие и многообразные трансформации онирической поэтики побздало к проведению дальнейших исследовании. Некоторые их итоги, относящиеся к русской прозе второй половины XIX века, отражены в Приложении к диссертации.
Таким образом, н§£чная_новизна работы связывается с постановкой и систематическим рассмотрением указанных проблем.
Мате£и^м_исследования явились, наряду с прозой русских романтиков и Н.В.Гоголя, отечественные фольклорные и литературные
Идейно-художесгвенная роль литературных сновидений в лирике и. драче не менее значительна и так же до сих пор всерьез не изучена. Многообразные интерпретации поэтических представлений о сокровенных таинствах сна бесчисленны. Б отношении русской драматургии укажем.лишь для примера, на ряд пьес А.Н.Островского, где сновидения действующих лип даны не только эпизодически /сны купчих, сны Катерины в "Грозе"/, но и на жанрообразующем уровне /комедия "Воевода, или Сон на Волге"/.
произведения Х1-Х1Х вв., русская поэтическая классика. При необходимости для сопоставлений, обобщений и выводов привлекались соответствующие памятники зарубежных литератур прошлых столетий и сочинения писателей текущего, XX века.
Методом_исследования стал системный подход, выражающийся в сочетании принципов сравнительно-исторического и теоретико-типологического анализа необходимых текстов.
Практическое значение работы. Материалы и результаты осуществленного исследования применимы в общих курсах по истории русской литературы и по теории литературы, при разработке специальных курсов и семинаров, при изучении проблемы творческих взаимодействий литературы, других видов искусства и религии, мифологии, философии,, а также для историко-культурных комментариев при издании художественных текстов, составлении антологий.
Апробация диссертации. Диссертационный материал, основные положения и выводы проведенного исследования были изложены в форме докладов и сообщений на заседаниях аспирантского объединения /1987г./, кафедры русской литературы Литературного института /1988г./, в цикле лекций в рамках курса Истории русской литературы в Литературном институте /1988г./, во время выступлений на всесоюзных Толстовских чтениях /1988г./, на заседании объединения московских литературоведов и критиков /1989г./, в обществе культурного содружества "Литературный коллоквиум" /Западный Берлин, 1989 г./.
0бъем_и_ст£2ст2£§_2аботы. Диссертация состоит из Введ^Ои^ трех глав, Заключения и Приложения.. В библиографическим аппарат входят постраничные примечания и список основной литературы.
Во Введении после краткого обзора имеющейся литературы по теме обоснован вывод о необходимости и актуальности изучения художественного своеобразия сновидений в русской литературе и - конкретно - прозе XIX века. Определяются в связи с этим цели и задачи
диссертации, формулируются методологические и аналитические принципы работы.
Первая глава диссертации - "Генезис художественных мотивов включения сновидений в русские фольклорные и литературные памятники /до XIX века/" - открывается разделом о бытовании и соотношении понятий "жизнь"и "сон" в памчтниках словесного творчества древности и средневековья.
Показано, что сновидение как форма /или способ/ наиболее тесного общения человека с "таинственными мирами иными" /Ф.М,Достоевс-кий/ занимает исключительно важное место в преданиях всех без исключения ведущих мировых религий: христианства, ислама, буддизма, индуизма, иудаизма. Одна из ближневосточных легенд повествует, что .основоположник ислама Мухаммед стал пророком после пережитого км вещего сновидения-'-. Обстоятельства появления на свет Будды также связаны с пророческим сном его матери, супруги древнего индийского
о
царя'0. Во время сна Господь открыл первому ветхозаветному патриарху Аврааму завет свой относительно земли Обетованной, а также предсказал дальнейшую судьбу иудейско-израильских племен /Бытие. 15; 12-16/. И, наконец, на первой же странице Нового Завета можно прочесть о тон, что благая весть о скором рождении Иисуса Христа принесена на землю Ангелом Господним, явившимся Иосифу в чудесном сновиденье /Матф. I; 20-24/.
Бее эти факты столь же красноречивы, сколь и не случайны. Именно они позволили исследователям первобытной культуры предположить, что как раз сновидение, этот таинственный и до сей поры малоизученный феномен психической жизни, способствовало зарождении первых религиозных верований, натолкнуло древних людей на мысль о существовании души - т.е. некой латентной субстанции, обитающей в человеческом организме и покидающей его в период сна с тем,
1 См.: Бигелоу Д. Тайна сна. - СПб,, 1906. С. 39-40.
Р
См.: Ольденбург С.Ф„ Еизнь Будды, Индийского Учителя лизни.-Пг., 1919. С. 7-9.
чтобы странствовать по свету, бывать в "потусторонних" сферах, предрекать сновидцам их будущее.* Более того- само возникновение и природа искусства как творческого процесса нередко соотносятся со снами, их запоминанием и последующим пересказом. "Когда человек стал рассказывать сны, - полагал З.Б.Шкловский, - и начал рисовать на стенах пещеры - это первое, что удвоило ему жизнь"2, т.е» послужило отправной точкой всей разнообразной художественной деятельности, включая сочинение фольклорных и литературных лроиз-
п
ведений, сюжетов. "Художество есть оплотневшее сновидение , - отмечал П.А.Флоренский, обосновавший опоэтизированную метафизическую теорию сновидений в русском православии. Известный трактат философа "Иконостас", замечательное исследование по истории христианской иконописи, открывается характеристикой сновидения как уникального психического состояния на границе соприкосновения двух миров -"мира видимого" и "мира невидимого". "Сон, - по определению выдающегося богослова, - вот первая и простейшая, т.е. в смысле нашей полной привычки к нему, ступень лизни в невидимом... Сон восторгает душу в невидимое и дает даже самым нечутким из нас предощущение, что есть и иное, кроме того,' что мы склонны считать единственно жизнью".^
В "Деяниях святых Апостолов" можно встретить следующее предсказание Бога: "Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут" /Гл. 2, 17/.
* См.: Гайлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1389. С.97-98,,
212-215, 218-240.
2 См.: Литературное обозрение. 1990, Ж>. С.93.. а Флоренский П.А. Иконостас. - В сб»: Богословские труды.
Вып. IX. - М., 1972. С.89.
^ Флоренский. П.А. Иконостас. С.83.
А ветхозаветный пророк Даниил свидетельствует, что в сновидении Господь "открывает глубокое и сокровенное", тайные "помышления сердца" человеческого /Кн. Пророка Даниила. 2", 22, 30/. Красочные описания вещих сновидений древних мифических героев, государственных и политических деятелей, полководцев включают сочинения Гомера, Плутарха, Лукиана, Светония, Вергилия, Элиана, Цицерона.
Сновидные мотивы античной словесности развиваются в культуре позднего средневековья и Возрождения, причем усиливается интерес к сновидению не только как к жанрообразующему фактору, но и как к универсальной модели общемирового человеческого бытия /скульптура Микеладцжело "Ночь", его же живописное полотно "Сон человеческой жизни", монолог герцога Просперо з шекспировской "Буре"/. Поистине грандиозным литературным созданием на древнейшую в культуре* тему "жизнь есть сон" стала в период расцвета барокко одноименная философская драма-притча Педро Кальдерона /1636/, повлекшая за собой, в свою очередь, многообразные и бесчисленные художественно-философские парафразы /"Левиафан" Т.Гоббса, "Мир как воля и представление" А.Шопенгауэра, пьесы Ф.Грильпарцера"Сон- целая жизнь" и А.Стрицд-берга "Игра сновидений", предисловие В.Брюсова к его книге. "Земная ось", роман Г.Иванова "Распад атома" и т.п„/.
Воздействие творческого наследия и мировоззренческого опыта мировой культуры на культуру отечественную учтено нами, при раскрытии темы следующего раздела первой главы - "Видения" и "сны" в древнерусской литераторе: диалектика духовного и эстетического".
С современной точки зрения, еще в ранневизантийской литературе /легенда о поваре Евфросине и его путешествии в райский сад?/ возникает слокный синтез элементов мотивированной /дело происходит во сне/ и немотивированной /неясно, каким образом райские плоды
1 См.: Руднев В, Культура и сон. - "Даугава", 1990, № 3. С.121-
2 См.: Византийские легенды. - 1., 1972. С.181-183.
из сновидения перекочевали в явь/ (фантастики. Таким образом формируются принципы поэтики, органично сочетающей каузальную обусловленность с отсутствием рациональной мотивировки. Похожая на жизнь фантастическая реальность сна многозначительно противопоставлена здесь прозаической реальности обыденной жизни.
В древнерусских апокрифах можно обнаружить и иную модель литературного сна - когда, по словам Достоевского /"Сон смешного человека"/, персонаж как бы "перескакивает через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливается лишь на точках, о которых грезит сердце". Так, в апокрифе "Паралипомен Иеремии" повествуется о юноше Авимелехе, который, неся корзину спелых смокв, присел отдохнуть в тени дерева и заснул. Проспав 66 лет, он наконец проснулся и обнаружил, что собранные им плоды чудесным образом не утратили своей первоначальной свежести: из них по-прежнему капал сок-*-. В этом /и многих ему подобных/ текстах естественно видеть, пользуясь определением Шеллинга, представление о "мире как смешении бесконечного и конечного начал в чувственных вещах"^.
При этом для средневековых авторов первостепенно важным является то обстоятельство, что знамения и пророчества, выражающиеся в видениях и снах, могут исходить соответственно как из сферы божественных эмпиреев, так и из глубин мрачного демонского "подполья", т.е. бывают либо истинными, заслуживающими серьезного внимания, либо - обманчивыми, "прелестными", рассчитанными на испуг,растерянность и легковерие визионера /рассказ в "Синайском патерике" о "некоем пресвитере", которому во время церковной службы явились демоны в женском обличье; история священника Матвея в Лаврентьев-ском списке "Повести временных лет" и др./.
т
См,: Памятники отреченной русской литературы, собр. и изд. Н.С.Тихояравовым. Т.П. - СПб.; М., 1863. С.97.
о
л Шеллинг Ф--В. Философия искусства. - М., 1966. С .139.
На основании изученного материала можно выделить два основных типа персонажных видений, распространенных в древнерусской письменности: так называемые видения "наяву", когда герой повествования воспринимает их хотя и без трезвого понимания эмотивной, ирреальной природы своих галлюцинаций, но в состоянии бодрствования , и собственно сно-видения, переживаемые спящим подсознательно и безотчетно. Теологическая символика последних, как правило, довольно ясна, причем ее достоверному художественному воплощению в текстах нередко способствуют определенные реалистические элементы изображения, конкретизирующие и мотивирующие "чудо", призванные убедить читателя /слушателя/ в истинности предзнаменования. Гипотетически подразумевавшееся доверие читателя к очевидности чудесных событий отнюдь не освобождало писателя от необходимости в совершенстве владеть всем богатым арсеналом художественных средств, способных тонко воздействовать на читательское здравомыслие, вывести его за границы общепринятой логики, свойственной аналитическому рассудку, не расположенному к соучастию в мистических несообразностях,. Не случайно в переводе /Х1Ув./ "Диалектики" Иоанна Дамаскина подчеркнуто: "Художество есть всака /т.е. всякая - Д.Н./ словесна хитрость: граматикия, риторикия и сицеваа /и тому подобное - Д.Н. Л1.
По замечанию ФЛ.-Буслаева, "вера в действительность описываемого необычайного случая не только не мешала поэтическому интересу, но даже усиливала его, очищала фантазию от праздной мечтательности и придавала воображению необыкновенную живость в представлении того, что описывается" .
Особое внимание привлекают видения и сновидения, описанные в "Китии" протопопа Аввакума, который в совершенстве /для своего времени/ освоил тот способ повествования, когда сообщая о безусловно
Цит. по: Прохоров Г.М. Памятники п'^еводной и литера-
туры ХЕУ-ХУ веков. - Д., 1987. С.92»
2 Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народно.. сл;>еи:. «,-ти и искусства. Т.2. - M., 1361. С.239.
фантастическом , необычайном, автор тем не менее исподволь внушает читателю убеждение в несомненности и чуть ли не в заурядности этого фантастического /"ино нечему дивитца"/ и одновременно оставляет возможность двоякого толкования ситуации /"ста предо мною, не вем -ангел, не вем - человек, и по се время не знаю"/.
Итак, большинство литературных снов, встречающихся в памятниках древнерусской словесности, это либо вещие, пророческие сны, предзнаменующие поворотные моменты сюжета, либо сновидения, связанные с вторжением в них чудесных, "потусторонних" сил - "воскресших" покойников, бесов или ангелов - посланников неба. В ряде произведений /"Повесть о Марфе и Марии", "Китие Ульянии Осоргиной", "Повесть об основании тверского Отроча монастыря"/ сновицные сюжеты касаются, как правило, не столько тайных мотивов поведения, собственно психологии того или иного героя, сколько откровенно мистических, скрытых для непосредственного наблюдения обстоятельств его взаимообщения с вестниками из ирреального мира.
Особое место в поэтике древнерусской прозы принадлежит категории персонажных снов, которую условно можно назвать жизненно-практическими. Здесь фантастический мир чудес тесно переплетен с миром каждодневных человеческих взаимоотношений и забог /так, именно сновидение помогает открыть имя вора в "йитии Феодосия Печерского"/.
И, наконец, художественно достоверное изображение подсознательных душевных процессов, происходящих в психике героя-сновидца, отличает сновидения персонажей в "Слове о полку Игореве", "¿{итиях" протопопа Аввакума и Епифания, "Повести о Матвее Прозорливом".
Своеобразию сновидной тематики у русских классицистов и сентименталистов посвящен заключительный раздел первой главы..
При всем авторитете для русской литературы ХУШ в. доктрины классицизма с ее центральным тезисом "Рассудок, будь царем!" /Буало/, плеяда стихотворцев, объединившихся вокруг изданий ¡Л.М.Хераскова, выдвинула в начале 1760-х годов философско-поэтическую концепцию, весьма далекую от рационалистических воззрений и полностью соответ-
ствующую барочной аллегории Кальдерона "жизнь есть сон". Проникновенный лейтмотив лирики Хераскова - "Так знать, что счастье наше // В сем веке только сон" /"Непостоянство"/ - многократно варьируется в поэзии его современников В.Санковского, А.Карина,. А.Ржевского.
С другой стороны, усиление интереса к онирической поэтике привело к возникновению вполне рационалистической и никак не противоречащей философскому канону классицизма жанровой формы сатирико-уто-пического"сна" с его установкой на нравочение, обличение, футуроло-гичность. Здесь прием "сна" использовался как иносказательное средство донесения до современников злободневных политических проблем,, способ критики отживших социальных порядков, установлений, общественных предрассудков и заблуждений /"Сон. Счастливое общество" А.П.Сумарокова, "Сон" С.Г.Домалшева, "Храм Истины, или Видение Се-зостриса" П.Ю.Львоаа, глава "Спасская Полесть" в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н.Радищева/.
Необходимо такие обратить внимание на известную преемственность сенткменталистских принципов изображения сновидений относительно классицистических канонов. В частности, в повести Ц.Ю.Львова "Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки" /1789/ в назидательном "сяовидном" монологе .Купидона звучит заповедь быть "прежде честным", а уже потом "чувствительным и счастливим". При всех декларациях верховенства чувств, эмоционального восприятия мира герои произведений сентименталистской ориентации неспроста подвержены мало чем отличающимся друг от друга и постоянно перекликающимся между собой 'фантазиям, иллюзиям, сновиднш грезам. Несмотря на приоритет чувства над разумом художественной целью сентименталистов отнюдь не стали открытое противодействие рассудку или апология иррационализма. Литературное сновидение в сентименталистской прозе по существу не обретает связи с частной психологией конкретного персонажа, становясь своего рода витиеватым орнаментом в изысканной словесной ткани..
Принципиально иные идейно-художественные особенности присущи литературным сновидениям в системе образной логики русского романтизма, рассмотрению чего и посвящена вторая_глата диссертации.
Она открывается обобщением тех сторон романтической концепции действительности, которые непосредственно связаны с осмыслением феномена сновидения..
Органичное сочетание "сверхъестественных" ониричесхих фантазий и грез персонажа с традиционными формами рационалистической художественной мотивировки сном, его заблаговременная подготовленность, "запрограммированность" течением предшествующего сюжета,, таинственной атмосферой, окружающей героя-сновидца, или необычайным, напряженным психически!.! состоянием его перед началом сна - характерные особенности романтической поэтики сновидений в отечественной словесности .
Мотив сновидения как единственно возможное объяснение невероятных событий, происшествий преобразуется в своей романтической трактовке в целую мировоззренческую концепцию, в самостоятельны! способ осуществления, восприятия и осмысления жизни вообще, в возрожденную и утвердившуюся на новом культурно-историческом этапе древнейшую мифологему "жизни-сна", запечатленную в той или иной форме в творчестве каждого сколько-нибудь значительного литератора-романтика. Это - одна из определяющих идейно-художественных особенностей романтической поэтики сна. Можно сказать, что сновидение в романтической прозе /в частности - в русской/ стало художественным воплощением идеи "двоемирия". Обоснованию данного утверждения посвящен второй раздел главы.
Начиная с романа Ковалиса "Генрих фон Офтердинген" /1800, опубликован в 1802 г./ язык романтического сна, подобно языку сказки-1- -
Ср. у Новалиса: "Сказка подобна сновидению,она бессвязна", она - "повествование без связи, но ъсе же с ассоциациями, подобными
Ш» /"Литературная теория немецкого романтизма. - Л.,. 1934.0,133, ^ См. такжеГГржфцов Б.Л. Психология писателя. -М., 1988. С.61,
это прежде всего язык поэтических иносказаний, эзотерических намеков и символов, таинств, знаков иного бытия - сферы обитания неизъяснимых предчувствий, потусторонних сил и мистических озарений.
С другой стороны, сам творческий процесс трактуется поэтами романтической эпохи как форма погружения в особое, провиденциальное психическое состояние, родственное и даже полностью аналогичное сновиденью. Примеров тому множество, достаточно напомнить строки пушкинской "Осени" /1833/: "И забываю мир, и в сладкой тишине// Я сладко усыплен моим воображеньем.// И пробуждается поэзия во мне: // Душа стесняется лирическим волненьем, // Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, // Излиться наконец свободный проявленьем". Довольно показательны в этой связи также эссе Д.В.Веневитинова "Утро, Полдень, Вечер и Ночь", помещенное в альманахе "Урания на 1826 год", стихотворения Ф.И.Тютчева "Видение" /1829/, В.Кюхельбекера "Море сна" /1832/ или дневниковые откровения центрального героя повести А.В.Тимофеева "Художник" /1834/: "Я прожил в каком-то летаргическом усыплении, в каком-то духовном, идеальном мире... Сны мои всегда были наполнены чудесным и таинственным... Физический мир не шел для меня никакой прелести. Когда я выходил из своего усыпления, мне становилось скучно. Все обыкновенное мне но нравилось... Один сон был моим утешителем".^
Обобщая, надо отметить, что выступив против восходящей к "Поэтике" Аристотеля теории подражания в искусстве, романтики придерживались скорее платоновской концепции художника как одержимого творческим опьянением визионера, корибанта, пророка, созидающего в творческом сомнамбулическом сне свою особую, надмирную, "высшую" реальность, где черты объективной действительности преобразуются в соответствии с абсолютным, до конца и в полной мере "невыразимым" /В.А.Жуковекий/ религиозно-эстетическим художническим иде-
1 Тимофеев А.В. Сочинения в стихах и прозе. - СПб., 1837. 4.2 С..8, 24-27 /особой пагинации/..
алом*. С этой точки зрения сама "посюсторонняя" действительность в понимании романтиков заведомо несообразна, фантастична, обманчива. "Можно сказать, - подчеркивал в данной связи В.В.Ванслов,-что мир для них /т.е. писателей-романтиков - Д.Н./ - это "нереальная реальность". Нереальная потому, что он - иллюзия, кажимость, призрак действительного бытия. Он неистинен, ибо истина - это идеал, которого в действительности нет".^
Все вышеизложенное, разумеется, не означает, что романтическое понимание литературных сновидений избавляло их введение в текст от определенных противоречий. В разделе "Преодоление стереотипов в изображении сновидений как фактор психологизации повествования" : проанализированы основные трудности в использовании этого художественного приема романтиками.
Прежде всего, следует уточнить, что в подавляющем большинстве литературных снов последователей так называемого "неистового" романтизма даны не аналитически углубленные психологизированные изображения душевного мира персонален, а только общие модели, стереотип' ные схемы наиболее характерных для данной ветви романтической прозы -таинственных, неимоверно "странных" и "страшных" онирических грез "бесовских мечтаний",, как определяет в пушкинской драме свои вещие сны Григорий Отрепьев.
При этом в романтизме возникает целая типологическая разновидность литературных сновидений, которые по своему идейно-философскому содержанию могут быть отнесены к категории утопических, поскольку безотчетное и страстное стремление персонажа-сновидца и мечтателя к осуществлению абсолюта неземной, высшей любви здесь, в пределах посюстороннего, преходящего мира изначально обречено на неудачу,
1 По Шеллингу, "абсолютная объективность дается в удел единственно искусству. Искусство позволяет целостному человеку добраться до этих высот, до познания высшего" /Шеллинг Ф.-В.-И. Система трансцендентального идеализма. - Л., 1936. С.396./
2 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. - М., 1966. С.347.
связанную с крушением всех прекраснодушных иллюзий /см., например, описание "удивительного сна" Юрия Волина в пьесе М.Ю.Лермонтова "|Tl€*schen uni LeleUh5ciiaf{»h „ /1830/1. Романтическая любовь-влюбленность идет в самой себе первоначало божественного абсолюта, но эти притязания безосновательны, а связанные с ними упования тщетны.. Итоги таких поисков в рамках общераспространенных романтических сюжетов плачевны, трагичны, сопряжены с отчаянием и нигилизмом, утратой веры в смысл человеческого существования. Коренные заблуждения романтиков в данной области утопий не только вскрыты, но и критически осмыслены с привлечением соответствующих суждений по этому поводу в трудах Г.Г.Шпета и К.Лыоиса.
Наряду с противоречиями романтической утопии Эроса писателей указанного направления подстерегали трудности, связанные с изображением посредством литературных сновидений бесчинств потусторонних сил или, говоря словами Н.И.Надеждина, "бесовских страхований".^
Без вмешательства этих зачастую искусственно нагнетаемых "стра хований" не обходится ни один сон в произведениях А.А.Бестужева-Мар линского /рассматриваются, в частности, его новеллы "Страшное гаданье" и "Латник"/. Причем эти сны трудно признать сколько-нибудь адекватными сновидениям, которые могли бы присниться персоналам в предполагаемой действительности. Справедливее говорить не о сне в собственном смысле, а скорее об имитации сна. Так, в "Страшном гаданье" весь сон представляет собой по сути вполне логично, последовательно выстроенный фрагмент с самостоятельным сюжетом, т.е. тра диционный для романтической новеллистики "рассказ в рассказе" от лица вымышленного повествователя. Такое сновидение не столько преследует цель раскрытия внутреннего мира персонажа, сколько подчинено тому, чтобы как следует "устрашить" и "взволновать" читателя, что называется,"произвести впечатление".
Вместе с тем, кар показал й.П.Золотусский^, уже в "Метели"
3 >Г_е^В^го ^н,: час
/1830/ Пушкин пародирует указанные романтические стереотипы изображения "страшных" снов, используя изжившую себя поэтику и стилистику в новой, иронической функции. Речь о том, что к моменту появления "Повестей Белкина" определенные приемы онирлческой поэтики романтиз ма превратились в устойчивые, общедоступные штампы. Это обстоятельство и дало возможность Пушкину включить их в пародийный контекст. В откровенно травестированной форме /"Гробовщик", "чудный сон" Татьяны в "Евгении Онегине"/ реконструировано Пушкиным чрезмерное пристрастие литераторов-романтиков к перенаселению литературных сновидений всевозможными чудовищами, скелетами, покойниками и прочими неотъемлемыми атрибутами тривиальной романтической беллетристики. Указано, что приемом пародирования романтических стерео типов в литературных снах до Пушкина с успехом пользовался А.С.Грибоедов в комедиях "Студент" /1817/ и "Горе от ума" /1824/. Еще раньше комической формой литературного сна /сон Митрофана в "Недоросле", 1781/ в совершенстве владел Д.И.Фонвизин.
В данном случае заслуживает особого вникания точка зрения В.В.Виноградова, полагавшего, что Гоголь отверг тлевшуюся в первоначальной редакции "Носа" мотивировку невероятных событий "сном"', поскольку к моменту публикации повести /1836/ это уже был донельзя избитый литературный прием*.
Здесь необходимо уточнить, что ни Пушкин, ни Гоголь не сомневались, разумеется, в непреходящей культурной ценности романтизма как такового. В их произведениях пародировался прежде всего не. романтизм как форма духовной устремленности к высшим, общечеловеческим идеалам, а лишь его эстетические издержки: неумеренная патетика и приторная чувствительность, исключительность характеров и ситуаций, нарочитое нагнетание "бесовщины", уход от живой действительности в "туманную" область соблазнительных, но дезориентирующих
* См.: Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма. - ¡Л.? Л. 1929. С.75-76.
в реальной практике прекраснодушных утопий.
Третья глава диссертации рассматривает поэтику сновидений и способы достижения психологической достоверности в повести И.В.Гоголи "Невский проспект",
В первом разделе показано, что Пискарев как литературный герой должен быть соотнесен с довольно распространенным в русской прозе 1830-х годов тппом художника-романтика. "Романтическая поэзия, -отмечал В.М.Жирмунский, - не хочет быть только искусством: ее желание быть больше чем эстетической действительностью... Это стремление к своеобразному художественному познанию мира, желание выразить в словесных символах свое особенное чувство жизни... Это мысль о том, чтобы подчинить других своему чувству жизни, заставить почувствовать открывшуюся истину"-'-. О фатальных последствиях самонадеянных и тщетных попыток осуществить в пределах посюстороннего мира романтические утопии - утопию Эроса /в трактовке его Платоном/ и утопию "панискусства" - наиболее красноречиво свидетельствуют судьбы четырех персонажей отечественной прозы 1830-х годов - центральных героев почти одновременно созданных повестей Н.А.Полевого "Блаженство безумия" и "Живописец" /183&/, А.В.Тимофеева "Художник" /1834/ и H.В.Гоголя "Невский проспект" /IB33-34, опубл. в 1835 г./. Объединить эти произведения в один типологический ряд позволяет как общность их идейно-художественной проблематики /касав щейся основополагающего для романтизма неразрешимого конфликта между идеальной мечтой и реальной действительностью/, так и разительное сходство трагических судеб главных персонажей, одинаково испытавших на себе роковые последствия своих утопических притязаний, своей, по меткому выражению Г.В.Флоровского, поистине "космической
о
одержимости'"% обусловленной безотчетным стремлением преодолеть
Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории немецкого романтизма. - M., 1919. С.7.
2 Флоровский Г.З. Метафизические предпосылки утопизма. - "Вопросы филобосрии", 1-М, $ ю. с.89.
хаос, дисгармонию и. абсурд "квной жизни", "тьму низких истин'" уходом в "возвышающий обман", в область сомнамбулических "грез наяву",, в своего рода "гшерреальность", т.е.. в сферу романтически понимаемого универсума*.
В каждой из указанных повестей выведен один из наиболее распространенных в тогдашней беллетристике литературных типов художна-ка-романтика, художника, разумеется, не. столько: в узко-профессиональном, сколько в философско-обобщенном, нарицательном смысле/ особенно чиновник Антиох в повести "Блаженства безумия"/. Кроме того.,, все; упомянутые литературные герои - отчая ннна мечтателя, своего рсь да "бодрствующие сновидцы'", прельстившие себя возвышенными утопиями. и живущие в их эфемерных,-надоблачных сферах, начисто отвергнув "сон привычной суеты" /А^Блок/ во имя пророческих, таиновидческих сно-видений творческого духа..
"Тяжело тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня жизни ужасна", - сетует в беседе с приятелем Антиох. Концепция философа-творца как единственного бодрствующее га среди, прозаического, без-сознательного усыпления окружающей житейской рутины восходит к. учению Платона, а. в творческой практике романтизма находит достаточна1 завершенное выражение.
Наряду с апологетикой героями повестей романтической утопии вещего;, баговдохг овенного сна, надо отметить, что все они страстно влюблены в своих сердечных избранниц, но эта любовь-страсть, как и. любовь-пристрастие, героев к искусству, имеет ярко выраженный отвлеченный, призрачный, "сновидный" характер.. Безмерная идеализация персонажами своих обожаемых, точнее, даже - обожествленных, возлюбленных приводит к. тому, что онИ' представляются отчаянным мечтателям не; иначе как своеобразными, мимолетными; сна-виденьями наяву,, '"волшебными призраками" /Н.А.Полевой/.
■^Подробнее об этом см. в фундаментальном исследовании французского; литературоведа Альберта Бегена "Романтическая душа и сон"г. ве.£и,/и А. 1"0УУ)оЬы~к1уие -еЬ реуе.. 1:4-1.-
Общими оказываются и. жизненные итопн мечтателей-романтиков, отчаявшихся обрасти желанную гармонию любви, искусства и действиг-т&львосев:: разочарование в избранницах сердца, безумие и безвременная кончина, последующая безвестность..
Вместе с тем комплекс художественно-философских идей, содержащихся в повести "Невский проспект1*, много. шире смысла других рассмотренных в этом ряду произведений.
В дсгоголевсшй и послегоголевской проза соответствующей тема-; тики, сны героев-меитатеяей, как. правило,, стилистически, и композиционно? обособлены от общего течения повествования, era "явного.™ плана и. включены в контекст в качества самостоятельных фрагментов, вставных сюжетов, отрывков из принципиально "несбыточного", образуя тем самым определенную, относительно суверенную внутршшнровую целостность, по принципу "рассказ в рассказе".. В речи автараг-павест-вователя или героя-сновидца, такие: сны четко отграничены от всего сюжета недвусмысленными указаниями, намеками, на то, чта перед нами,, читателями, бьщи или ожидаются в ближайшем будущем совершенно неправдоподобные, "странные*, сказочные события., исполненные стремительности и динамики, фантасмагории, какие обыкновенно, случаются лишь в разгоряченном дремотой воображении и. не имею! нияел^ adщепа с вялотежутцей, прозаической повседневностью. Таким образом, всячески утверждается и. подчеркивается непримиримый контрастный антагонизм обеих разноприродных сфер романтического двоемирия:. дольней области неизбывного страдания, тщетных упований и - горнего.' царств ва. несказанного блаженства, "обители дальней чистых ней". Еизнера-досгний утопический сое от мучительной яви отделен, здесь непроницаемой гранью, непереходимым Рубиконом, а сон. ужасающий, кошмарный оказываатся на поверку не так. уж и страшен:. "Здесь несчастье - лживый сон; Счастье. - иробувденье" /В Д.Чуковский/.
Сновидения в поэтика Гоголя и,, прежде всего., в структуре но-
вести "Невский прослезт» рассмотрена ва втором, разделе главы.
В системе поэтики Гоголя, за исключением, случаев, когда сон комического героя принимает форму откровенного, острого гротеска. /"сны" Шпеньки, Сквазник-Дмухановскопо, Коробочки, Ноздрева, Пеп^ пе/ сновидения персонажей, особенно, в цикле "петербургских повестей", искусно вплетены в художественную ткань произведения, образуя с. ней единую, нераздельную целостность. Гсшолевская фантастика, гоголевская "Механика" вымысла /включающего,' в себя как. в систему иллюзии, галлюцинации,, мечты, видения, сумасшедший б£вд или сяы персонажей, ставши® их "явью"/ испытывает на. прочность. аащ жесткую кон--струкцию моделируемой действительной®!. В этом, перевернутом с ног на голову мире даже, вымысел выглядит, "действительнее, самой действительности"1, а сны - не; менее, живы, осязаемый достоверны, чем. явь,, парализованная беспробудной спячкой.
Если для романтического "идейного" предшественника. Пискарева, поручика Зарницкого из новеллы Бестужева-Марлинскота "Латник", '"перемещение1 сонных призраков в явную жизнь, и действииальннх вещей в сонные- мечтания" - лишь неосуществимая греза, немыслимый фантазм, то в сюжетной экзистенции гоголегского персонажа сама данная утопия становится как. бы реализованной, сбывкайся, хотя и не. потерявшей при этом: своего: иллюзорного, эфемерного характера: "Налсонец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он;. мо;гш> сказать,, спал наяву и бодрствовал во сне.... Он оживлялся только при наступлении ночи". Более того: Дис-карез "принадлежал к тому классу, который составляет довольно: странное явление, и столько жа принадлежит к гражданам' Петербурга.. сколько) лицо. являющееся-нам, в сновидении, принадлежит к существенному мирт". Именно в этой, как бы мимоходом, оброненной, фраза за-
1См*: Берковский. Н- Заметки, из архива. - "Вопросы литературы , 1984. № 3. С.125. Ср. с аналогичной мыслью В.Розанова:"Перестаешь верить действительности, читая Гоголя. Свет искусства, льющимся из . него.-, заливает все. Теряешь осязание, зрение, и веришь только- ему /Розанов В.В~ Мысли о литература. - М..„ 1989. С^з/-
клотена. суть аднсаю.' из основных художественных.способов гоюлевскай мистификации действительности: путем проекция, ее на новую сюжетно-говествовательную плоскость, перемещения в иной,, отличный от эмшь-ршескою, "сверхтуватвешшй" план - в область, сюрреальности,. абсурда, в сферу, пде; сама "жизнь призрачная,, мнимая - пусто© сновш-дешш жизнж"-'".
Призрачные фантазии несбыточных пискаревских снов ж реальная несообразность более фантастической действительности - дв® тачки отсчета, медцу которыми растянута здесь нить прихотливою, непредсказуемого сюжета. Как можно заключить- на основании, первого сна Пискарева, его. кульминация связана с концепцией багооставленвос-' ти, хаотической раздробленности, абсурдности, и. враждебной несогласованности: дольнего мира, чта станет и лейтмотивом, всей повести:: ".„.казалось, что какой-то демон: искрошил весь мир на множества разных кусков и. все эти куски без смысла, без толку смешал вместе.» Всё обман, всё мечта, всё не то, чем. кажется!"
Второй, третий и четвертый "сны" Пискарева доводят замышленную повествователем, антитезу "мечта - жизнь", "явь - сон.™,, "жизнь в мечте - и жизнь в реальности" да степени комического, гротеска.
Пятый и шестой "сны" персонажа являют собой картины утопических "семейных" идиллий, развертывающихся на лоне сельской природы и в мастерской живописца.
Общая фабула воадс сновидного цикла, посвященного причудливым, онирическим грезаи несчастного петербургскою романтика, выстроена так, что идиллически-утопические сны Пискарева предельно обостряют неразрешимую для нет> коллизию "мечта /ссш/ - жизнь /реальность/",, выявляя тем самым абсолютную несочетаемость, несовместимость овлаг-девшей героем "идеи, фикс" с абсурдом окружающего "перевернутого миг-ра"..
■'•См.:: Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей.. Выл.1.. -М..„ 1911. С.62..
Трагедия Пискареьа, состоящая в ном, что. всепоглощающее и безотчетное упоение: отвлеченной грезой, книжкой фантазией, нарко.тичес-кин! сном, опьянение идеальной мечтой /которая метка названа М.Бахтиным "суррогатом, жизни"*/ заглушили в. нем. и затмили от нега- живую жизнь "со всей ее беззвучной трескотней и. бубенчиками" /"Мертвые души"/ - это: трагедия к романтизма в целом как грандиозной культурной эпохи, трагедия, отразившая общий кризис утопической жизнестро-ительной программы, вьщвинутой ведущими, философами, теоретиками, литераторами-романтиками.
В Заключении подведены краткие итоги исследования. Отмечено,, что романтизм с его центральной идеей "двоемирия", естественно,, не мог оставить в сторона и, в свою очередь, глубока переосмыслил традиционное для всей европейской и. мировой культуры в. целом диалектическое: соотношение "жизнь/Усон.", придав ему новые; идейно-художественные черты и особенности, во многом предопределив дальнейшую перспективу развития данной темы средствами искусства. При этом опыты русских прозаиков-романтиков вышли далека за рамки фантасти-кш-мистияесяопо истолкования сновидений..
С именем Госоля, и прежде: всегас era повестью "Невский проспект", связан момент превращения сновидений в прозе; из сюжетнпй подробности в устойчивый художественный прием, способствующий раскрытию характера персонажа, логики его поведения. Введениа в художественную ткань произведения сновидений позволила писателю избежать прямолинейности, одноплановости, назидательности, риторики.. "В сновидениях, - неоднократно подчеркивал. Зи&рейд, - воспроизводятся весь крут1 психических явлений"^-. Благодаря этому обстоятельству литературные, сновидения, сочетающие: в себе рациональное и интуитивное начала в психике: пераоната, оказались, исключительно емкой
*См_: Бахтин М.М» Эстетика словесного творчества.. - М..„ 1986..
С,73.
2Фрейд 3. Оккультное значение, сновидений. - "Наука и религия , 1989, № II. С.42..
художественной формой, дозволяющей не только изобразить человека. во> всей ело психологической глубине, исчерпанности, но и активна воздействовать на воображение читателя, пробудить в ета восприятии вереницу ассоциаций, выводящих далеко за пределы текста с еШ' соци-ашю-психологической конкретикой. Тем. самым в литературном произведении посредством, художествевноЕО приема, сновидения ценпр смысловой тяжести смещается с собственно.) сюжатнова действия на. ева сокровенный, иносказательный гшаш, подпеков, обнаруживается тесная связь, психологии к идей в характере персонажа, в системе ело поведения и. поступков.
Основные: положения и. выводы исследования дополнительно раскрываются на материале творчества.Ф.М.Достоевского, Л.а.Толстого, МЛ^Салтшкова-Щедрина, ]АХ «.Тургенева,, Ф.£,Соло1!уба в Приложении к диссертации.
По1 теме диссертации опубликованы следующие работы:
Монография "Сон;, заветных исполненный знаков.. Таинства сновидений в мифолошш,, мировых религиях и. художественной литературе". М-„ 199!.. - 304 с.