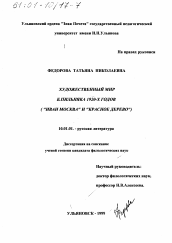автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Художественный мир Б. Пильняка 1920-х годов
Полный текст автореферата диссертации по теме "Художественный мир Б. Пильняка 1920-х годов"
На правах рукописи
ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛЛЕВ11Л
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР Б.ГШЛЬНЯКА 1920-Х ГОДОВ ("ИВАН МОСКВА" И "КРАСНОЕ ДЕРЕВО")
10.01.01 - русская литература
Автореферат ;шссертации н-з соискание ученой степени кандидата филологических наук
Самара - 2000
Работа выполнена в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н.Ульянова
Научный руководитель - доктор филологических наук,
профессор Алексеева Н.В.
Официальные оппоненты - доктор филологических наук,
профессор Ауэр А.П.; докгор филологических наук, профессор Скобелев В.П.
Ведущая организация - Ульяновский государственный университет
Защита состоится "13 »
/утл^ц, 2000 г. в О/ часов на заседании диссертационного совета К 063.94.06. но защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук при Самарском государственном университете (443011, г.Самара, ул. Акад.Павлова, 1, ауд.203)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного университета.
Автореферат разослан 'Уо" 2000 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат филологических наук, доцент ^ , / Т.В.Журчева
ш
¡Тильклс Ь<И.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Интерес к художественному наследию В. Л. Пильняка постоянно возрастает. Процесс осмысления его творчества вдет по трем основным направлениям: изучение творчества писателя в контексте литературной традиции и определение его литературной родословной (А.Воронский, Вяч.Г1олонский; А.Ауэр, С.Горинопа, И.Карпенко, В.Новиков); анализ генет ической природы творчества художника - с.чязь с импрессионизмом и орнаментальной прозой, взаимодействие стилей (А.Воронский, Вяч.Полонский; А.Ауэр, М.Голубков, И.Карпенко, И.Шайтапов); исследование жанрового своеобрачи« и поэтики (А.Воронский, Д.Горбов, Вяч.Полонский, В.Шкловский; Ю.Андреев, А.Ауэр, Г.Бахматова, М.Голубков, С.Горинова, И.Карпенко, Д.Кассек, Н.Тамарченко, И.Шайтанов и др.).
В реферируемой диссертации сделана попытка раскрыть художественный феномен нильняковской прозы 1920-х гг. в аспекте взаимодействия двух стилеобразующих тенденций - мифопоэтической и условно-бытовой. Выбранный аспект исследования и определил актуальность представленной работы.
Научная новизна диссертации объясняется, прежде всего, стремлением исследовать художественный мир писателя в его уникальной целостности, рождающейся пз, казалось бы, взаимоисключающих содержательных и стилевых пластов. Анализ итоговых произведений Б.Пильняка 20-х гг. ("Иван Москва" и "Красное дерево") позволяет прояснить н конкретизировать характерные особенности художественного мира писателя: стремление к созданию универсальной картины человеческого бытия, к мифотворчеству, к выделению сущностных, категориальных начал в постижении мира; синтез модернистской и реалистической поэтики.
Целью исследования является обозначение нового подхода к пониманию своеобразия поэтического наследия художника через взаимодействие мифопоэтической и условно-бытовой стилевых тенденций.
Для этого было необходимо решить следующие задачи:
- осмыслить понятийный аппарат мифопоэтики и "теории быта" применительно к творчеству писателя;
- выявить наиболее акшвпо "работающие" в художественных текстах Пильняка мифоноэгнческие и бытовые категории для исследования проблемно-тематичсской, сюжет но-комнозиниошюн, пространственно-временной организации произведения как завершенного целого:
- не стремясь представить полный обзор творчества художника 10-20-х гг., проследить эволюцию мифопоэтической и условно-бытовой тенденций в произведениях этих лет;
- рассмотреть повести "Иван Москва" (1927) и "Красное дерево" (1929) как итоговые явления стилевой двойственности Б.Пильняка;
- выйти на обобщение художественных поисков писателя в контексте общелитературного процесса взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма.
Предмет исследования - рассказы и повести 1915-1929 гг., объект пристального анализа - "Иван Москва" и "Красное дерево".
Методологической основой исследования являются труды по теории литературы (М.Бахтин, В.Виноградов, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, В.Шкловский, Б.Эйхенбаум; М.Гиршман, Д.Лихачев, Ю.Лотман, Б.Успенский; М.Голубков и др.); по мифопоэтике - как общетеоретические, так и направленные на осмысление славянской мифологии - (А.Афанасьев, А.Лосев, Е.Мелетинский, А.Потебня, В.Топоров, М.Элиаде и др.), по изображению быта в литературе (В.Белинский, В.Кулешов, А.Чудаков и др.).
Исследование выполнено в рамках сравнительно-сопоставительного метода, литературоведческий анализ дополнен элементами лингвостилистического характера.
Положения, выносимые на защиту :
1. Особый аспект исследования творческого наследия Б.Пильняка, связанный со взаимодействием мифопоэтической и условно-бытовой стилевых тенденций.
2. Проза Пильняка периода 20-х гг. как художественно целостный организм, рождающийся из антиномичности стилевых пластов.
3. Повести "Иван Москва" и "Красное дерево" - закономерный итог творческой эволюции писателя, обнаруживший логику развития ведущих тенденций творчества и типологическую сущность происходящих в нем процессов.
Научно-практическая значимость работы состоит в том, что ее теоретические выводы и исследовательский материал можно использовать в преподавании курса русской литературы XX века, спецсеминарах по творчеству Б.Пильняка и спецкурсах по мифопоэтике, по теории орнаментальной прозы и взаимодействию эстетических систем реализма и модернизма на филологическом факультете вузов, в гуманитарных классах общеобразовательных школ, в лицеях и гимназиях.
Апробация работы: основные положения исследования были сообщены автором на аспирантском теоретическом семинаре, на итоговых научных конференциях Ульяновского педагогического университета (Ульяновск - 1997, 1998, 1999), на Вторых и Третьих Веселовских чтениях (Ульяновск - 1997, 1999), па Пятых Пильняковских чтениях (Коломна -1999).
Структура работы : в соответствии с целями и задачами исследования диссертация состоит из Введения, 3 глав, Заключения и Примечаний. Ее объем -321 страница. Указатель литературы включает 264 наименования.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во Введении раскрывается актуальность темы, характеризуются аспекты и степень изученности творческого наследия писателя в отечественном пильняковедении, определяются цели и задачи диссертации, ее структура, научная новизна и практическая значимость работы, обосновываются
теоретические и методологические нршщипы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.______________________________________________________________________
Первая глава диссертации "Взаимодействие мифопоэтической и условно-бытовой тенденций в художественном мире Б,Пильняка" состоит из двух разделов. Первый - "Стилевое своеобразие прозы Б.Пильняка как проблема" -носит теоретический характер. В нем введены рабочие понятия мпфопоэшки и быта как предмета литературного изображения.
Понимая миф как феномен сознания, мы анализируем те внутренние процессы, которые способствовали формированию в сознании художника особого мифопоэтического взгляда па мир, проявившегося в реализации характерных для мифа функций (гармонизация человека, социума и природы, моделирование и др.), в прямом переносе логики природной жизни на человеческую (антропоморфизм, олицетворение), в циклической модели художественного времени, в особом мифопоэтическом наполнении пространства (дискретность, единый центр, субъект странствия), в опоре на архетип, акт творения и т.д.
Одновременно с мифопоэтической тенденцией в ранних произведениях Б.Пильняка зарождается условно-бытовая, также формирующая характерную для художника картину мира. Сложность изучения этой тенденции связана прежде всего с терминологической непрояснснностыо самого понятия быт. Следуя за логикой работ Ю.Лотмаиа, С.Шсшуновой, А.Чудакова, мы определяем быт как совокупность трех родов элементов: вещественного, социального и нравственного.
Внимание художника к быту было отмечено исследователями практически сразу же после выхода его первых произведений (А.Воронский, Вяч.Полонский). Тогда же был отмечен и условный характер пильняковского бытописательства: писателю важен быт не как предмет изображения, а как время, социальные процессы - "картина сдвига и катастрофы" (А.Воронский). Потому быт - уго не только среда, изменяющаяся под влиянием нового времени (революция сделала быт бытием, творимым заново, по иной, мифопоэтической логике), но и та сфера, которая способна вызвать ответные изменения в окружающем ее внешнем мире. Быт у Пильняка наделен пограничной природой - быт как грань Бытия, что подтверждается универсальными законами жизни, один из которых связан с "сохранением энергии", то есть с уникальной способностью явлений трансформироваться, перетекать друг в друга. Па поэтическом уровне это проявляется в сложном взаимодействии двух ведущих тенденций в художественном мире Б.Пильцяка: мифопоэтической и условно-бытовой. Синтез обозначенных тенденций способствует более полному раскрытию творческого кредо писателя, выраженного в поэтической формуле - "целая жизнь", объясняет характер отмечаемой практически всеми исследователями пильняковской двойственности, придает цельность художественному миру писателя и, наконец, обнаруживает включенность творческого наследия писателя в одну из
важнейших проблем литературоведения XX века - в проблему стилевого взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма.
Для воссоздания целостной картины художественного мира Б.Пильняка 20-х гг. необходимо рассмотрение обеих тенденций, чему и посвящен второй раздел первой главы "Формы бытования и логика развития мифопоэтической и условно-бытовой тенденций в творчестве Б.Пильняка 1915-1920-х гг."
На протяжении всего периода идет процесс взаимодействия двух обозначенных тенденций. Приобретаемые им формы многовариантны: от противопоставления - через сопоставление - порой до абсолютного тождества
Большинство рассказов Пильняка этого периода связано с осмыслением базовых законов человеческой жизни: продолжение рода, естественный отбор, циклическая повторяемость и т.д. Их нарушение часто грозит человеку, сделавшему свой выбор не в пользу природного, одиночеством, утратой покоя. Авторское понимание приоритетности природных начал в жизни человека реализуется через противопоставленность мифопоэтической и условно-бытовой тенденций. В отличие от мифопоэтического, бытовое начало приносит в атмосферу рассказов настроение тоски, скуки ("О Севке"). Причем бытовая струя связана не только с функцией создания настроения, ей присуща и оценочная роль, что отражается в особой структуре бытового пространства. Позитивная оценка, как правило, связана с типом пространства, имеющим центр (дом Невляиинова из "Земского дела"). Негаишная проявляется в разрушении единого пространства, в заполнении его мелкими предметами (пространство дома Варонца-Званского из упомянутого рассказа). В силу того, что ведущим принципом этого этапа творчества является опора на абсолютный закон любви и деторождения, бытовое пространство часто уступает место мифологическому. Поэтому бытовое граничит с бытийным, обнаруживая родовое единство двух начал в контексте присущего Пильняку понимания жизни.
Период первых лет революции, с одной стороны, - продолжение взаимодействия заявленных в раннем творчестве тенденций, с другой -качественно новый этап в художественном поиске. Мифопоэтическое мышление Б.Пильняка этих лет по-прежнему характеризуется пристальным вниманием к природной жизни. В его контексте автором осмысляются такие понятия, как любовь, зов пола, убийство, смерть, революция. Архетипное отношение к природе объясняет отсутствие в рассказах Пильняка дифференциации природного и социального бытия ("Ветер перед мартом", "Тысяча лет", "При дверях", "Метель", "Смертельное манит" и др.). В этом контексте восприятие революции как стихии органично и закономерно ("Чертополох", "Третья столица", "Голый год", "Повесть о черном хлебе" и др.).
Усиливается метафорическая насыщенность произведений первых лет революции. Метафорические образы (метель, ветер, волк, раскопки, каменные бабы, луна и т.д.) не просто кочуют из произведения в произведение, но придают символическое звучание лейтмотивам.
Особую рол), я художественном мире произведении этих лет выполняет метафора метели. В том, как она организует художественное пространство прозы Б.Пильняка, обнаруживаются черты, характерные для архаических мифов творения. Объект, ради которого предпринимается действие, - новая жизнь, новый мир; субъектом становится метель и многочисленные ее производные (ветер, пурга, вьюга и т.д.); а источник - это скрытая в субъекте стихийная сила, которая не бывает ни плохой, пи хорошей. Таким образом снимается ¡«опрос о нравственной пене революции.
Изменился и характер проявления условно-бытовой тенденции. С одной стороны, быт испытывает на себе влияние революционной стихии, а с другой -пропгсостош' ей. Появляется мотив "нращивания" человека в быт как своеобразная форма противостояния происходящим изменениям, что нередко делает жизнь бессмысленной, превращает ее в суррогат ("Вехци", "Наследники", "Лесная дача"). Бытовое пространство (замкнутое, тесное) четко противопоставляется мифологическому (открытое ветрам, разомкнутое). Не случайно, пространства человеческих домов превращаются в гробы, пустоту. ("Ветер перед мартом", "Тысяча лет" и др.)
К концу первой половины 20-х гг. наметится еще один виток во взаимодействии условно-бытовой и мифоноэтической тенденций. В результате чего мечта об обыденной человеческой жизни, выстроенной по законам природной целесообразности, станет очевидной реальностью ("Старый сыр", "Расплеснутос время", "Поокский рассказ"). Доказательство тому - увиденная писателем особая функция быта, содержащаяся и циклической повторяемости жизненных ритмов, помогающая человеку держаться на плаву во все трудные времена. Возникает синтетический образ универсального человеческого микромира, включающего в себя принципы первичных родовых отношений, институт семьи, духовную высоту и нравственность. Но наряду с подобным восприятием быта в произведениях Пильняка по-прежнему сильно начало, отразившееся в "Тысяче лет", "При дверях", "Метели". - удушающая обыденность, дикие нравы, которые никакая революция, как оказалось, не способна разрушить ("Сторона ненашенская", "Ледоход", "Мать сыра - земля").
Проведенный в реферируемой главе анализ произведений Б.Пильняка 10-х - первой половит,: 20-х тт. убеждает в особо организованном сплаве мифопоэтического и бытового. Основополагающая художественная идея "целой жизни", состоящая в единстве двух способов художественного освоения мира, придае! творчеству Б.Пильняка особую целостность. Ко второй половине 20-х гг. формирование художественной картины мира писателя практически завершилось. Смоделированная на основе мифопоэтического восприятия окружающей действительности, она обнаруживает в себе связь с природными циклами, с мифологическими архетипами, с характерным для мифопоэтического мышления комплексом мотивов (любовь и деторождение, абсолютная ценность природных основ бытия, преддверие). Игра смыслами, логика "бриколажа", оксюморонное сочетание слов, качеств - не что иное, как
стремление подвести читателя к началу, за которым творение мифа о творении мира, о культурных героях, о мировом древе.
Одновременно развивается и условно-бытовая тенденция, в которой раскрывается другая сторона создаваемой писателем картины мира. Связанная со средой непосредственного обитания, она включает человека в быт, в исторический процесс и реализуется в сквозных темах уходящего дворянства, нравственного наследия прошлого, социальных преобразований, выбора и т.д.
В контексте обеих тенденций Пильняк членит пространственную картину мира, выделяя в ней топосы природы (вечное, непреложное, разомкнутое) и топосы дома (преходящее, замкнутое, изолированное). Бытовое пространство становится средством характеристики героев, их духовной сущности. Соотнесенность его с мифологическим типом пространства образует особую оппозицию вечного (Земля, Небо, Весна, Любовь...) и преходящего, гармоничного и дисгармоничного (согласие в мире с природой - сумятица в душе человека), духовного и бездуховного. Взаимосвязь мифопоэтического и бытового обнаруживает двойственность самой жизни человека в ее взаимоотношениях со Временем.
Таким образом, синтез мифопоэтического и условно-бытового начал в творчестве Б.Пильняка обретает онтологический смысл и рождает уникальную художественную целостность поэтической картины мира.
Во второй главе "Повесть "Иван Москва" в контексте мифопоэтического мышления Б.Пильняка" предпринята попытка рассмотреть это произведение в качестве итогового творения, а также "вернуть" его в контекст особой историко-литературной эпохи 20-х гг.
Глава состоит из двух разделов: "Композиционное своеобразие повести Б.Пильняка "Иван Москва"" и "Тип героя и пути его художественного изображения".
Первый посвящен рассмотрению композиции повести и организации ее лейтмотивной структуры.
Практически с первых страниц обнаруживает себя одна из характерных черт писательской манеры Б.Пильняка - непривычный для читательского восприятия способ расположения и называния глав. Он вызван тем, что глава в повести не просто композиционная единица. Будучи самоценной, самодостаточной, функциональной по отношению к художественному целому, она вполне может быть названа отдельным и при этом обязательным фрагментом единой ткани повествования.
Проведенное исследование "Вступительной главы" продиктовано ее особой значимостью. Перед нами "ключ" к прочтению повести, к пониманию ее лейтмотивной структуры. "Вступительная глава" состоит из 7 обстоятельств, которые последовательно расположены, пронумерованы и в большинстве случаев прокомментированы. "Кусковая", "разорванная" композиция этой главы приобретает особый смысл: перечисленные обстоятельства выступают в роли внутренних "скреп", благодаря которым и рождается единое целое. "Фрагментарность" композиции "Вступительной главы" является средством,
позволяющим выйти на лейтмотивный уровень освоения художественной действительности. Не случайно "Вступительная глава" и входящие в ее состав обстоятельства носят сгрукторообразующий характер, в ней зарождается целый комплекс сквозных мотивов, выступающих не только как элементы мотивной структуры (сюжетно-композиционный уровень), но и как своего рода образы-спутники, дополняющие и помогающие понять образ главного героя повести Ивана Москвы (идейно-смысловой уровень).
Анализ обнаруженных между компонентами "Вступительной главы" связей (взаимоотражение, тождество) свидетельствует о главенствующей роли автора и характерной повествовательной форме гено - текста. Соответственно кольцевая композиция "Вступительной главы" не просто подтверждение тождественности входящих в нее обстоятельств, но и доказательство особого мировидения художника. Поэтому явления разного порядка всегда предстают у Пильняка в универсальной взаимосвязи, в стройной системе, отразившей взгляды автора на закон повторяемости в смене эпох, на извечные законы природы и т.д.
Анализ художественной структуры повести убеждает, что для "Ивана Москвы" характерно своеобразное разделение содержательного материала между лейтмотивным и сюжетным повествованием: на фабульном уровне -видимость мира, его хаос, ошибки, потери, приобретения, на лейтмотивном -глубинная сущность и гармония, поиск идеальных начал в мире.
В повести "Иван Москва" нами выделяется и исследуется несколько основных мотивов: египетской мумии, бреда, восхода солнца и радия. Каждый из них тяготеет к превращению в сквозной. Взаимодействуя друг с другом, мотивы образуют единое семантическое поле, в котором читатель выходит на уровень размышления над метафизическими проблемами бытия. Его образованию способствует примерно одинаковое сочетание компонентов, организующих структуру каждого мотива. К их числу мы можем отнести порожденные особой мифической логикой антиномии (живое - неживое, бред -явь, темное - светлое, близкое - далекое, свое - чужое), а также соотношение категорий пространства и времени в контексте мифопоэтической картины мира
Итак, анализ лейтмогивной структуры "Ивана Москвы" обнаруживает, что принципы взаимодействия мотивов между собой разнообразны, начиная с ассоциативных связей и заканчивая элементами прямого отражения смыслов. Их основная композиционная роль состоит в "скреплении" разных пластов произведения (семантический, стилистический и др.). Взаимодействие лейтмотивов определило своеобразие авторского видения пространства и времени, что в свою очередь позволило выйти на разговор об индивидуальном типе мифотворчества Б.Пильняка. Лейтмотивная структура повести стала отражением не только авторского замысла, но и новой формы повествования, лишенной традиционно привычных сюжета, композиции, образов и обогащенной вариативностью смыслов, универсальным стремлением рассматривать выбранные явления в контексте вечных законов бытия.
Второй раздел второй главы посвящен исследованию типа героя и путей его художественного воссоздания. Иван Москва, введенный автором в роли "героя повести", "рождается" из обстоятельств, мифологических ассоциаций и реминисценций. Посредством ввода ключевых слов, образов-спутников, соответствующих лейтмотивов художник готовит своего читателя к восприятию образа героя, формируя своеобразное "информативное" поле. Прием, соответствующий особой логике "бриколажа" (К. Леви-Стросс): Пильняк не просто "собирает" о герое всю информацию, но и вовлекает читателя в работу над образом. Он строится гшсателем как классический мифологический образ культурного героя. Сюжетная канва повести, связанная с историей добычи Иваном Москвою радия, способствует воспроизведению атмосферы одного из архаичных мифов творения: добывание мифологическим культурным героем природных или культурных объектов в некоем далеком месте, ином мире. В этом смысле фигура Ивана Москвы архетипичсски восходит к "прометеевскому типу" культурного героя.
Исследования по мифопоэтике показывают, что личность героя большей частью имеет драматический характер, ибо "в мифах укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного преодоления испытаний и трудностей" (Е.Мелетинский). Иван - новый алхимик эпохи, пренебрегший предостережениями самой Матери Земли. Как классический мифический герой, он двойственен: несоответствие описания его внешности (сильный, широкоплечий, коренастый) и внутреннего мира (хрупкость сознания, необратимый распад, надвигающееся безумие). Зачастую мифологический герой испытывает мучительную смерть. Не исключение и Иван Москва. Но важнейшая для Пильняка идея о том, что все в этом мире подчинено единому закону взаимоотражения энергии, способствует снятию трагического пафоса с финала повести. Благодаря чему смерть Ивана Москвы мыслится как второе рождение, ибо "вместо Ивана - на место Ивана - сейчас ехало - за счет распадения энергии Ивана - ехало полтораста студентов, "оттесняемых" в знание..." В этом отразилось проявление древнего отношения к окружающему нас миру, продиктованного особой мифологической логикой первобытного человеческого сознания, логикой, подсказанной художнику самой природой вещей, природой "матери - сырой земли".
Глава третья "Картинамира и пути ее воссоздания в повести Б.Пильняка "Красное дерево"" посвящена исследованию элементов поэтики писателя, отражающих логику развития условно-бытовой тенденции во второй половине 20-х гг. При сопоставлении повестей друг с другом обнаруживаются принципиальные изменения, приведите к тому, что кропотливое изображение примет русской жизни ("Красное дерево") изнутри разрушает творимый в "Иване Москве" миф эпохи Великого Ожидания.
Третья глава состоит из трех разделов. Первый связан с анализом композиционной структуры повести (кольцевой тип построения, умение уже в первых строках обозначить примерный спектр основных тем и мотивов). Содержание состоящей из 5 глав повести определяется развитием двух линий. И
та, и другая связаны с темой странного человека, но различие между ними определяется спецификой авторского отношения к разным видам "чудачества". Первая линия ("нищие, провидоши ... дураки, юродивые...") строится в оппозиции к традиционному для русской культуры и литературы отношению к таковым. Вторая - заявлена автором как другая сторона русского бытия и связана с "и н ы м и чудакам и" (русские мастера, творцы). В итоге рождается проблемно-тематическое единство, сложный метафорический контекст которого определятся взаимодействием двух линий. Необходимо отметить, что в целом композиционная структура "Красного дерева" превращается в способ глобального обобщения, отразившего исгорико-I¡синологический срез русской жггши, символично изображенный а образе Города - русского Брюгге и российской Камакуры.
Второй раздел 3 главы диссертации исследует различные формы бытования художественного времени в повести Б.Пильняка "Красное дерево". Концепция художественного времени в "Красном дереве" связана с особым отношением к миру прошлого, включенному в парадигму времен, связь в которой обусловлена категориями нравственного порядка ( память, духовное родство, гуманизм). В отличие от "Ивана Москвы", где время мыслится мифологически (правремя - эмпирическое - циклическое), в "Красном дереве" оно обладает иной направленностью: очевиден его эпический, линейный характер. Здесь, в повести, мы обнаруживаем описание событий и терминах нескольких "временных систем" (Е.Яковлсва): бытовое (время частного человеческого существования) и надбытсвое (события вне круга повседневности н соотносятся с духовной сферой). Их совокупность и определяет своеобразие сложной временной системы повест и Б.Пильняка.
Наблюдая за формами бытования художественного времени в "Красном дереве", мы становимся свидетелями создания художником особой картины мира, пространство которого представляет собой сложную систему взаимодействия поэтических образов Города, Дома, Людей, их населяющих, Колокольного звона, Дороги. Созданная писателем концепция оборвавшегося в истории времени, повлекшая за собой ощущение полной остановки естественной человеческой жизни, привела к формированию апокалиптического видения мира. В его основу положена эсхатологическая ситуация, поэтому художник выходит на уровень надбьпояого (бытийного) понимания времени. И действительно, вопреки мифопоэтическому характеру трансформаций (эсхатология оборачивается космогонией) сколько бы раз ни творился мир жизни русского Брюгге и российской Камакуры, он неизменен, как и много веков подряд.
Созданная в повести концепция художественного времени способствует появлению особой мифологемы конца, за которой - единая картина мира, пронизанная чувством финальной катастрофы, творимого на глазах Абсурда, Хаоса, сожравшего логику, смысл, настоящих героев - демиургов времен кожаных курток и Ивана Москвы.
Третий раздел 3 глады диссертации посвящен образу юродивого, создаваемому Пильняком в диалоге с русской классической традицией.
В содержащейся в повести галерее "чудаков" и "юродивых" особое место занимает Иван Ожогов - "юродивый советской Руси справедливости ради, молец за мир и коммунизм". Создавая этот образ, Пильняк выступает в оппозиции к литературной традиции благоговейного отношения к блаженным, но при этом создает фигуру, приближенную к каноническому типу юродивых (физическая и нравственная аскеза, дар предвидения, особый кодифицированный язык ). Можно говорить о двух сторонах юродства Ожогова: активной и пассивной. Активная проявляется в "обязанности ругаться миру", обличать пороки и грехи, не взирая на общественные приличия. Пассивная - в оскорблении и умерщвлении плоти, в служении идее строительства новой жизни, полной любви и доверия. Суть этой идеи - в его красноречивых тирадах, ключом к которым становятся слова, отражающие поэзию настоящего коммунизма как "...любви, уважения к человеку..." Слова "коммунизм", "братья Райты", "любовь", "со-работа" были понятны слушателям, которые поддавались патетике речей Охломона и плакали.
Пильняк пародирует историко-литературную традицию, но при этом отражает специфику отношений юродивого и власти: последняя опирается на существующее в народной культуре восприятие юродивых как пророков, олицетворение совести. Протест Оркогова против церкви, власти, обыденности -это не бунт и не призыв к реформам, это обвинение людей в неумении возродить в этом мире любовь. И в этом смысле Охломон ведет себя как подлинный юродивый.
Образ юродивого несет в повести особый смысл. Он объединяет эпохи, века и, главное, отражает удивительное постоянство русского быта, горького бытия, не подчиняющегося никаким революциям. Не случайно в облике России времен НЭПа проглядывает лик неизменной и вечной Руси.
Т радиционно юродство создает мир "н а в ы в о р о т", в котором абсурд становится нормой. Соответственно жизнь Города, жизнь России - это жизнь наизнанку, по законам абсурда И в "Красном дереве" этот абсурд торжествует.
В Заключении представлены выводы, выработанные в ходе исследования.
Характерное для творчества Б.Пильняка совмещение мифопоэтического и бытового, природного и исторического - закономерное явление развития эстетической реальности 20-х гг., ставшее следствием взаимодействия двух типов художественного мировосприятия (реализм, модернизм), вызванных логикой развития литературного процесса нач. XX века.
Взаимодействие обозначенных начал проявляется в художественной практике писателя на разных уровнях, в первую очередь, на отологическом. На стилевом - это определяется всем ходом художественной эволюции писателя: интерес к мифопоэтическому и бытовому был изначально присущ системе пильняковских представлений о мире.
Безусловно, Пильняк обладает мифопоэтическим взглядом на мир (мифопоэтическая логика, воспроизведение характерных .для большинства
мифов функций, использование характерных архетипов, мифологем "начала" и "конца", "бриколажность" мышления). Пр:ппани2 данного факта не просто способствует вычленению сакрального родства между мифом и бытом, а также обнаружению быто-бытийного подтекста произведений писателя. В итоге сфера Вечности, нриродожизни оказалась спаяна со сферой предметной категориальносш. Таков феномен нового синтеза, особого антиномичного отава. Отсюда и уникальное свойство пилымковского дара видеть в сиюминутном - вечное, бытийное - в бытовом.
Художественная картина мира в произведениях второй половины 20-х гг. рождается в русле взаимодействия двух начат п обнаруживает связь, с одной стороны, с природными циклами, с мифологическим хронотопом, ептуацией творения; с другой - с обыденным течением человеческой жизни, с историко-социальными процессами, с бытовой окрашешюстью категорий пространства и времени.
Повесть "Иван Москва" способствует завершению мифопоэтического контекста всего пильняковского творчества. Здесь вырисовывается совершенно особая картина мира. Ее центр представляет собой вертикаль, образовавшуюся в результате проекции друг на друга двух важных мифопоэтических категорий горы и ущелья. В сравнении с традиционном мифопоэгической моделью мира, обладающей одним пространственным центром ("мировая гора", "мировое древо"), можно говорить о создании Пильняком своего, авторского мифа. Па материале русской жизни середины 20-х гг. в повести развернута своеобразная ситуация мифического творения, реализуемая через Ивана Москву, изображенного в контексте мифологического архетипа "культурного героя", нового Прометея.
Повесть "Иван Москва" - своеобразный "мировоззренческий манифест" художника, базовым понятием которого становится "энергия" во всеобъемлющей полноте включенных в нее смыслов. Формирование в повести единого семантического ноля энергии - иллюстрация циклической организации Мира, Вселенной, Человеческого Бытия, которая "канонизирована" мифом и преисполнена особого смысла Цикличность времени, повторяемость образов, семантика круга, зеркальное отражение - таков неполный перечень компонентов мпфопоэгической картины мира, рожденной авторским мифотворчеством.
Логическим завершением оформления условно-бытовой тенденции стата повесть "Красное дерево". В отличие от "Ивана Москвы", быт здесь - это уже не мифическое детище нового сознания, а вместилище истории, развернутая метафора человеческого существования, организатор пространственно-временного континуума "Красное дерево" обнаруживает поразительную способность Б.Пильняка "передавать материальную поверхность вещей" (Вяч. Полонский), концентрированно и экономично излагать материал в соответствии с авторским отношением к действительности. Вновь мы наблюдаем за созданием особой картины мира, в основу которой положена эсхатологическая ситуация. Способом обнажения Хаоса и Абсурда в "Красном дереве" становится образ юродивого, созданный в противоречивом диалоге с
русской культурной традицией. Он не просто выступает в роли сюжетообразующего мотива, "медиатора" времен, но и способствует созданию особой картины мира "навыворот", тем самым становясь гротескным олицетворением парадоксов горькой российской жизни.
Повести "Иван Москва" и "Красное дерево" завершают наиболее плодотворный и художественно значимый период творческого пути Б.Пилымка. В 30-е годы перед налог уже совершенно иной художник. Соответственно исследование художественного мира Пильняка необходимо проводить в других координатах, с учетом историко-литературной ситуации обозначенного периода.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1."0 структуре художественного времени в повестях Б.Пильняка "Иван Москва" и "Красное дерево"". - Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. II Веселовские чтения. - Ульяновск, 1998.
2. "Мифотворчество в российской литературе: трансформация архетипа героя (На материале повести Б.Пильняка "Иван Москва") " - Человек в культуре России. - Ульяновск, 1998.
3. "Лейтмотив как принцип организации художественного целого в повести Б.Пильняка "Иван Москва"". - IV Ручьевские чтения. - Магнитогорск, 1998.
4. "Образ юродивого в повесги Б.Пилышка "Красное дерево". Диалог с традицией." - Человек в культуре России. - Ульяновск, 1999.
5. "Художественное пространство в повести Б.Пилышка "Красное дерево"". -Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. 1П Веселовские чтения. - Ульяновск, 1999.
Подписано к печати 29. 12. 1999 г. Формат бумаги 60x90 1/16 Бумага типографская. Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 196?. Ротапринт Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова 432700, Ульяновск, пл. 100-летия В.И.Ленина, 4.
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Федорова, Татьяна Николаевна
Введение.
Глава 1. Взаимодействие мифопоэтической и условно-бытовой тенденций в художественном мире Б.Пильняка.
1.1. Стилевое своеобразие прозы Б.Пильняка как проблема.
1.2. Формы бытования и логика развития мифопоэтической и условнобытовой тенденций в творчестве Б.Пильняка 1915-1920-х гг.
Глава 2. Повесть "Иван Москва" в контексте мифопоэтического мышления Б.Пильняка.
2.1. Композиционное своеобразие повести Б.Пильняка "Иван Москва".
1. "Вступительная
глава" и ее роль в композиции повести.
2. Организация лейтмотивной структуры повести.
2.2. Тип героя и пути его художественного изображения.
Глава 3. Картина мира и пути ее воссоздания в повести Б.Пильняка "Красное дерево".
3.1. Композиционная структура повести.
3.2. Концепция художественного времени.
3.3. Образ юродивого: диалог с традицией.
Введение диссертации1999 год, автореферат по филологии, Федорова, Татьяна Николаевна
Имя Б.А. Пильняка (Вогау) (1894 - 1937 гг.) - одно из самых ярких писательских имен 20-х годов. Творческая судьба этого художника складывалась из периодов пристального внимания к его произведениям и полного забвения их.
В процессе развития научно-критической мысли о Б.Пильняке можно выделить несколько этапов.
Первый - это 20 - 30-е гг. Этап, совпавший с послереволюционным периодом писательской деятельности художника и связанный с именами А.Воронского, Вяч. Полонского, Д.Горбова, В.Шкловского, В.Переверзева, Д.Фурманова, Н.Берковского и многих других . Логика суждений и оценок на этом этапе определяется наличием двух типов отношения к искусству: как к придатку идеологии (Пролеткульт, РАПП, ЛЕФ и др.) и как к особому специфическому способу познания жизни ("Перевал", "Серапионовы братья", "ОПОЯЗ").1
Огромный вклад в осмысление художественной практики Б.Пильняка внесен профессиональными критиками журнала "Красная новь" (орган "Перевала"). У них была своя, относительно целостная эстетическая система, базирующаяся на общности постулатов, связанных с пониманием проблемы мировоззрения и творчества , на специфическом восприятии мира, в центре которого находится "полноценный и полнокровный человек, владеющий всем арсеналом чувств."3 Такое восприятие мира было характерно и для Пильняка, что соответственно приближало его к эстетическим позициям перевальцев.
А.Воронский (1923) с присущей ему литературоведческой зоркостью, точно и метко охарактеризовал ведущие свойства эстетической и писательской манеры Пильняка. Одно из них, давно сложившееся и всеоопределяющее, исследователь сформулировал следующим образом: "Пильняк - писатель "физиологический". тянется к природе, как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая.древняя, исконная.".4 Тяготение к природной, первобытной жизни, с точки зрения Воронского, - "исходная точка, ключ к его художественной деятельности". Разочарование в ценностях современной буржуазной культуры, сознание ее тупика, чувство дисгармонии и тоски по выпрямленной, "правильной жизни", усталость от "психологических утонченностей и усложненностей", русская революция, вскрывшая недра стихийных сил, " война и революция, показавшие современному интеллигентному человеку значение вещи как таковой и ценность жизни в ее простоте, грубости, примитивности" - таковы причины, объясняющие стремление художника к созерцанию "целой жизни", к первобытному, упрощенному. "Физиологичность" - основа пильняковского понимания мира: жизнь художник воспринимает через призму сталкивающихся в ней инстинктов, рационального и иррационального начал. Таково содержание категориального для поэтики Б.Пильняка понятия "целая жизнь", с позиций которого А.Воронский исследует истоки пильняковской двойственности. Она обнаруживается в настроениях писателя ( бодрость, задор - горечь, тоска), в его отношении к революции (национальное - космическое; жизнь -смерть), в положениях его "историософии" (большевизм - славянофильство)6 и т.д. С точки зрения Воронского," у Пильняка нет цельности, он часто как бы расщепляется . мысли и образы сталкиваются, не согласуются и даже противоречат друг другу"7, но есть тенденция к ее преодолению через поиск "органического и биологически простого", через тяготение к первобытному, к естественной жизни . "В этом, - как говорит критик, - он по-своему целен и последователен. "8
Исследуя писательскую манеру Пильняка, Воронский отмечает своеобразие стиля, речи - "ухабистая, раскидистая", "грешит по части сказуемого и подлежащего, часто тире."9 Основной художественный метод Пильняка в работе над словом - "искать первичное, .не замутненное позднейшим."10 С точки зрения исследователя, это от любви к слову у художника много вводных слов, вставок, повторений, стилизованная манера думать, мозаицизм. "Стилизованная манера думать, - пишет как думает, -когда человек перебрасывается с одного на другое, особенно характерная для непроизвольного мышления - мысли плывут хаотично, вольно, как облака по небу. Мазок в одну сторону, мазок в другую, в третью, десятую, потом в конце еще какими-то штрихами воссоздается целая картина."11 Но при видимой щедрости - "большая экономия": умение в одном предложении разместить целую систему импрессионистически очерченных образов и понятий.
Несмотря на наличие ряда серьезных претензий к писателю12, А.Воронский высоко оценивал его творчество, видел в нем основу будущего художественного роста.
Подобное отношение к Пильняку было присуще А.Лежневу, Д.Горбову13, Вяч.Полонскому.
В своей статье "Шахматы без короля" (1927) Вяч.Полонский "продолжает" разговор о пильняковской двойственности и очевидных ее проявлениях на тематическом уровне (тема уходящего дворянства - тема революции и России)14; на уровне природной заданности художественного дарования (следование традициям русской классической литературы, реалистическому методу постижения мира - разрушение традиций, импрессионистическая, модернистская манера письма)15; в отношении к революции (космический размах - национальный характер; абсолютное приятие - испуг)16; к быту (репортерская точность в описании "коломенского уголка русской земли", но при этом нельзя "всерьез назвать бытописателем,
17 так в нем все.разворочено") .
Опираясь на художественный опыт Б.Пильняка, Вяч.Полонский последовательно доказал, что в творчестве данного художника существует своя картина мира, без знания которой не может быть серьезного прочтения того или иного революционного автора. В основе пильняковской картины мира, с одной стороны, обнаруживается мифологическое отношение к миру, метафоричность мышления, а с другой - оригинальный талант бытописателя, являющийся одновременно продолжением и преодолением классической традиции.18 Последнее, безусловно, связано с особым отношением художника к революции.19 Этот вопрос - один из основных в структуре статьи Вяч.Полонского, он - ключ к объяснению целого метафорического ряда образов, олицетворяющих символы революционного действа (метель, волк, зверь, ветер и т.д.): "В пооктябрьской русской литературе я не знаю другого, за исключением Блока, писателя, который с таким пафосом воспел бы порывистый ветер революции."20
Анализ некоторых произведений Б.Пильняка позволил автору статьи отметить характерные свойства писательской манеры художника. Одним из основных Полонский называет принцип калейдоскопичности, организующий материал и придающий ему некое подобие художественной цельности: Пильняк - "самый сумбурный.нестройный и неясный писатель современности"21, превративший хаос в прием22, ставший композиционным стержнем его произведений23. Вяч.Полонский не принимал пильняковской осколочности", многократных повторов, "небрежности к человеку", считая это "отсутствием вкуса". Но тем не менее Пильняк оставался ему дорог как художник талантливый и перспективный.
Рапповский взгляд на Пильняка формировался в оппозиции к перевальцам с опорой на постулаты марксизма и вульгарно-социологического подхода. Художественная практика прозы 20-х гг. с трудом вмещалась в готовые схемы рапповцев, и это обусловило однозначное неприятие очевидных художественных открытий и Пильняка, и Замятина, и Бабеля, и многих других.
Н.Я.Берковский (1928) выступал за нормативную эстетику, поэтому многое в прозе Б.Пильняка он подверг сокрушительной критике в статьях "Две книги Пильняка ("Расплеснутое время" и "Очередные повести")24 и "Борьба за прозу"25. В них нормы советской прозы (актуальность, предметность, нейтрализованный лиризм, энергичное настроение) противопоставлялись "таланту" анекдотиста (смесь сентиментальных и венерических анекдотов) и лизрика ("лирика все испортила")26. В итоге, с точки зрения Берковского, "пильняковский путь - вот самое предостерегающее из литературных заблуждений."27 Этот приговор Н.Берковского вполне перекликается со словами Г.Горбачева28 о том, что Пильняк полезен только одним - своим отрицанием старого, во всех же остальных темах его творчества обнаруживаются идеалы человека, революции враждебного. Свои сомнения в революционной преданности писателя высказывали М.Лиров29, В.Вешнев30, Г.Лелевич31 и др. Но к концу 20-х - началу 30-х гг. эти сомнения приобретают статус прописных истин: Пильняк - попутчик, которому грозит участь забвения (С.Канатчиков)32; в его произведениях - ложь, манерность, духовная нищета (С.Герзон)33. Соответственно в 1937 году ничто не помешало обвинить художника в связи с троцкистами и превратить Пильняка в опасного "прихвостня белогвардейцев"34.
При всех перехлестах вульгарно-социологического характера значение критических суждений 20-30-х гг. в истории отечественного пильняковедения велико. В них заложены начала многих подходов современного пильняковедения:
-прочтение творчества Б.Пильняка с точки зрения русской классической традиции и определение его литературной родословной (А.Чехов, И.Бунин, М.Горький, А.Ремизов, А.Белый и др.);
- выявление мифологизма мышления как структурообразующего свойства мировоззренческой системы;
-определение основных антиномий присущей художнику двойственности; -изучение генетической природы творчества (связь с импрессионизмом, взаимодействие стилей);
- исследование ключевых поэтических категорий и своеобразия писательской манеры;
- детальный литературоведческий анализ ряда произведений.
Эти и другие подходы были заявлены здесь, в работах А.Воронского, Вяч.Полонского, В.Шкловского, Д.Горбова, П.Когана и др.
Второй этап - 40-70-е гг. - занимает особое положение в истории пильняковедения. Если исходить из заявленных хронологических рамок, то вплоть до конца 50-х гг. этого этапа как такового у нас не было35. Практически 20 лет полного замалчивания. Любое упоминание о Пильняке сопровождалось непременной критикой в его адрес по поводу эпигонства, попутничества, идеологической несостоятельности.
Вновь публиковать произведения писателя стали к концу 50-х гг., с приходом хрущевской "оттепели". Это совпало с усилением интереса к литературному процессу 20-х гг., что повлекло за собой появление монографий В.Иванова36, А.Метченко37, С.Шешукова38 и др., содержание которых свидетельствует о сохранении вульгарно-социологического подхода в оценке творчества Б.Пильняка.39 Споры о нем стали составной частью полемики вокруг модернизма как "непродуктивного" метода восприятия окружающей действительности. В контексте перечисленных обстоятельств Пильняк "выступает" как писатель буржуазного крыла, "издевающийся над энтузиазмом рабочего класса", оплевавший Россию, сочинивший гнусный пасквиль на советскую действительность ("Красное дерево"), презревший революционные идеалы (В.Иванов)40. Его романы - свидетельство "бесперспективности модернизма" советской литературы. В итоге, "несмотря на определенный талант", образ Пильняка формировался как образ человека, чьи "реакционные настроения" "глубоко чужды идеалам социализма"41
Своеобразным событием стало появление в печати работ Ю.Андреева42, В.Бузник43, В.Новикова44, П.Палиевского45. При внешней социологической заданности46 в целом это работы, содержащие дельный разговор о поэтике Пильняка, об ее основных категориях и системе художественных средств.
Особое место среди них принадлежит П.Палиевскому (1966). Размышляя о структуре русского модернизма, автор статьи характеризует 20-е гг. в развитии русской литературы как период некоего внутреннего взрыва, "извержения "общих форм""47, которые прорвались в творчестве типичного авангардиста Б.Пильняка и в его новой технике романного письма. Своеобразие этой новой техники состояло в умении художника стилистически передать ритм современной ему жизни, что в свою очередь требовало особого мастерства слога: отрывистости, телеграфичности, обилия лейтмотивов, рефренов и т.д. Безусловное достоинство данной работы состоит в новом взгляде на Пильняка, который связан с включением художественной практики писателя в мировой литературный процесс XX века, в контекст изучения литературоведами романов Дос Пасоса, Джойса и др.
Вступительная статья В.Новикова - одна из первых попыток рассмотреть творчество Пильняка в целом, начиная с 1915 года и заканчивая последними романами 30-х гг. Работа "Творческий путь Б.Пильняка" - это первый опыт целостного прочтения, включающий в себя биографический, мировоззренческий, социально-исторический, проблемно-тематический и другие подходы.
Современный этап отечественного пильняковедения - 80-90-е гг. - стал новым витком возвращения к читателю творческого наследия художника ("Повесть непогашенной луны", "Красное дерево"). Появляется множество работ мемуарно-публицистического характера, среди которых особое место занимают воспоминания Б.Андроникашвили-Пильняк48 и
К.Андроникашвили-Пильняк49.
Сегодня можно говорить о своеобразной дифференциации аспектов изучения творческого наследия: биографический, литературоведческий и лингвистический подходы.
Учитывая тот факт, что возвращение Б.Пильняка к читателю было вызвано, в первую очередь, идеологическими причинами, собственно проблемам поэтики поначалу уделялось мало внимания. Выявление мировоззренческо-идеологической позиции автора не исчерпывало всей глубины и многообразия художественных исканий Пильняка и, в лучшем случае, сводилось к проблемному анализу ранее запрещенных произведений.50
В современном отечественном пильняковедении изучение поэтики писателя, пожалуй, только начинает набирать обороты, хотя, бесспорно, сделано уже многое и в этом заслуга таких исследователей, как А.Ауэр51, И.Шайтанов52, С.Горинова53, В.Крючков54, Н. Тамарченко55, Г.Бахматова56 и др.
В работах А.Ауэра и И.Шайтанова обнаруживается стремление выявить не только мировоззренческие основы творчества57, связь с литературным процессом 20-х гг., с традициями русской классической литературы, но и воссоздать целостное представление о художественном мире Б.Пильняка в его эстетическом и поэтическом многообразии. М.Голубков в книге
Утраченные альтернативы. Формирование монистической концепции советской литературы 20-30-х гг."58 (1992) размышляет о творчестве Б.Пильняка в контексте эстетики импрессионизма и ее роли в развитии русской литературы периода 20-х гг.
На сегодняшний день творчеству Б.Пильняка периода 20-х гг. посвящено несколько диссертаций, особое место среди которых занимают работы С.Гориновой59 (изучение основных проблем прозы Б.Пильняка 20-х гг.) и И.Карпенко60 (анализ системы языковых средств орнаментальной прозы Пильняка).
Характерными свойствами этого этапа является стремление исследовать творчество Б.Пильняка, особенно периода 20-х гг., как целостную художественную систему, в которой "синтезированы" художественные поиски русской литературы рубежа 19-20 вв. в сочетании с индивидуальным авторским новаторством; явление своеобразной манеры письма ("монтажность" композиции, ослабленная фабула, цитация и самоцитация, явление "гено - текста" и т.д.); собственно филологический анализ ряда произведений с включенностью их в контекст нравственно-философских проблем и соответствующую им систему изобразительных средств.
Однако сегодня одной из важных проблем в отечественном пильняковедении по-прежнему остается исследование художественного мира писателя; поиск ответа на вопрос об уникальной целостности, рождающейся из, казалось бы, взаимоисключающих содержательных и стилеобразующих пластов.
Целью исследования является попытка обозначить новый подход к пониманию своеобразия поэтического наследия художника через взаимодействие мифопоэтической и условно-бытовой стилевых тенденций.
Для этого было необходимо решить следующие задачи:
- осмыслить понятийный аппарат мифопоэтики и "теории быта" применительно к творчеству Б.Пильняка;
- выявить наиболее активно "работающие" в художественных текстах Пильняка основные мифопоэтические и бытовые категории для исследования проблемно-тематической, сюжетно-композиционной, пространственно-временной организации произведения как завершенного целого;
- не стремясь представить полный обзор творчества писателя 10-20-х гг., проследить эволюцию мифопоэтической и условно-бытовой тенденций в произведениях этих лет;
- рассмотреть повести "Иван Москва" (1927) и "Красное дерево" (1929) как итоговые явления стилевой двойственности Б.Пильняка;
- выйти на обобщение художественных поисков писателя в контексте общелитературного процесса взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма.
Предмет исследования - рассказы и повести 1915-1929 гг., объект пристального анализа - "Иван Москва" и "Красное дерево".
Положения, выносимые на защиту: 1. Особый аспект исследования творческого наследия Б.Пильняка, связанный со взаимодействием мифопоэтической и условно-бытовой стилевых тенденций.
2. Проза Б.Пильняка периода 20-х гг. как художественно целостный организм, рождающийся из антиномичности стилевых пластов.
3. Повести "Иван Москва" и "Красное дерево" - закономерный итог творческой эволюции писателя, обнаруживший логику развития ведущих тенденций творчества и типологическую сущность происходящих в нем процессов.
Методологическую основу исследования составляют труды по теории литературы (М.Бахтин, В.Виноградов, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, В.Шкловский, Б.Эйхенбаум; М.Гиршман, Д.Лихачев, Ю.Лотман, Б.Успенский; М.Голубков и др.); по мифопоэтике (А.Афанасьев, А.Лосев, Е.Мелетинский, А.Потебня, В.Топоров, М.Элиаде и др.) и по изображению быта в литературе (В.Белинский, В.Кулешов, А.Чудаков и др.).
Исследование выполнено в рамках сравнительно-типологического метода; литературоведческий анализ дополнен элементами лингвостилистического характера.
Апробация работы. Основные положения исследования были сообщены автором на теоретическом семинаре, на итоговых научных конференциях Ульяновского педагогического университета (Ульяновск, 1997, 1998, 1999), на 2-х Веселовских чтениях (1997). По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы: "О структуре художественного времени в повестях Б.Пильняка "Иван Москва" и "Красное дерево"". - Проблемы взаимодействия эстетических систем реализма и модернизма. 2-е Веселовские чтения. -Ульяновск, 1998.; "Мифотворчество в российской литературе: трансформация архетипа героя (На материале повести Б.Пильняка "Иван Москва")." -Человек в культуре России. - Ульяновск, 1998.; "Лейтмотив как принцип организации художественного целого в повести Б.Пильняка "Иван Москва"". - 4-е Ручьевские чтения. - Магнитогорск, 1998.; "Образ юродивого в повести Б.Пильняка "Красное дерево". Диалог с традицией." - Человек в культуре России. - Ульяновск, 1999.
Возможность практического применения результатов диссертации. Теоретические выводы и исследовательский материал можно использовать в преподавании курса русской литературы XX века, спецсеминарах по творчеству Б.Пильняка, спецкурсах по мифопоэтике, по теории орнаментальной прозы и взаимодействию эстетических систем реализма и модернизма на филологических факультетах вузов, в гуманитарных классах общеобразовательных школ, лицеях, гимназиях.
Данное исследование состоит из 321 страницы машинописного текста, включающего Введение, 3 главы, Заключение и Примечания. Указатель литературы включает 264 наименования.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Художественный мир Б. Пильняка 1920-х годов"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Логика развития литературного процесса нач. XX века, определявшаяся взаимодействием двух типов художественного мировосприятия (реалистического и модернистского), способствовала появлению разного рода "промежуточных" форм. Характерное для творчества Б.Пильняка совмещение мифопоэтического и бытового, природного и исторического - закономерное явление развития эстетической реальности того периода.
Взаимодействие обозначенных начал проявляется в художественной практике писателя на разных уровнях, в первую очередь, на онтологическом, ибо миф и быт объединены родовым единством в определенный момент человеческой истории, а значит, их взаимообусловленность лежит в основе всего сущего. На стилевом уровне это определяется всем ходом художественной эволюции писателя. Интерес к мифопоэтическому и бытовому был изначально присущ системе пильняковских представлений о мире, что и привело к причудливой спаянности данных тенденций и определило условный характер каждой из них, если те взяты в отдельности друг от друга. По отношению к быту это особенно очевидно. Формальные проявления мифопоэтического и условно-бытового начал обнаруживаются в процессе всего творчества, что говорит об определенной логике развития каждого из них.
Воспринимая миф как феномен сознания, мы находим тому очевидные подтверждения в творчестве Б.Пильняка. Писатель обладает определенно мифопоэтическим взглядом на мир. Это обнаруживается в инстинктивном следовании мифопоэтической логике; в воспроизведении характерных для большинства мифов функций (гармонизация человека и общества, социума и природы; объяснение, моделирование); в "прямом" переносе логики природожизни на человеческую (антропоморфизм, олицетворение); в использовании характерных архетипов, их разновидностей, мифологем "начала" и "конца"; в "бриколажности" мышления и т.д.
Соответственно характерный для Б.Пильняка хронотоп наполняется мифологическим содержанием. Раскрытие мифологической сути использованных категорий пространства и времешт, архетипа героя, особенностей взаимоотношений человека и природы, типических ситуаций моделирования новой реальности способствовало вычленению сакрального родства между мифом и бытом как порождением мифа, а также обнаружению некоего быто-бытийного подтекста в произведениях Пильняка. Оформление собственно бытового начала произошло в момент утраты былой цельности, в ослаблении "объяснительной" функции мифа. Но разъединение не стало абсолютным, наоборот, оно усложнило и по-своему синтезировало взаимодействие данных тенденций. В итоге сфера Вечности, природожизни оказалась спаяна со сферой предметной категориальноети. Таковы этапы рождения нового синтеза, особого антиномичного сплава.
Быт как явление у Пильняка обладает определенным набором комплектующих: окружающая человека микросреда (предметный мир), социальные взаимоотношения и этические нормы. Как правило, в творчестве писателя обнаружен весь комплекс обозначенных элементов, но воспринят он им по-особому: в следовании традиции и одновременно в ее преодолении. Данный факт способствует усилению нравственного компонента, который во взаимодействии с мифопоэтическим началом обеспечивает особый тип бытописательства. Мастерски очерченный автором быт (наблюдательность, знание провинциальной жизни) подчинен обстоятельствам "абсолютного сдвига и катастрофы". Б.Пильняку важен не быт как предмет художественного изображения, а приметы времени, отражающие социальные процессы.
Изображение человеческого быта многофункционально: вслед за реалистической традицией сохраняется его аксиологическая функция, но вместе с тем оно превращается в способ разговора об исторических и нравственно-философских категориях. Быт у Пильняка,"включенный" в идею циклической повторяемости всех жизненных явлений, обнажает свою подлинную суть - абсолютную неизменность, ибо все так называемые "новые" формы быта - только лишь внешняя условность, вызванная обстоятельствами текущего времени.
Подобное открытие позволяет художнику по-своему решить проблему хронотопа. Природа его исключительна: при внешней обытовленности это результат особого бытия. Не случайно бытовая сфера погранична с надбытовой - таково уникальное свойство пильняковского дара видеть в сиюминутном - вечное, бытийное - в бытовом. Это свойство, определяемое тесным взаимодействием мифопоэтического и условно-бытового начал, -проявление особой художественной цельности, обнаруженной в анализе произведений художника 1915-1925 гг.
Формирование художественной картины мира в творчестве Б.Пильняка практически завершилось к 1927 году. Рожденная в русле взаимодействия двух начал, она обнаруживает в себе связь, с одной стороны, с природными циклами, с мифологическим хронотопом, с типичной для мифов ситуацией творения; с другой - с обыденным течением человеческой жизни, с историко-социалъными процессами, с бытовым наполнением присущих для условно-бытовой тенденции категорий пространства и времени. Повесть "Иван Москва" и "Красное дерево" стали итоговыми произведениями в контексте развития обозначенных начал и отражают логику эволюции художественного сознания Б.Пильняка.
Повесть "Иван Москва" способствует завершению мифопоэтического контекста всего пильняковского творчества. Его углублению в повести способствует особая композиционная структура повести. В ней обнаруживается характерный для художника тип построения, близкий к тому, что в терминологии современного литературоведения принято называть "гено-текстом". В "Иване Москве" он обнажен предельно и явлен многопланово: в способе называния глав, в логике их расположения, в комплексе авторских комментариев и в использовании особых оборотов речи.
Проведенное в работе исследование "Вступительной главы" "Ивана Москвы" свидетельствует о предельной концентрированное™ авторского начала, выразившегося в особом понимании мира, в стремлении выйти на уровень универсальных размышлений о жизни, о ее законах, о природной логике Бытия, о взаимосвязи эпох, о преемственности поколений, о взаимоотражении культур.
Композиционным отражением авторского "всевластия" становится лейтмотивная структура повести, сигнализирующая о принадлежности художника к практике орнаментальной прозы 20-х гг. Так же, как и у других писателей данного направления, у Пильняка происходит некое условное разделение содержательного материала между лейтмотивным и сюжетным повествованием: на фабульном уровне обнаруживается видимость мира, на лейтмотивном - его глубинная сущность.
Лейтмотив как композиционная единица выполняет в повести важную роль, что проявляется одновременно на нескольких уровнях. На композиционном - лейтмотивы превращаются в "скрепы" разных повествовательных пластов, то есть выполняют "цементирующую", "структурообразующую" функцию. На проблемно-тематическом - они отражают движение авторской мысли в исследовании вечных вопросов Бытия.
Наиболее значимыми нам видятся мотивы египетской мумии, бреда, восхода солнца и радия. Все они "завязываются" во "Вступительной главе повести; обладают примерно одинаковой структурой, включающей в себя антиномии живого-мертвого, бреда-яви, близкого-далекого, обыденного-исключительного, светлого-темного, своего-чужого и т.д., порожденные особой мифологической логикой; формируют особый пространственно-временной континуум и служат созданию единого семантического поля.
Благодаря взаимодействию лейтмотивов в повести оформляется совершенно особая картина мира. Ее центр представляет собой некую вертикаль, образовавшуюся в результате проекции друг на друга двух важных мифопоэтических категорий горы и ущелья (лощины). В сравнении с трпдипионной мифопоэтической моделью мира, обладающей одним пространственным центром ("мировая гора", "мировое древо"), можно говорить об индивидуальном видении пространственных структур бытия, о создании Пильняком своего, авторского мифа. На материале русской жизни середины 20- х гг. в повести развернута своеобразная ситуация мифического творения.
Носителем особого мифопозтического понимания художественного времени в повести является герой, решенный в контексте мифологического архетипа "культурного героя". Включенность Ивана Москвы в ситуацию "добывания огня" (радия), преодоления природных преград позволяет соотнести ряд фрагментов повести с известным мифом о Прометее и в то же время выводит героя в качественно иную ситуацию, где происходит не только принципиально новое "взаимодействие человека с огнем", но и с конкретно историческим Временем.
Повесть "Иван Москва", таким образом, является "мировоззренческим манифестом" художника, базовым понятием которого становится "энергия" во всеобъемлющей полноте включенных в нее смыслов. Энергия Вселенной -сумма разных типов энергии: энергии человеческого сердца, разума, солнца, улыбки и т.д. Формирование в повести единого семантического поля энергии - иллюстрация циклической организации Мира, Вселенной, Человеческого Бытия. Цикличность как форма жизни воспринята вслед за природой, "канонизирована" мифом и преисполнена особого смысла. Цикличность времени, повторяемость образов, семантика круга, зеркального отражения -таков неполный перечень компонентов мифопоэтической картины мира, рожденной авторским мифотворчеством.
Логическим завершением в оформлении условно-бытовой тенденции является повесть Б.Пильняка "Красное дерево". В ней изображение примет русской жизни, сочетание "репортерской точности" с условным "бытописательством" развороченной действительности изнутри разрушает творимый в "Иване Москве" миф эпохи Великого Ожидания.
Быт в данной повести явлен разносторонне. В отличие от "Ивана Москвы", это уже не мифическое детище нового сознания, а вместилище истории, эпох и одновременно отражение конкретного времени, развернутая метафора человеческого существования, организатор пространственновременного континуума. "Красное дерево" обнаруживает поразительную способность Б.Пильняка "передавать материальную поверхность вещей", концентрированно и экономично излагать материал в соответствии с авторским отношением к действительности.
В повести формируется сложный идейно-тематический контекст, способствующий наполнению характерного для повести хронотопа особым смыслом. С одной стороны, он обнаруживает практически классицистическую нормированность пространства и времени, с другой -тенденцию к расширению, размыканию. В итоге возникает конкретная и одновременно условная модель русской жизни, выраженная в образе Города -русского Брюгге и российской Камакуры. Образ замершего во времени города превращается в глобальное обобщение, отражение историко-психологической неподвижности русской жизни.
Художественное время в "Красном дереве" в сопоставлении с повестью "Иван Москва" (мифопоэтический контекст) обладает иной направленностью, отраженной в моделях бытового и надбытового времени. Бытовой уровень воспроизводит конкретный исторический период конца 20-х гг., но надбытовое понимание придает ему метафорический смысл, связанный с идеей "жизненного круга", неизбывного постоянства, цикличности.
Взаимодействие разных уровней восприятия художественного времени осуществляется через раскрытие полисемантических образов Города, Колокольного звона, Дороги, Дома. Их значимость для поэтики Б.Пильняка исключительна, ибо в них реализуется целый комплекс представлений художника о ходе времени и месте человека в нем.
Таким образом, наблюдая за формами бытования художественного времени в повести Б.ГТилъняка "Красное дерево", мы становимся свидетелями создания особой картины мира, в основу которой положена эсхаталогическая ситуация. И если в "Иване Москве" мы сталкиваемся с космологической ситуацией, то здесь мы обнаруживаем противоположное по смыслу явление: сколько бы раз ни творился мир жизни русского Брюгге и российской Камакуры, он неизменен, как и много веков подряд. И неизменность его - это признак косности, дремучести, это свидетельство постоянного ожидания конца, жизни на грани. Не случайно особое значение в контексте повести приобретает мифологема конца, за которой скрывается картина мира, пожираемого Хаосом и Абсурдом.
Способом обнажения Хаоса и Абсурда в "Красном дереве" становится образ юродивого, созданный в противоречивом диалоге с русской культурной традицией. Значение этого образа для повести необыкновенно велико, так как он не только выступает в роли сюжетообразующего мотива, "медиатора" времен, но и способствует созданию особой картины мира "навыворот", тем самым становясь гротескным олицетворением парадоксов горькой российской жизни.
Повести "Иван Москва" и "Красное дерево" завершают наиболее плодотворный и художественно значимый период творческого пути
Б.Пильняка. В 30-е годы перед нами уже совершенно иной художник. Соответственно исследование художествнного мира Пильняка необходимо проводить в других координатах, с учетом историко-литературной ситуации обозначенного периода.
Список научной литературыФедорова, Татьяна Николаевна, диссертация по теме "Русская литература"
1. ТРУДЫ Б.ПИЛЬНЯКА
2. Пильняк Б. Повесть непогашенной луны. Рассказы, повести, роман. / Сост. Б.Андроникашвили-Пильняк. М.: Правда, 1990.
3. Пильняк Б. Повести и рассказы. 1915-1929. / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. И.Шайтанов; Подгот. текста Б.Андроникашвили-Пильняка. М.: Современник, 1991.
4. Пильняк Б. Романы. / Сост., авт. вступ. ст. И.Шайтанов; Подгот. текста Б.Андроникашвили-Пильняк. -М.: Современник, 1990.
5. Пильняк Б. Сочинения. В 3-х т. / Сост., подгот. текста, коммент. и послесл. Б.Андроникашвили-Пильняка. М.: ЛадаМ, 1994.
6. Пильняк Б. Третья столица: Повести и рассказы. / Сост. и вступ. ст. Б.Андроникашвили-Пильняк; Примеч. К.Андроникашвили-Пильняк. М.: Рус. книга, 1992.
7. Пильняк Б. Целая жизнь: Избранная проза. / Сост. и примеч. Б.Саченко; Вступ. ст. В.Новикова. Мн.: Мает. лп\, 1988.
8. Б.А.Пильняк А.Воронскому и Н.Асееву. - Литературное наследство. -1983. -Т.93. - С. 570-571.
9. Б.А.Пильняк А.Воронскому и Н.Асееву. 30 октября 1922. - Литературное наследство. - 1983. - Т.93. - С. 570.
10. Б.А.Пильняк А.Воронскому. 3 сентября 1922. - Литературное наследство. - 1983. -Т.93. -С. 567 -568.
11. Б.А.Пильняк А. Воронскому. 8 сентября 1922. - Литературное наследство. - 1983. - Т.93. - С. 568-569.
12. Б.А.Пильняк А. Воронскому. 15 февраля 1922. - Литературное наследство. - 1983. - Т.93. - С. 554-557.
13. Письма Б.Пильняка к М.Горькому. // Русская литература. 1991. - № 1. -С. 180-189.
14. Письма Бориса Пильняка В.С.Миролюбову и Д.А.Лутохину (публикация Н.Гряколовой). //Рус. литература. 1989. - № 2. - С. 213-215.
15. М.Горький Б.Пильняку. 10 сентября 1922. - Литературное наследство. -1963. - Т.70. - С. 311-313.
16. ТРУДЫ ПО ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
17. Алексеева Н. Орнаментальная проза: проблемы становления и поэтика. // Орнаментальная проза и близкие ей явления. (Методические материалы в помощь студентам, изучающим курс русской литературы XX века.) -Ульяновск: Изд-во УГПУ, 1995. С. 4 -7.
18. Андреев Ю. Революция и литература. Л.: Наука, 1969.
19. Аскин Я. Категория будущего и принцип ее воплощения в искусстве. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974.
20. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
21. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М.: Худ. лит., 1975.
22. Бахматова Г. Концептуальность орнаментального стиля русской прозы первой четверти XX века. // Научн. доклады высш. школы. Филолог, науки. 1989. -№ 5. - С 10-17.
23. Белая Г, Павлова Н. Диалектика сознательного и подсознательного в концепциях человека. //Изображение человека. М.: Наука, 1972. - С. 106-166.
24. Белая Г. Дон-Кихоты 20-х гг. М.: Сов. писатель, 1989.
25. Белинский В. Взгляд на русскую литературу 1846. // Белинский В. Собрание сочинений: В 3-х т. Т.З. М.: ОГИЗ, 1948. - С. 641-683.
26. Белинский В. Взгляд на русскую литературу 1847. // Белинский В. Собрание сочинений: В 3-х т. Т.З. М.: ОГИЗ, 1948. - С. 766-846.
27. Белинский В. О русской повести и повестях г. Гоголя. // Белинский В. Собрание сочинений. В 3-х т. Т.1. М.: ОГИЗ, 1948. - С. 100-147.
28. Белинский В. Собрате сочинений: В 3-х т. М.: ОГИЗ, 1948.
29. Белый А. Дневник писателя. // Россия. 1924. - № 2. - С. 143.
30. БерковскийН. Мир, создаваемый литературой. -М.: Сов. писатель, 1989.
31. Берковский Н. О русской литературе. Л.: Худ. лит., 1985.
32. Бузник В. В поисках нового (заметки о первых советских романах). // Рус. литература. 1964. - № 3. - С. 171-201.
33. Бузник В. Русская советская проза 20-х гг. Л.: Наука, 1975.
34. Веселовский А. Историческая поэтика. М.: Высш. школа, 1989.
35. Виноградов В. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980.
36. Виноградов В. Проблема авторства и теория стилей. М.: Гослитиздат, 1961.
37. Ворон Д. На путях становления: Особенности сюжетики советской прозы 20-х гг. Мн.: Высш. школа, 1979.
38. Воронский А. Искусство видеть мир. М.: Сов.писатель, 1987.
39. Гиршман М. О соотносительности категорий: автор и стиль литературного произведения. // Проблема автора в художественной литературе. Устинов : Удм. ун-т, 1985. - С. 44-49.
40. Голубков М. Утраченные альтернативы. Формирование монистической концепции советской литературы 20-30-х гг. М.: Наследие, 1992.
41. Горелов А. Н.С.Лесков и народная культура. Л.: Наука, 1988.
42. Грушко Е., Медведев Ю. Словарь имен. Нижний Новгород: "Три богатыря" и "Братья славяне", 1997.
43. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972.
44. Гуревич А. Что есть время? // Вопр. литературы. 1968. - № 11. - С. 151-174.
45. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М.: ТЕРРА - ТЕ11КА, 1995.
46. Двадцатый век: Проза. Поэзия. Критика. М.: Диалог - МГУ, 1996.
47. Драгомирецкая Н. Стилевые искания в ранней советской прозе. // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. М.: Наука, 1965. - С. 125-173.
48. Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М.: Сов.писатель, 1980.
49. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. JL: Наука, 1977.
50. Замятин Е. Техника художественной прозы. // Литературная учеба. 1988.- № 6. С. 79-106.
51. Замятин Е. Закулисы. // Замятин Е. Избранные произведения: В 2-х т. Т.2.- М.: Худ. лит., 1990. С. 393-404.
52. Зверев А. XX век как литературная эпоха. // Вопросы литературы. 1992. -№ 2. -С. 3-57.
53. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. М.: Наука, 1979.
54. Иванов В. Категория времени в искусстве и культуре XX века. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974. - С. 39-67.
55. Иванов В. Идейно-эстетические принципы советской литературы. М.: Худ. лит., 1971.
56. Иванов Разумник Р. История русской общественной мысли: В 3-х т. - М.: ТЕРРА - TERRA, 1997.
57. Иванов Разумник Р. История русской общественной мысли: В 3-х т. Т.З.- М.: ТЕРРА TERRA, 1997. - С. 122-123.
58. История русской советской литературы: В 2-х т. Т.1. / Под ред. проф. А.И.Метченко, доц. Л.М.Поляк, проф. Л.И.Тимофеева. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1958. - С. 183.
59. История русской советской литературы. / Под ред. проф. П.С.Выходцева. М.: Высш. школа, 1970.
60. История русской советской литературы: В 4-х т. Т.1. М.: Наука, 1967.
61. История русской советской литературы: В 3-х т. Т.1. М.: Изд-во Ан СССР, 1958.
62. Изображение человека. М.: Наука, 1972.
63. Каган М. Пространство и время в искусстве как проблема эстетической науки. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974. - С. 26-39.
64. Камянов В. Реальность без грима или к возвращению опальных книг. М.: Знание, 1991.
65. Карельский А. Модернизм XX века и романтическая традиция. // Вопр. литературы. 1994. -Вып.2. - С. 163-171.
66. Ковтун Е. Типы и функции художественной условности в европейской литературе первой половины XX века. // Вестник Моск. Ун та. Сер.9. Филология. - 1993. - № 4. - С. 43-51.
67. Кожевникова Н. Из наблюдений над неклассической ("орнаментальной") прозой. // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1976. - № 1. - С. 55-67.
68. Кожевникова Н. Язык А.Белого. М.: Институт русского языка. РАН, 1992.
69. Кожинов В. Художественная речь как форма искусства слова. // Теория литературы. Основные проблемы. М.: Наука, 1965. - С. 234-317.
70. Корман Б. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972.
71. Корман Б. Итоги и перспективы изучения проблемы автора. Страницы истории русской литературы. М.: Наука, 1971.
72. Кулешов В. Лекции по истории русской литературы к. 19 н. 20 века: В 2-х т. - Минск: Изд-во БГУ, 1976.
73. Кулешов В. Натуральная школа в русской литературе XIX века. М.: Просвещение, 1965.
74. Кухаренко В. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1988.
75. Лежнев А. О литературе: Статьи. М.: Сов.писатель, 1987.
76. Липовецкий М. Закон крутизны. // Вопр. литературы. 1991. - № 11/12. -С. 3-37.
77. Литературно-эстетические концепции в России к. 19 н. 20 века. - М.: Наука, 1975.
78. Лихачев Д. Историческая поэтика русской литературы: Смех как мировоззрение и др. работы. СПб.: Алетейя, 1997.
79. Лихачев Д. Литература реальность - литература. - Л.: Сов. писатель, 1981.
80. Лихачев Д., Панченко А., Понырко И. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984.
81. Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Таллин: Александра, 1992.
82. Лотман Ю. Декабрист в повседневной жизни. (Бытовое поведение как историческая категория). // Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Т. 1. -Таллин: Александра, 1992. С. 296 - 337.
83. Лотман Ю. Заметки о художественном пространстве. // Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Т.1. Таллин: Александра, 1992. - С. 448-464.
84. Лотман Ю. О понятии географического пространства в средневековых текстах. Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Т.1. Таллин: Александра, 1992. - С. 407-413.
85. Лотман Ю. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя. // Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Т.1. Таллин: Александра, 1992. -С. 413-448.
86. Лотман Ю. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин," Комментарий: Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 1980.
87. Лотман Ю. Смерть как проблема сюжета. // Ю.М.Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. - С. 417 -430.
88. Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М.-Л.: Изд-во Л.Д.Френкель, 1924.
89. Магвайер Р. Конфликт общего и частного в советской литературе 1920-х гг. // Русская литература XX века. Исследования американских ученых. -Спб.: ПЕТРО РИФ, Ун-т Дж.Медисона, Спб. ун-т, 1993. - С. 176-213.
90. Манн Ю. Формирование теории реализма в России первой половины 19 века. // Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. Т.1. М.: Наука, 1972. - С. 292-342.
91. Медриш Д.Н. Структура художественного времени в фольклоре и литературе. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974. - С. 121-143.
92. Методология анализа литературного процесса. АН СССР, Институт мировой литературы им. А.М.Горького. М.: Наука, 1989.
93. Методология анализа литературного произведения. М.: Наука, 1988.
94. Метченко А. Избранные работы: В 2-х т. М.: Худ. лит., 1982.
95. Метченко А. Кровное, завоеванное: из истории советской литературы. -М.: Сов. писатель, 1975.
96. Михельсон М. Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2-х т. М.: TERRA, 1997.
97. Неклюдов С. Заметки об эпической временной системе. // Труды по знаковым системам. 6. Тарту. - 1973. - С. 154-165.
98. Новиков Л. Стилистика орнаментальной прозы А.Белого. М.: Наука, 1990.
99. Новиков Л. Художественный текст и его анализ. М.: Рус. язык, 1988.
100. Ожегов С. Словарь русского языка. М.: Рус. язык., 1990.
101. Орнаментальная проза и близкие ей явления. (Методические материалы в помощь студентам, изучающим курс русской литературы XX века.) -Ульяновск: Изд-во УГЛУ, 1995.
102. Палиевский П. Литература и теория. М.: Сов. Россия, 1979.
103. Палиевский П. "Экспериментальная литература". // Вопр. литературы. -1966.-№8.- С. 78-91.
104. Панченко А. Русская культура в канун петровских реформ. Л.: Наука, 1984.
105. Панченко А. Смех как зрелище. (Юродство как зрелище). // Лихачев Д., Панченко А., Понырко И. Смех в Древней Руси. Л.: Наука, 1984. - С. 72-154.
106. Полонский В. О литературе. М.: Сов. писатель, 1988.
107. Потебня А. Теоретическая поэтика. М.: Высш. школа, 1990.
108. Потебня А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976.
109. Поэтика и стилистика. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980.
110. Принципы изображения характера в советской прозе: Межвузовский сборник научных трудов Челябинского гос. пед. инст-та. Челябинск: ЧГПИ, 1985.
111. Прыжов И. История кабаков в России. М.: Дружба народов, 1992.
112. Прыжов И. Двадцать шесть московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков. // Прыжов И. История кабаков в России. М.: Дружба народов, 1992. - С. 321-349.
113. Прыжов И. Нищие на святой Руси: материалы для истории общественного и народного быта. // Прыжов И. История кабаков в России. М.: Дружба народов, 1992. - С. 304-305.
114. Развитие реализма в русской литературе: В 3-х т. Т.1. М.: Наука, 1972.
115. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974.
116. Русская литература кон. XIX нач. XX века. Девяностые годы. - М.: Наука, 1968.
117. Русская литература XX века. / Под ред. проф. С.А.Венгерова. Т.2. -Издание товарищества "Миръ", 1890-1910.
118. Русская советская повесть 20-30-х гг. Л.: Наука, 1976.
119. Сатаров М.А. Размышления о структуре художественного произведения. // Структура литературного произведения. М. : Наука, 1984. - С. 179-205.
120. Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе кон. 19 -нач. 20 вв. М.: Наследие, 1992.
121. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
122. Скобелев В. Масса и личность в русской советской прозе 20-х гг. (К проблеме народного характера). Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1975.
123. Тагер Е. Избранные работы о литературе. М.: Сов.писатель, 1988.
124. Творческие методы и литературные направления. М.: Изд-во МГУ, 1987.
125. Творчество писателя и литературный процесс: Межвузовский сборник научных трудов. Иваново: Ивановской гос. ун-т, 1989.
126. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Стиль. Произведение. Литературное развитие. М.: Наука, 1965.
127. Типология литературного процесса и индивидуальность писателя. -Пермь: Пермский гос. ун-т, 1979.
128. Троцкий Л. Литература и революция. М.: Изд-во политической литературы, 1991.
129. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
130. Тынянов Ю. Литературный факт. // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. - С. 265-270.
131. Тынянов Ю. О литературной эволюции. // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. - С. 270-281.
132. Успенский Б. Избранные труды: В 2-х т. М.: Гнозис, 1994.
133. Успенский Б. Антиповедение в культуре Древней Руси. // Успенский Б. Избранные труды: В 2-х т. Т.1. М.: Гнозис, 1994. - С. 320-332.
134. Успенский Б. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970.
135. Успенский Б. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. // Успенский Б. Избранные труды: В 2-х т. Т.1. М.: Гнозис, 1994. - С. 75-109.
136. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. Спб.: ТЕРРА - АЗБУКА, 1996.
137. Федосюк Ю. Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта 17 века. М.: Флинта - Наука, 1998.
138. Федотов Г. Святые Древней Руси. PARIS: YMCA - PRESS, 1989. - С. 191-205.
139. Фридман А. Мир как пространство и время. М.: Наука, 1965.
140. Шешуков С. Неистовые ревнители. М.: Моск. рабочий, 1970.
141. Шешунова В. Микросреда и культурный фон в художественной литературе. // Филолог, науки. 1989. - № 5. - С. 18-24.
142. Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Сов.писатель, 1990.
143. Шкловский В. Избранное: В 2-х т. М.: Худ. лит., 1983.
144. Шкловский В. О теории прозы. М.: Сов.писатель, 1983.
145. Цейтлин А. Становление реализма в русской литературе. М.: Наука, 1965.
146. Чернухина И. Очерк стилистики художественного прозаического текста. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1977.
147. Чернышевский Н. Очерки гоголевского периода русской литературы. -М.: Худ. лит., 1984.
148. Чудаков А. Слово- вещь мир: От Пушкина до Толстого. - М.: Совр. писатель, 1992.
149. Чудакова М. Без гнева и пристрастия. Формы и деформации в литературном процессе 20-30-х гг. // Нов.мир. 1988. - № 9. - С. 240-261.
150. Эйхенбаум Б. Литературный быт. // Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Сов.писатель, 1987. - С. 428-442.
151. Эйхенбаум Б. О литературе. М.: Сов.писатель, 1987.
152. Эйхенбаум Б. О поэзии. О прозе. Л.: Худ. лит., 1986.
153. Яковлева Е. Фрагменты русской языковой картины мира: (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994.1. ТРУДЫ ПО МИФОПОЭТИКЕ
154. Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977.
155. Агапкина Т. "Мать пресвятая Богородица, колокол святой." Какие колокольные звоны раздавались над Россией? // Родина. 1997. - № 1. - С. 94-97.
156. Афанасьев А. Древо жизни. М.: Современник, 1982.
157. Библия. Слав, еванг. общество, 1987.
158. Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М.: Наука, 1978.
159. Лавров А. Мифотворчество "аргонавтов". // Миф фольклор - литература. -Л.: Наука, 1978.
160. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.
161. Лосев А. Античная мифология. М.: Учпедгиз, 1957.
162. Лосев А. Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль: Рос. открытый ун-т, 1993. Ю.Лосев А. Знак. Символ. Миф. - М.: Изд-во МГУ, 1982.
163. Лосев А. Поток сознания и язык. // Лосев А. Знак. Символ. Миф. М.: Изд-во МГУ, 1982. - С. 453-474.
164. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976.
165. Лосев А. Прометей. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.2. -М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. С.252-253.
166. Лотман Ю., Успенский Б. Миф имя - культура. // Лотман Ю. Избранные статьи: В 3-х т. Т.1. - Таллин: Александра, 1992. - С. 58-76.
167. Мелетинский Е. Время мифическое. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.1. М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. - С. 252-253.
168. Мелетинский Е. Герой. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.1. М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. - С. 296.
169. Мелетинский Е. О литературных архетипах. М.: Рос. гуман. ун-т, 1994.
170. Мелетинский Е. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.
171. Миф фольклор - литература. - Л.: Наука, 1978.
172. Неклюдов С. К вопросу о связи пространственно-временных отношений с сюжетной структурой в русской былине. // Тезисы докладов во 11 Летней школе по вторичным моделирующим системам., 16-26 августа 1966 г. -Тарту, 1966. С. 42.
173. Древнерусская литература и русская культура 18-20 вв. ХХУ1. - Л.: АН СССР, 1971.
174. Потебня А. Слово и миф. М.: Правда, 1989.
175. Рубенштейн Р. Ра. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.2. -М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. С. 358-366.
176. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987.
177. Славянская мифология. М.: Эллис Лак, 1995.
178. Смирнов И. Место "мифологического" подхода к литературному произведению среди других толкований текста. ("Вот так я сделался собакой"). // Миф фольклор - литература. - Л.: Наука, 1978. - С. 186-203.
179. Топоров В. Апология Плюшкина: Вещь в антропоцентрической перспективе. // Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс - Культура, 1995. - С. 7-111.
180. Топоров В. Гора. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.1. М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. - С. 311-314.
181. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс - Культура, 1995.
182. Топоров В. Модель мира. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.2. М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. - С. 161-164.
183. Топоров В. Пространство. // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2-х т. Т.2. М.: Рос. энциклопедия, ОЛИМП, 1997. - С. 340-342.
184. Успенский Б. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. // Успенский Б. Избранные труды: В 2х т. Т.2. М.: Гнозис, 1994. - С. 53-128.
185. Успенский Б. Миф имя - культура. // Успенский Б. Избранные труды: В 2-х т. Т.1. -М.: Гнозис, 1994. - С. 298-319.
186. Шмид В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е.Замятина "Наводнение". // Рус. литература. 1992. - № 2. - 56-68.
187. Элиаде М. Аспекты мифа. М.: ИНВЕСТ - ППП, 1996.
188. ТРУДЫ О ТВОРЧЕСТВЕ Б.ПИЛЬНЯКА
189. Акимов В. Помощь из прошлого. // Аврора. 1988. - № 5. - С. 8-9.
190. Ангарский Н. Литература упадка. // Творчество. 1920. - № 5-6. - С. 1-32.
191. Андроникашвили-Пильняк Б. Была ли рукопись Пильняка отвергнута советскими журналами? // Лит. обозрение. 1993. - № 1/2. - С. 107-111.
192. Андроникашвили-Пильняк Б. Два героя, два мученика: Б.Пильняк и Е.Замятин. // Знамя. 1994. - № 9. - С. 123-153.
193. Андроникашвили-Пильняк Б. "Мне выпала горькая слава." // Пильняк Б. Третья столица. М.: Рус. книга, 1992. - С. 6-20.
194. Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце. Послесловие. // Дружба народов. 1989. - № 1. - С. 147-155.
195. Андроникашвили-Пильняк Б. Письма Б.А.Пильняка. // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 118-127.
196. Андроникашвили-Пильняк К. Бытописатель революции. // Кн. обозрение. -1994. -№42. С. 3.
197. Аншценко Г. Деревянный Христос и эпоха голых годов. // Нов. мир. 1990. - № 8. - С. 243-248.
198. Анон. Добить троцкистскую гадину. // Литературная учеба. 1937. - № 5. -С. 38.
199. Анон. О Борисе Пильняке. // Москва. 1964. - № 5. - С. 95-96.
200. Ауэр А. "Быть честным с собой и с Россией." (О художественном мире Б.Пильняка.) // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 2. -Коломна: Изд-во КПИ, 1997. С. 3-29.
201. Ауэр А. О поэтике Б.Пильняка. // Б.А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. Коломна, Изд - во КПИ, 1991. - С. 4-15.
202. Ауэр А. Сатирические традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Б.Пильняка. //Научн. доклады высш. школы. Филолог, науки. 1990. - № 2. - С. 13-19.
203. Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. Коломна: Изд - во ЮТИ, 1991.
204. Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Коломна: Изд - во КПИ, 1997.
205. Баранов В. За строкой одного посвящения (М.Горысий и Б.Пильняк ). // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1 Коломна: Изд - во КПИ, 1991. -С.79-88.
206. Берковский Н. Борьба за прозу. // Берковский Н. Мир, создаваемый литературой. М.: Сов. писатель, 1989. - С. 51-90.
207. Берковский Н. Две книги Пильняка ("Расплеснутое время", "Очередные повести"). // Берковский Н. Мир, создаваемый литературой. М.: Сов. писатель, 1989. - С. 112-116.
208. Вешнев В. Тов. Сосновский и гр. Пильняк. // Молодая гвардия. 1924. - № 9. - С. 175-180.
209. Виноградов И. За советскую классику. // Лит. современник. 1936. - № 5. -С. 141-153.
210. Воронский А. Б.Пильняк. // Воронский А. Искусство видеть мир. М.: Сов.писатель, 1987. - С. 233-257.
211. Гацко-Гусев Р. Коломенские сказания в творчестве Б.Пильняка. // Б.А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991.-С. 106-112.
212. Герзон С. Об эпигонстве. // Октябрь. 1936. - № 5. - С. 213-220.
213. Горбачев Г. На переломе. (Эволюция русской литературы за 1924-1925 гг.) // Звезда. 1926. - № 1. - С. 211-240.
214. Горбов Д. Итоги литературного года. // Нов.мир. 1925. - № 12. - С. 129-149.
215. Горинова С. О смысловой доминанте в рассказе Б.Пильняка "Метель". // Вестн. Спб. ун-та. Сер.2. История языка, литературы. 1994. - Вып. 3 (№ 16). - С. 94-96.
216. Горинова С. Проблемы поэтики прозы Б.Пильняка 20-х гг.: Дис. . канд. филолог, наук: 10.01.02. Спб, 1995.
217. Горская Е. Борис Пильняк и русский Берлин в 1922 г. (по материалам советских и зарубежных изданий, ЦГАЛИ СССР). // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1 Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 70-78.
218. Григорьева Л. Возвращенная классика: из истории советской прозы 20-30-х гг. Л.: Ленингр. орг. об - во (Знание РСФСР), 1990. - С. 24.
219. Гура В. Народ и герой. // Октябрь. 1967. - № 10. - С. 207-219.
220. Гусев В. Мучительный призрак ночи. Б.Пильняк и его "Повесть непогашенной луны". // Лит. газета. 1988. - 13 янв. - С. 4.
221. Денисов А. Борис Пильняк в воспоминаниях современников. // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. Коломна: Изд - во КПИ,. 1991. -С. 113-117.
222. Едина Е. Б.Пильняк в литературной критике 1920-1930-х гг. // Б.А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1. Коломна: Изд - во ЮТИ, 1991.-С. 89-97.
223. Зайдельсон Е. По следам письма Бор. Пильняка. // Таллин. 1989. - № 5. -С. 113-118.
224. Золотоносов М. Усердный Пильняк. (Заметки к 100-летию). // Моск. новости. 1994. - 9-16 окт. (№ 46). - С. 18.
225. Зощенко М. О Борисе Пильняке. Корней Чуковский. // Вопр. литературы. -1968.-№11.-С. 233-240.
226. Иванов В. О литературных группировках и течениях 20-х гг. // Знамя. -1958.-№5-6.-С. 190-208.
227. Катаев И. Советская литература на новом этапе. Стенограмма пленума Оргкомитета Союза советских писателей. М., 1939.
228. Канатчиков С. О судьбах попутничества. // Красная новь. 1929. - № 11. -с. 209-217.
229. Карпенко И. Система языковых средств орнаментальной прозы Б.Пильняка: Дис. . канд.филолог.наук: 10.02.01. -М, 1993.
230. Кассек Д. Рассказ Б.Пильняка "Жених во полуночи" (1925): Попытка анализа. // Рус. литература. 1992. - № 2. - С. 169-175.
231. Коган П. Борис Пильняк. //Нов.мир. 1925. - № 11. - С. 108-119.
232. Крючков В. Почему луна "непогашенная"? О символике "Повести непогашенной луны" Б.Пильняка. // Рус. литература. 1993. - № 3. - С. 121-127.
233. Кузнецов М. Социалистический реализм и модернизм. // Нов.мир. 1963. -№ 8. - С. 220-245.
234. Кузявкин А. Краеведческое изучение творчества Б.Пильняка. // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 98-105.
235. Латынина А. " Я уже отдал приказ". "Повесть непогашенной луны" Б.Пильняка как явление социальной прогностики. // Лит. обозрение. 1988. - № 5. - С. 13-15.
236. Лелевич Г. Гиппократово лицо. // Красная новь. 1925. - № 1. - С. 294-301.
237. Лесин Е. Кому-таторы, а кому-ляторы: Незлые заметки к 100-летию со дню рождения Б.Пильняка. // Независимая газета. 1994. - 12 окт. - С. 7.
238. Лиров М. Из литературных итогов. // Печать и революция. 1924. - № 2. -С. 118-124.
239. МалухинВ. Убийство командарма. // Октябрь. 1988. - № 9. - С. 196-198.
240. Метченко А., Дементьев А., Ломидзе Г. За глубокую разработку истории советской литературы. //Коммунист. 1956. - № 12. - С. 83-100.
241. Метченко А. Актуальные ретроспективы или реакционные мифы. // Октябрь. 1969. - № 5. - С. 181-197.
242. Милехина Т. Опыт семантического анализа прозаического текста.(На материале "Повести непогашенной луны" Б.Пильняка ). // Принципы изучения художественного текста. Тезисы 2-ых Саратовских стилистических чтений. Апрель, 1992, ч.2. Саратов, 1992. - С. 132.
243. Молодяков В. В поисках "корней солнца" (Борис Пильняк о Японии). // Проблемы Дальнего Востока. 1989. - № 6. - С. 201-207.
244. Мораняк Бамбурач Н. Б.А. Пильняк и "петербургский текст". // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. - Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 36-46.
245. Новиков В. Творческий путь Б.Пильняка. // Пильняк Б. Целая жизнь. -Мн.: Мает. тт., 1988. С. 3-27.
246. Панкеев И. Борис Пильняк: "Я был": (О писателе Б.А.Пильняке). // Рос. вести. 1994. - 29 окт.
247. Переверзев В. На фронтах литературной беллетристики. // Печать и революция. 1923. - № 4. - С. 127-133.
248. Петросов К. "Все разгадаешь ты один." (Анна Ахматова и Борис Пильняк ). // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 62-69.
249. Полонский В. Шахматы без короля. // Полонский В. О литературе. М.: Сов. писатель, 1988. - С. 124-150.
250. Раскольников Ф. Идея "скрещения" в романе Б.Пильняка "Голый год". // Рус. литература. 1997. - № 3. - С. 169-175.
251. Сергеева Т. "Россия. Революция. Метель": (О творчестве Б.Пильняка). // Моск. правда. 1994. - 1 дек. - С. 3.
252. Смирнов-Кутачевский А. Перелом литературного стиля. // Печать и революция. 1926. - № 3. - С. 18-28.
253. Тамарченко Н. "Голый год" Б.Пильняка как художественное целое. // Б.А. Пильняк. Исследования и материалы. Вып. 1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991.-С. 16-25.
254. Фурманов Д. Литературные записки. // Вопр. литературы. 1957. - № 5. -С. 199-207.
255. Шайтанов И. Исторические метафоры Б.Пильняка ("Красное дерево" и "Волга впадает в Каспийское море"). // Б.А.Пильняк. Исследования и материалы. Вып.1. Коломна: Изд - во КПИ, 1991. - С. 47-56.
256. Шайтанов И. Когда ломается течение. // Б.Пильняк. Романы. М.: Современник, 1990. - С. 5-25.
257. Шайтанов И. Метафоры Бориса Пильняка или история в лунном свете. // Пильняк Б. Повести и рассказы. 1915-1929. М.: Современник, 1991. - С. 5-36.
258. Шайтанов И. О двух именах и об одном десятилетии. // Лит. обозрение. -1991. № 6. - С. 19-25; № 7. - С. 4-12.
259. Шкловский В. Пильняк в разрезе. О современной русской прозе. // Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Сов. писатель, 1990. С. 259-276.
260. Чайковская В. Поиски цельности. // Лит. обозрение. 1989. - № 8. - С. 40-44.
261. Юсупова Р. Стилистический комплекс художественного контекста: (На материале романа Б.Пильняка "Голый год"): Дис. . канд.филолог.наук: 10.02.01. Алма-Ата, 1991.
262. Яблоков Е. "Железо, стынущее в жилах". Проблемы и герой "Повести непогашенной луны" Б.Пильняка. // Лит. обозрение. 1992. - № 11/12. - С. 58-62.
263. Bristol Е. Boris Pilniak. // The Slavonic and East European Review. 1963. -№97.
264. Brablik E. Dvojnictvi v dile B.Pilnaka. // Bulletin ustavu ruskeho jazyka а literatury. 1967. -№ 11.
265. Толстая-Сегал E. "Стихийные силы: Платонов и Пильняк (1928-1929). // Slavica Hierosolymitana. 1978. - № 5.
266. Flaker A. Zur Charakterisierung der russichen Avantgaude als Stilformation. // Kunstersohe Avantgarde. Annäherung an ein unabgeschlossenes Kapitel. -Berlin, 1979.