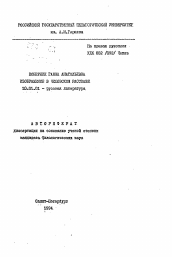автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Изображение в чеховском рассказе
Полный текст автореферата диссертации по теме "Изображение в чеховском рассказе"
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 1ВДИГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им» А.И.Герцена
,, На правах рукописи •
'' УДК. 882 /092/ Чехов
КОЕЕРНЖ ГА1Ш. АНАТОЛЬЕВНА. ИЗОБРАЖЕНИЕ В ЧЕХОВСКОМ РАССКАЗВ. - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ, диссертации на соискание ученой степени кандидата- филологическая наук
Сашге-ПатэрЗург 1994.
Работа выполнена на кафедре русской литературы Российского государственного педагогического университета; ем. А.И»Герцена.
Научный руководитель:, доктор филологических яук,
профессор Я.С.Бшщнкио Официальные оппоненты: доктор филологических наук К.Д.Гордсъич
кандидат филологических наук А.М.Итейнголвд . . Ведущая организация: Санкт-Детерйургскар Академия
I
культуры
Защита состоится " 1994 г. в часов,
ва заседании Специализированного совете К 1X3.05.05 го присуждению ученой степени' кандидата филологических наук •в Российском государственном педагогическом, университете вм» А.ИД'врцена , \
/199053/ Санкт-41етер<5ург, Б.О.Д-я линия, д.52, еуд- Щ/
С диссертацией.можно ознакомиться в фундаментальной; 0ийлиотеке университета.'
Автореферат разослан в2£ ■ 1994 г».
>чагш& секретарь Специализированного совета кавдвдат филологических наук, доцеат^^^ НЛЛСякщго;
ОЩАЯ ХАРШЕЩСТША РАБОТЫ
Современная наука многое сделала для осмысления чеховского творчества. Его уникальную слояность я непроясненность в литературоведении справедливо связывают с художественной манерой Чехова'выражать идеи и представления о мире и человеке на в авторских постулатах и но через прямые оценки, а в изображении и Через изображегые. Так, например, П.В.Палиевскому это дало основание считать Чехова "самш последовательным художником среда всех русских классиков4 /Палиевский, 1987, 204/. То, что Чехов поставил читателя перед фактом разрушения традиционных способов воспроизведения жизни, сейчас обяеизвестно. И во многом это определено именно его художественной манерой показывать мир, воплощать его в слове, образе, изображении, а не "доказывать" или "рассказывать" его.
В литературе о Чехове разрабатывались саше разные проблема его поэтики: сшсетосяожение, особенности аанра, композиция и так далее. В последнее десятилетий пристальное внимание устремлено на выявление внутренних связей в художественном мире чеховского рассказа. Одним из новых является вопрос о художественном изображении. Его специфичность проявляется в самых' разный элементах поэтики чеховского рассказа - от отдельной детали до целостного образа. В данной работе предпринята попытка анализа динамически развивающегося изображения в тексте чеховского рассказа как способа освоения человека и мира.
В системе чеховского изображения слово преодолевает свор тааеоть, перестает только обозначать, называть, становится изобразительным. Во для того, чтобы слово обрело способность прорастать в образ, становиться "кивописьв", необходима особая "питательная среда". Механизм появления художественного образа в тексте чеховского рассказа - в контекстуальной обусловленности целостного восприятия отдельных элементов текста (пластических образов, звуко- н цветообразов и т.д.). Проблема и'зуче-нш£.оистеш контекстуальных связей, которые организуются у Чехова как система ассоциативных сигналов, способных яра условш целоотного вошрияетя выявить вмоцаонадьнув оценку автора, но нова в литературоведении, В своем анализе мы учитываем опыт целого- ряда Еоследователей (П.Ендашш, С.ВаЙмана, И. 1Ършмана, Р.Дкекрона, Е.Добняа, Д.Ионнисян ., Ю.Фялипьева, Н.Фортунатова,
А.Чудакова и др.исследователей), которые под тем или иным углом зрения рассматривают'механизм формирования ассоциативно-образной системы и механизм рождения в ней эмоциональной оценки автора (при внешнем и последовательном соблюдении Чеховым принципа объективнестг изображения).
Чеховское изображение открывает больше возможности для' исследования его с позиций хронотопа. Он и является другой интерпретационной доминантой, которая лежит в основе нашего анализа. Методологической базой для него послужили теоретические работы по проблеме хронотопа М.Бахтина, Ю.Лотмана, Е.Оарино. Основа предмета исследования складывалась также с учетом историко-литературных работ по названной проблема (монография И. Сухих, диссертационные работы Г.Валиевой,.М.Горячевой).
Цели и задачи диссертации. Наше обращение к проблеме изображения предполагает два аспекта его изучения. Первый - ого исследование художественных средств изображения, т.е. с0бс'1>~ венно категорий форм, категорий художественного воплощения,-организации изображения. Второй ориентирует на изучение глубинных пластов изображения, представительствуицего мир и человека в его отношениях с миром. Обращение к этим аспектам требует решения частных задач: изучить специфику категорий художественного пространства и времени в чеховском рассквзе5укэ-зать их функции, выявить принципы их изображения; исследовать организацию худояеетвенного текста при реализации таких категорий текста, как "пространство" и "время"; установить зависимость пространстьа-вреглени от характера изображаемых событий, действий, состояний героев; выявить специфику изобразительной' техники в психологизме Чехова, изучить механизм пегздачя подсознательного в изображении; раскрыть смысл к значение данного пространственного наполнения в данном художественном канта-' нууыз. : ■
Научная новизна, работы определяется тем, что проблема художественного изображения исследуется с позиций хронотопа.; Ее актуальность обусловлена общей задачей чеховедендя а созданий наиболее полной картины, приближающей к целостному предстаило-шзэ о творчестве Чеховас а также широко ведущимися спорами о ' внутренней природе искуоотва^ его змегаческижи кощуникаша-вд'фуйкдаях*
Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее материалов и выводов при чтении лекционных курсов по истории русской литературы XIX века, в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных проблемам творчества Чехова,
¿дробяния результатов исследования. Основные положения диссертации были изложены на Всероссийском совещании-семинаре молодых культурологов /Санкт-Петербург, 1993/, отражены в трех Публикациях. Диссертация обсуддалась на заседании кафедры русской литературы РГПУ им»А.И.Герцена.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глаз и заключения. К работе даны примечания и библиографичес-гшй'стасок, вклотаюшяй 233 катаеповакия.
' . ^ ОСНОВНОЕ С0ДЕЕ2АНИБ РАБОТЫ
' ' '
Во введении обосновывается актуальность темы: определяются цели и задачи работы, ее научная и практическая значимость, методологические и теоретические основы диссертации; намечаются пути решения исследовательских задач.
Первая глава "Структурно-содержательные особенности хронотопа в рассказах Чехова о любви" посвящена исследованию изображения художником любовных отношений в контекст© литературной (градация.
Изображения любовных отношений находятся у Чехова в соот* вэтствия о его общей концепцией бытия. Еще С.Ёудгакса заметая, что художник поставил а своем творчество,"великую проблему метафизического и религиозного сознания - загадки,о человеке" /Булгаков, 1905. С.16/. Человек, по,Чехову, заключает а себе,-кроме явных, внс-лпо; проявлений, некое поле неопределенности его внутренней жизни. Потому содержанием язобракенал является указание на эту неопределенность. Такой - собственно чеховской^ интонацией окрашено и изображение "любви" как одной из величайших,, непознанных тайн бытия.'Поскольку любовь зарождается в силу шпкад на изреотт« причин, то в изображении она продет,-1вде-на только как факт, не, мотивированно,
I Другая ОСОбрЩТОСТЬ ЯЗОбраЕЗЛИЯ ЧЗХОБШ пЛВбВИп в том, что порядок установившихся отношений лщдзй з его уудоаеотвенком ют-ре объясняется, не только к не столько социальным модусом,сколь-
ко естествентгл, прирсднш. Поэтому раскрывается 0!Ш прежде всего на уровне разных форм проявления психической и физиологической природы. Необходимо отметить, что фактор уизиологиче-CKOir природы человека при изображении любовных отношений учитывался и до Чехова, но проявлялся з иных пропорциях и измерениях. Нередко изображения "телесного", "физического" человека являлись не столько проникновением б его биологическую природу, сколько воплощением философской категории, по которой тело ость антитезис духу. В связи с отиы "любовь" часто внетупзла к как ванная этическая категория (например, у Гончарова в "С<3рц— ре", у Толстого в ряде произведешь и т.д.). У Чехова ко изображение физиологической природы человека становится установкой И перестает быть связанным какой бц то ни било сценкой.
■ В отличие от своих предшественников, которые чаче всего изобразили своего героя (героини) как осознакцего себя человека, Чехов разводит их па "мукчип" и "еонщнп", цзобрагсаат их естество как естество разных существ. Отсюда нередкая окрашенность отношений кужчпн к :кенс[ин их биологической природ о;';, Новый подход к человеку ~ подход без розовой дымки - бил связан не только с ирофесслонольнш взглядом врача, знанием
человека как ч5зствагаюго, природного яляония, по :: ойадаз: тенденциями в культуре конца XIX - начала XX веков /Оарико, 1991, С.2С0/. В течение ¡.шогих веков культура складывалась под знаком сппозпц;п! "доступное"-"запретное", "сбществскноо"-"личное, интимное", "идейное, духовное"-";гатериальноа, биологическое"» 3 творчестве Чехова существующие on: эжеря услоглявтгл . те.,;j что града внутри кии стираются. Наиболее крайние n XIXboko установки на "идеальность" любвл(Тургенев) и лабовь как "роке— ву» страсть" (Тютчев) з чеховском творчестве иг,ходят правцсс^с. Зои иазвашко зшз положения учитываются при анализе конкрепиге 70S0T03 писателя.
Вариантов изсбра>:;еш1я любовных к ссмсйкис отнесений у Че~ хеша каскеотво. В круг некого анализа входят два из пах: любовь как чувственная страсть и любовь, данная в изображении как по" большой части"' неосознаваемая геровма.
Объектом кзебракзвия определяется и спецкфика ого востро-казекешв!, б гсу число л пространотвешо-зреиекиоо яцрзг«ш>. •
А.Чудаков показал, что новый- тип гфдогзствопко-филосарско»-
го постижения мира и человека привел Чехова не к отказу от психологического анализа, а к его трансформации, к открытию новых способов изображения внутреннего мира, связанных с предметной сферой /Чудаков, 1936/. Сложность дуыевных движений оказалась подвластна чеховскому изображению н в ранках маленького рассказа. Арсенал художественных средств изображения внутреннего состояния человека у Чехова пополняется и за счет образов пространства и времени. Разлив состояния человека, в том числе и состояние влюбленности, по-разному организуют его поведение и всякий раз требуют особого оформления в художественном хронотопе.
'• Изображение в рассказе "Агафья" складывается из ряда ху-■дожестленных образов, многие из которых эстетически сакодоста•* точны и могут претендовать на самостоятельное бытие. Мера сюжетного отстояния таких образов может быть разной, п вместо с тем каждый из них.подпитывает "художественную атмосферу" (С.Займан) рассказа, создает особы!! эмоциональный настрой, "расширяет" фабулу. Более того, несмотря на малую функциональную связь с сюжетом, именно они в данной структуре изображения, в структуре данных образных сцеплений являются средоточием художественного скисла. В анализируемом рассказе такая: образами являются образы птиц.
Герой рассказа - Савка - представлен глазами автора-аове-ствователя и опосредованно, через изображение. Особый эмоционально-смысловой тон при его обрисовке создается обращением автора к образу соловья и образу коростеля. Красота бескорыстной, "по вдохновению", жизни Савки сродни бескорыстной к вдохновенной песне соловья. Но образ Савкя вбирает в себя и изобразительную энергию образа коростеля, который токе поот, по т как садовей/"сяоряоза крэтэк дергает',"что вызывает ассоциации о рабой/, не -олько летит, но и пешком вдет. Ш этом ассоциативном . пересечении и рождается полнота изображения человека, ¿штор вглядывается в своего героя с разных сторон. Пространство савки '¿ч.'.еат свой "вещ" и свой "низ" - он а "соловей" (соловей -птица, о "бокествешшм", "незешш" голосом, но обычна, некрасива зиешс), и "корортель", того птица; по хгаипа, которая бааьиэ по земле ходит, (з прздетавденлп Савзд коростель - "со-.бака").' Таквм образам, .ассоциации оярокндцзавяся я.разные с4е-
ры бытия, к в результате - пространство художественного мира "Агафьи" расширяется: короотель - соловей - воздух,, коростель -, собака - земля, коростель - рыба - вода. Дщгкентчн, оставляющих следы своей "женской калости" ("гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку", "грязные, сальные леие-дки, упругие, как резина, яйца"), Савка - огонь, на который они не мо^ут но летать и который-обкягает их крылья. Оставляя инициативу выбора в любви за собой, Савкз проигрывает, Агафье: цена, которую она готова заплатить за его любовь, поднимает ее над Савкой. Но а изображении чеховекгя героиня представлена тожо неоднозначно. Такую неоднозначность образа Агафьи помогает выразить худокественная оппозиция "пространство дере в; к - пространство огородов". Эта оппозиция подчеркивается чотко выраженной границей - рекой, - попадая на которую^человек может терять силы. Но, будучи границей, река не является непреодолимой преградой - Агафья гонима страстью, которая скльней ее самой, Детали эмоционального поведения героини -'"дикий, грудной смех" - по своей характеристике родственны "безумию" ("потере рассудка"). Агафья находится во власти какой-то неведомой силы» делающей ее "бессильной", толкавшей па "безрассудную решимость". ;
Перемещение героини из одного пространства в другое -спуск из шра огородов в мир деревни - распадается на более мелкие форлы движения..Конфликтность и драматизм обнаруживается изображением неоднородности пути Агафьи. Он складывается из образа ярко-зелено»} полосы и образов "ярп-изнцп> "круденил". 1 Детали с семантикой цвета з мире Чехова появляются ре^ко. За постоянством неопределенного цвета пли серого колорита просматривается указание на определенную .характеристику "г,игра увст^- ■ ного". Ярко-зеленая полоса, тянущаяся по росистой траве вслод -за Агафьей, связывает ее о миром "летних ночей", пьяняшх ДУ~ шетых трав, Савкой - с желанным миром огородов, оставшимся позади. И.если сзади Агафьи - образ ярко-зеленой полосы на , траве, то впереди - образы'движения с признаками искривленности. Признаки, "кривизны" становятся пространственной характе-риотикой модных,залу ташшх отношений, несвобода от всесильно!1 страоти, вины, беды, ожидаемой кеотокооти наказания. Напряден-, ный драматизм финала подчеркнут й оппозицией динамики и специ-
фики изображения пластшш движений Агафьи -и статуарности молодого стрелочника.
Образы пространства в рассказе выражаются не только в непосредственных -пространственных картинах мира, но и через образы движения, перемещения из одного пространства в другое споооб-. ствует то?ля что АгаФья поворачивается перед читателем с разных сторон. В мире огородов она не слышит соловья (ср. тонкость Савкиного восприятия пения птицы; для него оказывается возможным различение голоса вчерашнего соловья), она видит и слышит только одного Севку. Но па Агафье лежит эмоционально-смысловой отсвет и образа другой птицы. Как и всегда разный коростель, -то идущий по земле, то летящий через моря и реки, - она "задействована" в разных пространствах. На образ Агафьи ассоциативно бросает отсвет диалог рассказчика с Савкой о перелетных птицах. Агафья и есть перелетная птица, только реку, как коростель, не перелетает, а переходит. Пространство около Савки -для нсо"род-нее", но в мир деревни ("не-родина"), она не может не возвра-' глтъеяг туда Агафья "улетает", "чтобы по замерзнуть".
В рассказе наблюдается не только пространственное взаимодействие, но и "психологическое". В связи о этим важное значение приобретает разномрность, отнесенность героев к разнил мирам. И это оказывается в равной мере притягательно для всех. Агафья, забыв себя, взлетает "вверх", к Савке, предпочтя его одномирному о собой мужу; ленивый Савка с интересом
слушает рассказчика, наконец, самого рассказчика ностальгичес- , ки тянет из "мира города" ("цивилизации", что опосредованно представлено в изображении через сознание рассказчика) к Савке, в "мир огородов" ("первостихий", "природы", в забытый "рай").
' Специфика изображения в "Агафье" проявляется в наполнении его различными пространственными уровнями, в которых задействованы персонажи и каждый из которых одинаково лакеи для раскрытия человека. В пространственной сетке роядаэтея своеобразные ассоциативно-смысловые рифмы, что приводит к увеличению семантической насыщенности маленького по объему рассказа и что внутренне 'согласовано с художественной интуицией Чехова о оложном-составе.человека. .
! Бессилие человеш? ..перед страстью, невозможность ей противостоять, исследуется а вЧдругом чеховском рассказе, в "Но—
- В -
счастье". Продает изображения, казалось бы, тот же, что и в "Агафье". Но в каждом новом тексте Чехова появляются новые нк*-, снсы. Поэтому принципы изображения могут совпадать и отличаться.
Существование драматического и иронического рядов - то новое, что открывается в изображении этого рассказа. Причем линия дукевных переживаний героев прочорчиваотся в изоброкешш как восходящая драматическая линия, которая в своем развитии через подключение литературно-фольклорных мотивов наталкивается на нисходящую Ироническую, идущую от автора.
Драматическое передано в "Несчастье" и через хронотоп. В рассказе появляется особый пространственный объем. Его структура раздается во взаимодействия статичной вертикали (изображение церкви) и подвижной, динамической горизонтали (изображение поезда). Такое взаимодействие двух пространственных величин в чеховском изображении получает форму креста,-драматически совмещающего в себе вечное, неизменное и быстротекущее, изменчивое.
Иронически-игровое и драматическое пространства в художественном мире "Несчастья" совмещены и существуют нераздельно. Последнее задаатоя образом "креста", удостоверяется им и манифестируется. Отдельные психологически-бытовые, частные драмы ("маленькая", "локальная" "драма" героев рассказа) проецируются образом "креста" в контекст "большого" бытия. Чеховское изображение оказывается способным включить частные миры, игру человеческих страстей в общую драму быта**. .
В "Несчастье" просматривается контекст романа Толстого "Анна Каренина". Для толстовской героини, Анны, ее и:г станет судьбоносньм, для чеховской - обернется адюльтером. У каждой из героинь обнаружится свой уровень осуществления себя; любовный восторг доверившейся^ге&} Анны сменится открывшейся Софье Петровна и ужаснувшей ее трезвостью. Это трезвость чело-20253, побежденного 'чувственной страстью.
В системе изображения Толстого победа страота над его героиней, Анной, в конца концов осуждается. Причем у Толстого человек в на сшей биологической глубине не высвобождается от нравственного, этического начала (сон Анны о двух мужьях, эпизод" сШпЬззнш! Анны и Вронского)'. Этическая оценка живет нз
только в сознании героини, но и в сознании автора. Ашэ испытала взлет в любви, но осуждена, Лубянцевой не дано пройти, путь кхки в любви, обрести крцлатость, но "суд" над ней в чеховском изображении не свершился. По сравнению с Толстым, Чехов делает -больший акцент на то, что не может быть оценено -на бессознательное. Оно является для художника такой же реальностью, такой же природой человека,- как и сфера его сознания. Природа же, по Чехову, не подлежит нравственной оценке.
Чеховская героиня решается на шаг, который не соответствует всей ее жизни, всем ее нравственным установкам (изобра-яонио показывает, что эта готовность проявляется в большой степени на бессознательном уровне). Появляется основание для роздения драматической ситуации. Но ирония не дает возможность отношениям Дубянцевой и Ильина перерасти в драму. Сосредоточенность героини на своем неразрешимом положении взрывается пзоб~ раженнем. Драматизм ситуация,, обернувшейся "несчастьем", ощущает сама Софья Петровна, точка зрения автора дестабилизируем точку зрения персонажа.
В этом рассказе изображение сориентировано и на собственно чеховский текот. В атмосферу иронической игры со словесной фактурой вовлечен ряд лейтмотивных лексем, которые заставляют вспомнить ранний чеховский рассказ "К сведению мужей", перера-ботитйй едоодедствии в рассказ "Удав и кролик". К нему отсылает сравнение чувства-желания, овладевшего героиней, с уда-" ео;л, в этом смысле значим также графически выделенный самим' аотором^глагол "втянуты" (в страсть), который в данной контексте наделяется семантикой "гипнотического действия", предопределенности "падения". Изображение в рассказа "Удав и кролик" -ироническая транскрипция "механизма" воздействия "удава" на "кролика" (мужчины на ганщину),'в "Несчастье" же изображение • дай'швает движение "кролика" в пасть "удаву". Фокус asodpa.se-цгл йдесь то и дело смещается о разработки темы неукротимой етрдотк ироническое ее осмысление (н-Р, "страшное" сердцебиение героини рассказа перебивается пением "сиплым тенором", доносящимся с улицы; такой ко изобразительной интонацией отмочено, игровое поведение Софьи Потро.внн в сцена приема гостей (подчеркнутая в изображении экзальтация, нарочитость и преувеличенность вестов, движений, интонаций, бессознательное стрем-
лени© к актерству - здесь игровое сближается с ироническим/, ирония взрывает драматизм ситуации да^е в слове самой, героини /"хороша борьба; как .молоко, в один день свернулась"/ и т.д.
игра смыслов, определяющая внутреннюю динамику финала /и рассказа в целом/ в некоторых точках соприкасается и с логикой фольклорной сказки. Решая проблему двоих - Дубянцевой я Ильина, — автор исключает га художественного мира хронотоп дома Ильина. Изображения его дата в тексте рассказа нот. "Ветренность","том-нота" становятся метафооой "избушки ледяной", куда стремится героиня. Возможность.соотнесения со сказочными мотивами псддерта-вается семантикой имени героини - "Дубянцева". Для Софьи Петровны ее дом /"избуака лубяная"/ разваливается, как декорация» Никакие гарантии не удертавают человека от страсти: разрушается надежное и обжитое. Никакого нового наделзюго бытия в (таре Софье Петровне не дано. Она уходит в необ.-китое пространство, где нет того, что издревле составляло основу человеческого бытия - дома, очага, семьи, тем самым соглалиется яа свою "без-до-.шость";"потерянность" в своей страсти /"бездне"/. Чехов не снимает, таким образом, драматизма, но и не видит в случив-■ шемся катастрофы. Для него разрушение привычного в хизни еще не означает крушения бытия. Поэтому "бытовой" вопрос Лубянцевой на .перерастает в "бытийный" вопрос Анны, "драма" чеховской героини не становится "трагедией" толстовской. В результате Чехов, явно ориентируясь на сюжет романа Толстого,приходит к совершенно иному художественному результату.
Исследование любви-страсти в рассказе "Шампанское" вносит в традиционное изображение новые оттенки. Сюжет рассказа во многом повторяет сюжет "Переписки" Тургенева; но у Чехова, в отлична от предшественника, традиционная философия любви дана в ироническом ключе. -Для Тургенева оказывается невозможным назвать своего героя "проходимцем", его изображение - иное переживание ситуации, переживание изнутри. Особый художественный аффект в рассказа Чехова достигается за счет того, что сам геоой расою-ва - начальник станции - находится внутри истории, которая с юад случалась, а его 32!Е!&_аВ2Ваа отстранена временной дистанцией и находится внутри рассказа об этой историк.Отсода - ироническое отношение к самому себе и к случившемуся с ним, с "проходимце«". Такое изображение дает возможность одновременно и ощуть реальность жизни, и посмотреть на нее со стороны. Есть и другая причина возможности осуществления
иронического подхода в изображении.
В литературоведении отмечалось, что человек в мире Чехова представлен как существо,•обладающее потенциями творческого по-ведсния /Валиева, 1992/. С изображенным сознанием именно такого человека сталкивается читательское сознание, п "Шампанском". , ^ особую
Изображение в анализируемом рассказе открывает природу сознания
чеховского героя - это сознание художника, творца. И поэтому изображенная здесь ситуация "рассказывания" - это не ситуация "исповеди", что могло породить драматическую интонацию, а ситуация "творения", при которой опыт чуватв, переживаний привнесен л изображенное слово "задним члелда". И поскольку з сазна-нип рассказчика живет уже не только и не столько ."реальная", "действительная" жизнь, но и "сотворенная", появляется возможность отнестись к самому себе не так, как в "реальной" жизни драматически, но как в отрефлекспрованной, ^созданной", "играемой" - иронически. Таким образом, рассказываемое событие жизни ("драматическое") и действительное событие самого раьсказкзанид, (ироническое осмысление драматического события жизни) сливаются-в "Шампанском" в единое событие художественного произведения. Сюжетом "Шампанского" становится не только "случай из- жизни" проходимца, но л сам рассказ (а в нет распознаются несколько "образов стилей") об этом случае как воссозданная и интерпретированная реальность. Возникает явление художественной рефлексия /Валиева, 1992/.
В рассказе возникает видимый образ мира, составленный, в основном, из зрительных впечатлений героя. Преобладание зрительного восприятия, обернувшегося для него даром выводить жизнь из образа, определяет бытие сознания чеховског«. героя как бытие сознания художника. Художественные образы, родиЕста-« ся в сознании рассказчика, открывают читатели выделенную пи, "воссозданную", "сотворенную" часть бытия: фрагмент действительной, фактически прожитой ям ж*зни. Исполнен, сотворен этот фрагмент по законам искусства: в "поэтике ассоциаций" а "поэтике стилизации". ...
Неожиданные метаморфозы героя,- составляйте сюжет рассказа, поддерживаются всей системой изображения, а частности, мо- • vbbom легкого преодольния пространства. Художественный мирпШй№» панского" подвижен^ здесь свободно перемещаются з пространстве
2 бабочка, и пробка из-иод бутылки испанского, и поезд, и тетя, а, "наконец, сам герой. Но характер этих перемещений, преодолений пространства разный; бабочка, пробка, бутцгска, поезд вызывают представление о механическом движении. Другой вариант перемещения (обусловиваий метаморфозы героя) - природный - овя-' Бая с начальником станки. Тем но менее вое эти перемещения складываются в ассоциативные рифлн,»
Рассказчик в "Шампанском" обладает знанием конца, но строит повествование таким образом, что "таинственность" рассказываемой ко.'ории для читателя сохраняется. Свое отношение к миру он "изображает" как отношение к "тайне", сопричастной его судьбе. Возникает образ стилизации "под стиль романтизма" ("романтическую тайну"). Эффект мгновенного и "таинственного" превращения достигается за счот катастрофической неоднородности хронотопа рассказа. Медленное, "текучее" повествовательное'его качало резко обрывается в финала, где сюжет сворачивается в точку. Здеоь повествование словно взрывается. В сознании рассказчика "взрыв" определяет и механическое движение в мире, и природное. Героя, как бутылку о шампанаким, взрывает 'неведомая и непредсказуемая сила и затягивает в пасть удаву. Повелителем перехода из одного пространства-времени в друКШ- (из одного состояния в другое, от начальника станции к "проходимцу") становится закон природы, таинственные проявления которого объяснить рассказчик не берется.
Финал рассказа с его собственным сюжетом - сюжетом "роковой" встречи и "роковой" любви - становится ироническим осмыслением "образа сюяста" "жестокого романса".
В рассказе "Володя-большой и Володя маленький" Чехов продолжает разрабатывать тему чувственной-страсти. И вновь'в изображении обнарукиваются новые оттенки. Заглавие рассказа, намечает ту доминанту, которая определяет собой'построение целого.Название-' сложено из имек мужских персонажей. Но Володя большой и Володя маленький - персонажи, раскрывающиеся через речь автора-повествователя (большей частью), т.е. их образы содержат в се-,бе признаки, персонажа-объекта» Несмотря на редукпдю образа госпоза Ягач в названии раоска8Й8, сна все-таки оказывается в центре втшашя автора. Софья &вйаш как персонаж.сама является 'субъектом информации о себё^йй'«зферэ раокрцваетоя при .ее ез
участии; более того, изображаемое в рассказе пропущено через фильтр ее восприятия. Предпочтение автора, связанное с вкбо-, ром названия рассказа, проясняет категория "середины", "про-, мояуточности", пронизывающая по вертикали разные уровни художественной системы и придающая ей смысловое п стилистическое > единство.
. герои рассказа так или иначе находятся в функциональной зависимости от образа Софья Львовны. Все они легко группируются и на разных основаниях ссстсзляют ей оппозицию. Одна из оппозиций представлена форгдаоЯ: Волода большой к Володя маленький - Софья Львовна (или: Володя болыгой - Софья Львовна ~ Володя маленький). Госпожа Ягич находится "между" персонаашк-муачинаки, "внутри", в "середине" этого замкнутого круга, из' которого пет,выхода. Сумятица мыслей И чувств героини, ее поведение, наконец, ее судьба, очерчены рамками отношений к неЗ Володи большого и Володя маленького. Другую оппозицию составляют Софье Львовне ленские персонам - йдя а Рита, причем по отношении друг к другу они, как'и Золодя большой и Володя маленький, могут быть в одинаковой степени со=противопосгашгепц. При псей разнице слоившихся су-еб, суэдость их жизни, окрашенной' самоограничением и одиночеством, близка, £еталк, из которых складываются портреты обеих "послушниц", тока семантически сближают образы девушек. В гак одинаково подчеркнуты сухость, бесстрастность, "холодность". Близость Риты и Ояа актуализируется и за счет цветсобознзчешя. В описагста внешности героинь отмечены только два цвета: подчеркнута предельная "бледность" девушек, другой акце'нт сделан на черный цвет деталей чоегюмоя. Варьируясь и повторяясь, цветовые характеристики начинают иг- : рать роль знаков отрешенности от ¡лира, за слоне: гности от петно-кровнрЯ казни, самоограничения. Таким образом, Сйя и Рита даны ■ как два возмонных варианта судьбы женщины, внутри этой еще более у сшивающей безвыходность "рош" мечется Софья Львовна. .
3 качестве составного элемента композиции текст рассказа включав? в себя ретроспекции. Их рать выполняют короткие, да • намичесхие, повторяющиеся воспоминания о тете, бессознательно всплцвпизпе в намята Софьи Львовны. Шкросвжет о тете алеет пространственную конфигурацию (на его основе роадается образ движения, несущий информацию о "неровности", ''кривизне"). Но
главный смысл этого композиционного элемента в том, что в контекста чеховского изображения он становится формой бессознательного перзжквания опыта, извлеченного другими в сходном сх>~ жете настоящего, тем самым создается поэтика вторичного пере-Е1ван;1Я бшого. Более того, минисюжет одновременно является и формой предчувствия:, которая, будучи осознана автором как прием, становится опережающим отражением будущего.
Во всех рассмотренных выше рассказах природа человека но подвергается сомнонию: стремления каждого из героев естественны, а потому законны. В связи с этим характер изображения делает невозможной нравственную оценку.
В этих рассказах в центр внимания Чехова попадают случайно обнаруженные в себе человеком непонятные и непредсказуемые тачала, во власти которых находится человек и которые, как правило, губительны. Но если,с одной стороны, чеховская философия любви была связана с представлением о разрушительных началах «живущих в глубинах природы человека ("виновником" любовной драмы оказывался "демонизм" самой стихни любовного чувства), то другая ее сторона - это утверждение любви как высокой. основополагающей ценности бытия и приятия жизни через любовь, что раскрывается в целом ряде рассказов ("IIa пути", "Шуточка", "Рассказ госпожи "Верочка", "Дама о собачкой" и др.).
Рассказ "На пути" анализируется в контексте литературных традиций (всвязи с произведениями' Лермонтова, Тургенева, Толстого, Пастернака).
Изображение в этом рассказе дает возможность увидеть, что Чехову важен, феномен.того особого состояния человека, которое он переживает, когда испытывает ощущение полноты жизни »счастья влюбленности, даже если это состояние длится миг. Анализ показал, что в.финале рассказа воспроизведение процесса исчезновения пространственного следа существует в одной и той же структуре- изображения наряду с 'воспроизведением укорененности чувоти рр-слещ. что.передано сравнением ("он стоял, как вкопанный"), образов белого утеса, темпоральными указателями, роль которых в структура предложения могут играть да&е' противительные союзы ("долго стоял он", "сам он, покрытый снегом, стал походить на белый утес, т глазе его всо еша искали чего-то в облаках сне« га"). Для Лермонтова (па текст ого /'Утеса" ориентируется Чехов)
. "след казненных событий, сохраненный памятью, гарантирует воз-- • мохностъ их приобщения к высшей неуничтожимой реальности-вечности" (Лермонтовская энциклопедия, 308). Поэтому у пего рядом с событием присутствует его олед. В отношении чеховского pao-, сказа кояно говорить из об отсутствии события, а об изменения! традиционного взгляда но событие: orio происходит, но только не в фабульном ряду, а а ряду изображения. Событие не реалигова-i лось в фабула, со-бытие осуществилось в изображении.-Событие чувств героев, их высоких состояний влюбленности, что для Чехова является самодоаяепяам, самоценным процессом, на" записи-', vosa ни от каких результатов "действия" ("расхождений в пространстве" )<, Одухотворенная любовь для автора "Еа пути" - вся в, данном моменте, и в зтем моменте она прекрасна и абсодятна.Шм-этому идея "ргсхо.тдекия"яутк, "гаснувшего романа" героев глк она бвла представлена в творческом сознания-исследователей прозлых пег {Я,Ладожск5гЯ, П.Бищишг), кояет считаться справедливой лишь относительно фабульного уровня. В контексте финала, чеховское изобраяегс'.а открывает новые горизонты. Если в мире фабульном герои кзвут а тодесе пути, то в шро "надфабульпш", в гя1ре%1стерзального"син:эта возникает космический образ Пути,-, где слияние двух протавополслашс начал - яенственнсго и муле-« . ственного - образует адвгнуэ онтологическую величину, определяющую сохрряеиае порэдха и непрерывной гармонии в мире.
Втоопя глава — "Хронотоп w проблема точки зрения". B riia-ве рассматривается проблема формирования в структуре'чеховского изображения точки зроняя персонажа и точки зрения автора, носителя концепции хилого»
В больЕлнстве рассказов Чехова' енеиний мир предстает в изображении через конкретно воспринимаема сознание. Нзрздко-уровни восприятия мира становятся главной темой я обгектегл изображения. С проблемой восприятия мира человеке!.! неяоеродо. вешо связана специфика изображения(пространства. В результата' такой обусловленности изображение ■ отзывается объеятавпо-диня-мичным, так как отраве? мнр-лроцеес, и субьектлЕНО-слтуотапг"«, так кап несет иа себе оттеккгдуЕеваого состояния челояокз, который этот мир переживает. Прп -атсяд чеховская ойрзз?гая система ". сигнализирует о нарушении связей человеческого, ¡рбзпаивя о т-рогл: возникают сумрачные картины катастрофа,'ерэжиесирезакйга-
сознанием отчаявшегося героя. Чей вше степень соответствия своему'самочувствию при восприятии, тем менее адекватен воспринятый героем.мир: он как бы "растворяется" в индивидуально-субъективном сознании чеховского человека.
В целом ргздо рассказов утвэрэдается • иной тип отношения к ;изображению: созерцание юз к способ постижения целостности ¡лира. В этих рассказах жизнь предстает 1шк сума событии, бытовых ситуаций, фактов, котсрио в глазах читателя становятся атрибутом самой действительности, а ьоссоздание ее восприятия приобретает черты чрелищноста. В этих случаях эстетическое начало часто переносится в область художественного пространства. Самоценными и самодостаточными предстают пейзажи но многих чеховских рассказах. В большинстве случаев они фокусируют в себе точку зрения автора. И только в немноЛж воспринимающее-сознание персонажа открывает для себя эстетическую ценность реального мира. :Порой яркость у.ввденных жизненных проявлений столь интенсивна, что изображение такого "чистого", непосредственного восприятия мира вызывает эффект экстатической силы жизненного переживания.• Н-р, в рассказа "Недобрая ночь" процесс'такого восприятия ста. новится центре».! изображения. В нем картины пожара даны как эстетическая к психологическая репрезентация одного жизненного факта-случая. Горит соседняя деревня, и герои рассказа испыты-. вают двойственное чувство: одновременно "дрожэт от страха" и "жаждут зрелища". "Оправдание" такой двойственности заложено и в самом изображении, и в самом-видимом,'в его архитектонике и смоциональном наполнении - панорамы пожара становятся открыто' зрелищна®, открытыми для созерцания. Принцип изображения "из окна" (герои наблюдают зарево из слухового окна чердака), позволяет автору провести известную границу между драмой, разыг-равкайся в погруженной в огонь деревне, и чисто эстетическим чарующим зрелищем, возникшим перед глазат барыни и ее слуг. Ошю- ("рама")'как бы изолирует изображение пожара, придавая-зад тем самда "картшщый"'вид.'. .' ' ■
3 иерао'л параграфе рефорируемой главы - "Структура чеховского иеобрахения; соотиошонио •кта эриния персонажа и .автора" » ¡пакззруютал несколько'рассказов. Один жз ¡ва, "Рассказ гоояок? и?', дсмонотраруот"-олойноб ЦиресачонПа проограпитвонно-зршенрых: отпешзакй, обусловленных точкой зрения автора и точкой
зрения персонажа. Материалом художественного исследования взято сознание героини. Его форма - рассказ женщины, другого , субъекта речи здесь нет, потому субъективное (экзестенотялзлсэ) время в рассказе едино. Однако художественное время - г.чюгопла-ново. 1
Изображение в этом рассказе выполняет двоякую роль. С одной стороны, оно предстак-тяот восприятие героиней самой себя» этанол своего жизненного пути и особенности их переживания,тем самим в тексте формируется экзистенциальное время. С другой стороны, восприятие героиня - восприятие, сочиненное -автором, пространственные категории вводятся именно его, авторскоЯ,во-лен. В связи с этим формируется и другое, объективно-хонценгу-яльисе авторскоз зрекя. Модель художественного времени содержит две подструктуры. Одна из жпс связала с субъективными пе~ реяатшякя событий. Субъективное яорегяваняе героикой прост-рпготза и времени, конструированго ее сознапюм особенных лро-стркстяотпкмзрскегашх рядов становится предметом художзотвоя-ного иаобра:ле!П'.я. Эта другая, сочикештя автором подструктура, располагает все происходящее а хронологическом порядке» Такое расцепление худогаотвзяного •грег.давя делает рассказ и ларачве-кнм и огтичсским. Реальный ход разлития чусстда и газелл госпега .''.'5 исходил из настоящего к прежему п будущему (более того, прошлое, настоящее будущее жнпет ? ее сознании едповргмзнно, "сжато", нзклэдиваясь друг на друга, что связано о передачей психологкк жешцнчн). Но г> построения рассказа вадорзал принята врекокяоЗ последоватеггьнсотл^ сначала кзобраэдется ярсгиоа.гЪ-тсм - настоящее, залвркзотоя'лэобпапсешкга будущего. Т-чсои кзо-брзле;п:е подчеркивает ход ссгесгзсакого развитии гязш, коре-чектизу печного движения п дег'.опотрпру^т точку зрения автора» 3 других рассказах ("День за городе,л" я др.) хгсявдтются ¿•ерся, вступающие з яаае отяоес-гия с мирон, сдособгшз ачъел из субьектавкоогя своего вре?.:сгпг 2 'безвремезаоегь Пр'лролч. 3 также рассказах кочхчао? эвучзтз гшзз вехзбшпеота :.прз,-а зрег/л перзжяпаотся к ал сс-гвстэсякшг вослодсвотсльиоогь отг.при , этого бесконечно гозвргпгкг^гося фзксйвка.
По 2, "Дс8зт|1аз«пгй5к:ия сбразк ц нртаппа лзгер^'
сксго г,одел1рога;пя соп;13!СТ герзоэ"' па матортшло р:ос".озов , ГСварель" к "На' подвода" предиряяга пстняз ?!й» оосбетго*
~ 18 -
I
ста точек зрения .автора и aro персонажей, «шел и специфику их разграничения.
В изобря&а&ии "Свирели" представлены три уровня сознания-евтера и персонаяе!:. Вое три уровня находятся в системной сня-
Ыс -
. - . Взссказ воспроизводит ыиросостояшга и его переживание чэ» лозекш. Герои расскаьа = Лука и Мелитон - в контексте чеховского изображения предстают двумя разнонаправленными векторами екзисгеггшг: меда та тил5£о-с озерца тельное, природное начало во-ллоодот собой Лука,' социально-культурное - Мелатон. Их разные точки зрения получают различное пространотвеРноо закрепленио. В художеотвеивал универсуме рассказа сосуществуют два семантически противоположных пространственных образа - горизонталь и вертикаль. Горизонталь связана с идеей капряшшости бытия человека «вертикаль - о выходом его в преобрааакный мир. В' земном бытии человек распят на земле. При этом он испытывает напряжение» которое из пршяшает его к земле« а поднимает к небу.
. ,Мелитон испытывает'на себе давление рока, его бытие изо-, даровано-личной сферой. В финала перед ним открывается верти-дашг ему стало "жаль и землю, и небо".
Образы героев рассказа рассматриваются в методологическом ключе Г.£Д.Валаевой, разработавшей идзю явления "образной рефлексии" (Валиева, 1992). В чеховской кзобратании Мелитон ассоциативно становится "образда просветленной твари", за рисунком * же образа Лука просматриваются черты, присущие образу. Поовящеы-кого а эзотерическую тайцу мара, мудреца, Пана, аскета, ошалъ-вика, святого, юродивого, пророка.'Лука'помещен не проото в " вертикальное пространство, его взгляд организует риоунок креста, в цзнтре которого (на пересечении вертикали и горизонтали) находится сам герой. Центральное, уравновешивающее пространственной положение Духи обладает взкндаз признаками истин«' ной газни. Его бытие - пхиобгцзние к внеличносткой, космнчзс« коЗ стихии» Оа сам есть, напоерздетвзнноа:воплощение бытия природы. С фцгур?>Й Луки связан;сбрзь игры. Лука лукавит, обмакивает» -ргрпвт q;ManíxoHC!.!,-пророча *доокалгаоио" и через,обыан* чароэ игру, вадрт' (бессознатавдво)- ого -'к ждана.
Способность видеть мир в целом свойственна авторскому сознанию. Это высший уровень видения. Все миры, пространства, сознания осознаются автором пак некое единое пространство, где все соразмерно. Для него "апокалипсис" - не "конец овета", я преображение его. Чеховское изображение открывает смысл движения человека и мира к свету, преображениям ("народ лучше стал", "умней"). . •
Анализ рассказа "На подводе" показал, что соотношение изображенного подсознания и сознания в чеховском тексте фиксируем противоречив . порыва к гармоническому лизнеустройству и его драматическую неосуществленность. •
§ 3 главы - "Пространственно-временная точка зрения в "святочном" рассказе". Рассказ "15а святках" рассмотрен в контексте пушкинского "Станционного смотрителя", с которой чехов-, ский текст вступает в определенные отношение.
Анализ рассказа показал, что з условиях формального соблюдения праздника (переодевание■в праздничный костюм) героиня рассказа, ТЖимьл, напряжением своих дуглавных сил реально'осущей шет праздник для себя.Тем сягАм Чехов открывает чудо комцунтса-ции в условиях, невозможных, казалось бы, для ее возникновения. Для автора "На святках", как и для автора "Стационного смотрителя^ в факте накопления согревающей теплоты в дугар человека ' ' заключен высокий смысл. ' . ' • .
3 заключении диссертации подведены итоги работы.
Ооновныа положения исследования отраяенн в публикациях:
1. Трансформация святочного яанра в творчестве Чехова (на, материале рассказа "На святках") /А Тезисы докладов кслозузобской научно-лрактической конференции. - Пэтропааяовсн-Каичзт-ски;!, 1989. - С.18-19. , .' ■
2. Метаморфоза худсзсэственноЗ форт в творчестве Чехова ■ (проблема изображения) }} Мета?.*орфозьг культурных форм» Тезисы научных докладов молодых культурологов. СанктЯГетербург, 1993.»»'
С. 39-40. .'■ " ' = " ' ■
- ' \ * ' ■ ■
3. Художественная модель пространства а концепция'мужскс» го ж венского хврактероз (на' материала расскара^ Чехова-"На пу» ти") // Ш1У им.ЛАГбщена. Санкт-Петербург, 1рЗЗ. - II с; Деп.в ГОМОН РАН - 1993, 3 48584......