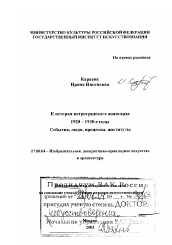автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: К истории петроградского авангарда 1920-1930-е годы
Введение диссертации2003 год, автореферат по искусствоведению, Карасик, Ирина Нисоновна
характеризуют складывавшуюся в тот период вокруг истории русского авангарда общественную ситуацию. Высказанная тогда точка зрения годом позже получила развитие в докладе на проходившей в ГРМ конференции, связанной с персональной выставкой Казимира Малевича (5, опубликован в 1990 году). «Своим отношением к ведущим деятелям русского авангарда, -отмечал автор, - мы зачастую - и это было вполне понятно, являлось прямым следствием обстановки замалчивания и запретов — как бы продолжали созданные легенды, развивали «авторский миф», вместо того, чтобы его осмыслить. Поэтому главное в современной ситуации даже не само по себе замечательное обстоятельство, что теперь можно свободно написать о Филонове, Шагале или Малевиче, а то, что из защитников и почитателей мы, наконец, можем стать исследователями. Несколько упрощая, можно сказать, что на смену сложившемуся в 1960-х годах ( в основе своей продолжающему действовать и сейчас) представлению об авангарде как о пластическом эксперименте, годном на все времена, должно прийти, и уже приходит, осмысление его как глубокого и серьезного, исторически самоценного духовно-философского движения, проникнутого широкими жизнетворческими устремлениями. Кроме того, его надо понять как поле действия весьма различных творческих воль, несхожих представлений о целях и ценностях искусства, сложных личных и групповых взаимоотношений».
По вполне понятным причинам эта область искусствознания привлекла тогда к себе всеобщее внимание и новые научные силы, попав в зону интеллектуальной моды. Однако интерес автора к русскому авангарду восходит не к этому, а к более раннему времени - к началу 1970-х -«студенческих» - годов. С рефератом на соответствующую тему он поступил в аспирантуру ВНИИ искусствознания, собираясь продолжить работу в избранном направлении. К сожалению, по идеологическим причинам это оказалось невозможным, и диссертация была написана на другую -современную, то есть «советскую» - тему. Свидетельством причастности к проблематике авангарда осталась опубликованная в 1976 году статья, в которой присутствовали некоторые из имен, ставших впоследствии предметом авторского внимания (1). Случайное обращение к теме из современности, а ей была художественная критика 1960-х - 1970-х годов, оказалось полезным во многих отношениях, сформировав новый профессиональный опыт. В дальнейшем изучение авангарда и занятия актуальным искусством шли параллельно, взаимно обогащая друг друга. В кандидатской диссертации имелась глава об историзме художественного сознания, в которой в отраженном - историографическом - свете существовала и проблематика авангарда. Автор прослеживал - в возможных тогда рамках - специфику отношения к искусству 1920-х и 1930-х в художественной культуре 1960-х и 1970-х. Таким образом, последующий переход к этому периоду был подготовлен и тематически, и методологически. Будучи, как уже говорилось, противником внеисторического «осовременивания прошлого», автор, тем не менее, с тех пор всегда учитывал «обратную перспективу». В этом он опирался и на опыт одного из любимых своих героев - Николая Лунина, который в 1928 году писал: «При дальнейшем нормальном росте художественной культуры художественные оценки, а тем самым и художественное восприятие будут идти не от прошлого к настоящему, как это имеет место сейчас, а от настоящего к прошлому».1
Если, не считаясь с порядком появления, мысленно собрать представленные к защите работы в некую книгу, то ее содержание может быть разбито на несколько следующих «глав» - тематически единых комплексов.
1. Проблемы музейной репрезентации искусства авангарда (Музей художественной культуры. Отделение новейших течений ГРМ. Экспозиционная практика ГРМ в 1930-е годы).
2. Искусство как наука (деятельность Государственного института художественной культуры).
3. Личность и школа. Аспекты творческих и психологических взаимоотношений (Казимир Малевич и ученики. Павел Филонов и фшоновцы).
4. Русский авангард в 1930-е годы. Судьба беспредметного искусства. Пути новой фигуративности (к проблеме экспрессионизма и сюрреализма).
Однако прежде чем перейти к изложению материала по «главам», несколько предварительных замечаний, характеризующих «несущие конструкции» повествования и отраженных в статьях, не всегда укладывающихся в отмеченные тематические блоки.
Автор разделяет точку зрения тех исследователей, которые видят внутреннюю логику эволюции авангардных идей и считают возможным, определять специфику их существования в конце 1920-х - начале 1930-х годов понятиями «кризис», «закат» и т.п., мотивируя этот «кризис» не только политическими, но и собственно творческими причинами. Более того, автор был в числе первых, кто обратил на это обстоятельство специальное внимание и отметил уязвимость концепции «авангарда, остановленного на бегу» (12).
Рассматривать искусство авангарда как форму утопического сознания со всеми вытекающими отсюда последствиями стало сегодня общепринятым. Диссертант рискует утверждать, что раньше других в отечественной науке
1 Пунин Н. Отделение новейших течений в искусстве. Его образование и задачи // Отчет Государственного Русского музея за 1926 и 1927 годы. Л., 1929. С.48. применил это понятие к феномену изобразительного авангарда и рассмотрел симптомы и способы выхода из утопии. Статья, затрагивающая эту проблематику, была написана в 1990 году (6, 12, опубликована в 1994), однако замысел восходит к 1987 году, когда издательство «Аврора» заказало Г.Ю. Стернину и автору этих строк так и не вышедшую книгу, для которой ими было выбрано название «Между утопией и жизнью».
Автору не близка также и противоположная концепция, наиболее выпукло очерченная трудами Бориса Гройса. Суть этой концепции выражена названием одной из его статей: «Соц-реализм - авангард по-сталински». Не близка типологической обобщенностью, снимающей мелкие различия, не считающейся с психологическими мотивами, с конкретикой реального материала, с пластикой отдельного произведения. Не близка обвинительным пафосом человека, знающего «как надо». «Роман с революцией» нельзя сбрасывать со счетов, объясняя его лишь осознанной «волей к власти». Различая в философии авангарда ростки тоталитарного мышления, не следует, наверное, придавать ей сугубо идеологическую, а тем более политическую окраску, также, как не следует забывать и о чистом романтическом импульсе («чувство распахнувшейся, взявшей вдруг разбег жизни»2), о том, что в истоке многих замыслов и начинаний не только претензии утопистов, но и одержимость мечтателей. «Искусство коммуны» с его запальчивыми и наивными отождествлениями коммунизма и футуризма -не столько воплощение сознательной приверженности революционной власти, сколько памятник великих иллюзий. Подобную точку зрения, высказанную в статье 1994 года, автор разделяет и сегодня.
1. Проблемы музейной репрезентации искусства авангарда (Музей художественной культуры. Отделение новейших течений ГРМ. Экспозиционная практика ГРМ в 1930-е годы).
Появление подобного сюжета в поле внимания автора, естественно, связано с его многолетней музейной деятельностью и первоначально имело отношение не столько к проблематике авангарда, сколько к истории Русского музея, в структуре которого в конце1920-х годов существовало возглавляемое Н.Пуниным Отделение новейших течений (15). Основу его коллекции составило собрание петроградского Музея художественной культуры, поэтому в статьях были затронуты и моменты истории МХК, которая в дальнейшем стала уже предметом самостоятельного изучения. Чем глубже автор постигал материал, чем дольше работал над темой, тем яснее обозначались ее иные, более широкие, нежели музееведческие, перспективы. Постепенно становилось очевидным, что в этих локальных «историях» отразилась логика эволюции авангардного мышления, что в них
2 Гинзбург Л, Литература в поисках реальности. Л., 1987. С.314. присутствует «феномен репрезентации», чрезвычайно существенный для современного искусствопонимания. Ведь именно лидеры авангарда, создав «свой» музей и «свой» институт (МХК и ГИНХУК), первыми осознали значимость репрезентации как самостоятельной сферы творческой активности художника. Эти институции были не просто уникальными учреждениями, они были важными симптомами новой ситуации, свидетельствуя о смене ориентиров. Авангардное движение явно входило в свою завершающую фазу: радикальное формотворчество теряло приоритет, отступив перед задачами репрезентации. Музей, исследовательский институт, школа - таковы были формы новой художественной стратегии.
Выбор ракурса исследования, помимо потребностей исторического знания, направляла и стимулировала актуальная художественная ситуация: дискуссии о музее современного искусства, «музеефикаторская» природа постмодернистского мышления, многочисленные имитации музейных практик в современном искусстве, постепенный поворот выставочной и собирательской деятельности государственных музеев в сторону радикальных творческих тенденций. В данном контексте интерес к первым концептуально осмысленным опытам музеефикации современного искусства приобретал особое - можно сказать, методологическое - значение.
Однако авторские исследования не потеряли при этом своего конкретно-исторического содержания и повествовательной интонации, они лишь обрели перспективу, иной смысловой ключ.
В реферируемых статьях (10, 14, 15, 21, 25, 29, 39) подробно изложена история создания и структура петроградского МХК, описан состав коллекции, источники поступления, принципы комплектования, прослежены судьбы отдельных произведений, проанализированы экспозиционные концепции, выставочная политика и просветительская деятельность, представлены основные действующие лица, рассмотрены взаимоотношения с Русским музеем. Особое внимание уделено при этом процессу и обстоятельствам выработки тех или иных решений - спорам, конфликтам, дискуссиям. Из мозаики разрозненных фактов и архивных документов автор стремился выстроить цельную картину жизни петроградского МХК. Основанная на реальных материалах, картина эта, тем не менее, как и любая «история», была не действительностью, а лишь версией. Поэтому автор дал действительности право голоса, отдельно опубликовав - с необходимыми комментариями - большинство использованных документов. В жанровом отношении основную из посвященных МХК статей (21) можно назвать документальным повествованием: на первый план здесь выступали события, «истории», имелась интрига, герои, вставные сюжеты. Следует подчеркнуть, что этот способ описания был избран совершенно сознательно, так как, прежде всего, хотелось достичь «эффекта реальности», особенно необходимого в связи с задачами выставки-реконструкции. Естественно, концептуальный план» присутствовал - и в непосредственном рассмотрении «идей» (общей идеи Музея художественной культуры или экспозиционных идей), и в группировке фактов, и в обозначении причинно-следственных зависимостей, - однако он был как бы «растворен» в материале. Поэтому следующим шагом стало уже прямое обращение к самой концепции необычного музея. Так появилась статья «Музей художественной культуры: эволюция идеи» (39) - движение не «в сторону фактов», но «в сторону проблем».
Столь подробное - «событийное» - изложение истории МХК казалось автору необходимым и по другим причинам. Во-первых, чисто «музейной» составляющей этого феномена никогда не придавалось сколько-нибудь существенного значения. МХК чаще привлекал к себе внимание как институт, как будущий ГИНХУК, а не как собственно музей. Из первой проистекает и вторая причина: так сложилось, что разговор об МХК неизменно возникал вокруг фигуры К. Малевича, в то время как у музея была интересная «домалевичевская» биография, связанная в первую очередь с именами Н.Пунина и В.Татлина, а к конкретному формированию коллекции Малевич и вовсе был мало причастен. В-третьих, история МХК, за исключением тех ее страниц, которые были маркированы «теорией прибавочного элемента», весьма слабо, по сравнению хотя бы с московским МЖК, включалась в общий контекст истории русского авангарда. Особой детализации требовала и та форма, внутри которой появился основной материал об МХК, а именно каталог и выставка, впервые показавшая эту коллекцию как самостоятельный и целостный комплекс.
Концепция Музея художественной /живописной/ культуры сложилась в размышлениях и действиях ведущих фигур русского авангарда, таких как Татлин, Малевич, Кандинский, Пунин, Филонов, Родченко. В дискуссиях и организационной работе принимали участие многие и разные мастера -Штеренберг, Фальк, Древин, Удальцова, Степанова, Карев, Грищенко, Альтман, Лапшин, Тырсаи др.
Идея создания подобных музеев в первую очередь стимулировалась затяжным конфликтом между новым искусством и традиционной музейной практикой, игнорировавшей само его существование.
Чтобы послужить ценным материалом для будущих музейных деятелей, новым художникам, - писал Малевич, - надлежало пройти вековой стаж подвалов и чердаков, быть заплеванными прессой и общежитием»3. Поэтому на волне революции войдя во власть, художники объявили, что они «как единственно компетентные в вопросах современного искусства и как силы, создающие художественные ценности, только одни и могут ведать приобретениями современного искусства и руководить делом
3 Малевич К. Музей художественной культуры (1923).- ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д. 18, л.31. художественного воспитания страны»4. Дело нового музея, однако, не ограничивалось восстановлением попранной справедливости. Это был лишь повод, а не причина. Малевич однажды назвал создание такого музея «важным моментом организующейся художественной силы»5. «Аппаратом влияния» художника считал их Пунин6.
Действительно, возникновение МХК было актом общественного и творческого самоопределения нового искусства, стремившегося придать своим изобретениям и экспериментам статус универсальной художественной методологии. Было закономерным шагом искусства, склонного к теориям и манифестам, к анализу собственных пластических средств.
Мы свидетели и творцы движения Нового искусства, - утверждал Малевич, - должны дать оформление ему, чтобы та же история не рылась в раскопках и догадках, чтобы тот же будущий музейный деятель-хранитель имел точные документы»7.
Музей художественной культуры, таким образом, можно рассматривать как автопортрет нового искусства. Словно предчувствуя недолговечность своего нынешнего могущества, художники сами занялись «организацией памяти». Не дожидаясь положенного срока, они захотели сразу войти в историю и не по чьему-либо, а по своему «образу и подобию». Дальнейший ход событий показал, что это нетерпение было оправдано. Прижизненный, хотя и временный, «памятник самим себе», воплощенный новаторами в модели музея художественной культуры, волею тоталитарного режима надолго остался единственным.
В МХК не собирались представлять новое искусство традиционным путем как смену индивидуальных манер, исторических стилей или «форм отражения эпохи»8. Позиция историка-регистратора сменилась здесь созидательной установкой художника. Движение искусства изучалось и экспонировалось как последовательный и объективный процесс развития профессиональной пластической культуры в ее основных элементах (материал, цвет, пространство, время/движение, форма и техника) с акцентом на «моменте изобретения» и «моменте мастерства» (А.Родченко). 9 Поэтому такой музей мыслился скорее лабораторией, чем хранилищем. В МХК предметом репрезентации впервые становились не произведения как
4 Декларация Отдела ИЗО и художественной промышленности по вопросу о принципах музееведения // Искусство коммуны, 1919,16 февраля.
5 Малевич К. Музей. ,.,л.ЗО.
6 Пунин Н. Доклад по вопросу об отношении художника к музейной деятельности (февраль 1919). - Частный архив, СПб.
7 Малевич К. Музей., л.ЗЗ.
8 Определение К. Малевича. См.: Малевич К.Музей.л.ЗЗ.
9 См.: Хан-Магомедов С. Конструкция, изобретение, конструктивизм (К проблеме функционирования концепции художественного конструирования) // Конструкция, функция, художественный образ в дизайне. Труды ВНИИТЭ.М., 1980,вып.23. таковые, а формообразующие процессы или - иными словами -художественная методология.
Первоначальный замысел не ограничивал амбиции нового музея лишь современным материалом. Художественную методологию предполагалось демонстрировать на примере искусства всех времен и народов. Однако от столь глобального проекта, требовавшего всеобщего музейного передела, вскоре отказались. В прошлом были выбраны лишь те явления, с которыми новое искусство ошущало родственную - структурную - связь, те, что воспринимались как исток, источник, традиция. К таковым были отнесены икона, русский и восточный лубок, другие виды народного творчества.
Предусматривалось также объединение в МХК-МЖК русского и западного современного материала. О конкретных шагах в этом направлении упоминал В.Кандинский в опубликованной в 1920 году статье «Музей живописной культуры»10. Петроградский МХК с 1919 по 1922 год неоднократно поднимал вопрос о выделении для коллекции произведений французских художников из московских собраний Щукина и Морозова (назывались имена К.Моне, Писсаро, Ренуара, Сислея, Синьяка, Сезанна, Брака, Фриеза, Матисса, Дерена, Марке, Пикассо, Брака, Руссо, Майоля), нужных как «исходные пункты для выявления современных течений в искусстве и научной разработки вопросов живописной культуры»'1. Обновленная концепция МХК, предложенная Малевичем при вступлении в директорскую должность, сохраняла эту стратегическую линию. Более того, Малевич настаивал не на отдельных передачах, а на тотальном изменении ситуации. МХК, по его мнению, должен включить «все собрания России и Запада новых течений, начиная с импрессионизма. Музей западной живописи должен быть Отделом Музея художественной культуры", поскольку "только в классификации влияний мы можем установить правильную линию»12. Однако этим планам не суждено было сбыться.
МХК, несомненно, прежде всего, ориентировался на профессиональное сознание. Однако, этот музей художника, по мысли его создателей, мог и должен был стать музеем зрителя, школой, где обучают не истории искусства, а «пластической грамоте». Именно технически-профессиональный характер нового музея, по идее организаторов, делал его «необходимым для масс, которые до сих пор ни в одной стране не имеют собрания, могущего открыть им путь в эту область живописи, без которой полное понимание искусства немыслимо»13.
Общую концепцию Музеев художественной культуры, предложенную отделом ИЗО Наркомпроса, утвердила музейная конференция, состоявшаяся
10 Кандинский В. Музей живописной культуры И Художественная жизнь, 1920, Jfel. ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.6, л.17.
12 Малевич К. Музей художественной культуры. - Гаи же, д.18, л.34.
13 Краткий отчет комиссии по организации МЖК. - РГАЛИ» ф.665, оп.1, д.7, л.1. в Петрограде в феврале 1919 года. Тогда же началась непосредственная организационная работа, результатом которой стало создание петроградского МХК и московского МЖК, а также формирование соответствующих коллекций в провинциальных городах.
История Петроградского МХК связана с именами Н.Пунина, Н.Альтмана, В.Татлина, К.Малевича, А.Тарана, М.Матюшина, П.Мансурова, Н.Лапшина и др.
Музей открылся для публики 3 апреля 1921 года в так называемом «Мятлевском доме» на Исаакиевской площади. Экспозиция, включившая только произведения живописи, строилась «по типам вещей последовательно (безлично)» в диапазоне от импрессионизма до динамического кубизма14. В 1922 году специальная «развесочная комиссия» в составе В.Татлина, Н.Пунина, А.Тарана, Н.Лапшина разработала концепцию новой экспозиции и подготовила ее к открытию. Смысл предложенного проекта - выявление «главной магистрали нового русского искусства»15 (то есть движения от импрессионизма - к Сезанну - к кубизму -и выходы из кубизма), концепцию «основного пути» при этом стремились соединить с принципом «развески по авторам». При организации экспозиции устроители учитывали «влияния народного искусства - примитива и иконы, вывески»16. Критерием отбора конкретных произведений стал принцип профессионального качества, или «сделанность вещи». Несоответствие того или иного явления «главной магистрали» подчеркивалось самим расположением в экспозиции - ему отводились «боковые места». «Работа над материалом, живописной формой»17, собственно, и составлявшая специальную задачу музея, была акцентирована организацией отдельного зала - так называемого «общего обзора», в котором «все течения представлены в одной комнате для наглядного показания хода от изобразительности к живописности».18
Опыт первых лет существования петроградского МХК вновь поставил вопрос самоопределения. Традиционные музеи постепенно тоже начали собирать и выставлять новое искусство. В декабре 1922 года залы новой живописи открылись в Русском музее. Материал МХК утрачивал свою исключительность, а принцип его демонстрации уже давно представлялся многим далеким от радикальности. «Это те же эпохи Эрмитажа или Русского музея, - писал, например, художник и критик В. Денисов.19 И. Клюн еще в 1919 году назвал Музей живописной культуры «новым кладбищем
14 Отчет о состоянии и деятельности МХК с 1 октября 1922 по 1 марта 1924 гг. - ЦГА СПб., ф.2555, оп.1, Д.647, л.101об. и Отчет о деятельности МХК за 1922г. -ЦГАЛИ СПб., ф.244,оп.Ц д.19,л.2.
16 Общие положения развески вещей живописного отдела МХК. - Там же, д.6, л.61.
17 Отчет о деятельности МХК за первую половину 1923 г. -Таы же, д.19, л.6.
IE т
Там же.
19 Денисов В. О новых экспозициях в Петроградских музеях // Жизнь искусства, 1923, 15 мая. искусства»20. Линию МХК («та же аполлонова магистраль», «та же традиционная развеска по авторам») резко критиковал К. Малевич. Из Музея художественной культуры он предлагал «сделать живое дело, обратить в клиники Искус/ства/, по науке в искусствах, а не /в/ новые Олимпы»21. С его именем и связан новый период в истории петроградского МХК, закончившийся превращением Музея художественной культуры в Институт художественной культуры, в котором «собственно музей стал лишь хранилищем культурно-художественного материала для научно исследовательских работ»22. В итоге сформировалась модель музея, во многом отличная и от исходных концепций, и от практики начальной поры петроградского МХК.
В новых условиях сразу же возникает вопрос о судьбе музейной коллекции - собрания, являющегося, по словам Малевича, «для нас только материалом, но музеем для публики»23. Татлин и Мансуров, создающие «формы, материалы, не существующие сейчас в музее», заявили о ненужности прежних собраний, о приоритете «живой работы», которая и должна быть «проявлена в музейном характере». Они предложили передать основную коллекцию в Русский музей. Матюшин и Пунин ратовали за сохранение собрания («на нем учится молодежь», «оно может нас показать, может подвести к нам», оно воспитывает «новое отношение к историческим памятникам вообще», ведя тем самым необходимую борьбу с государственными музеями). Малевич выступил с компромиссным, на первый взгляд, решением, сочетающим «музейные» и «институтские» установки. Задача Института - «исследование, развитие и дополнение» материалов музея «для того, чтобы показать их затем вполне ясно, научно и объективно». Однако здесь уже угадывались контуры весьма принципиальных изменений - изменений самой идеи и форм репрезентации. Будущее музея Малевич напрямую связывает с исследовательской работой. Музей теперь должен экспонировать не произведения как таковые, а результаты изучения художественной культуры: «Принципы дополнения произведений показывают, каким должен быть современный музей».
С деятельностью ГИНХУКа связано появление феномена аналитического, или интерпретационного творчества - «рефлексивного» (можно сказать - «концептуального») импрессионизма, сезаннизма, кубизма и т.п., - в котором на место задачи создания новых форм приходят задачи репрезентации. Результатам исследовательской работы - образцам,
20 Клюн И. Искусство цвета // Каталог Десятой Государственной выставки «Беспредметное творчество и супрематизм». М., 1919. С.14-15.
21 Малевич К. /Полемика с Пуниным и другими// Эксперимент/ Experiment. A Journal of Russian Culture. Los Angeles. 1999. Vol.5. P. 163, 165.
22 Краткий очерк истории Музея и Института Художественной культуры. - ЦГА СПб, ф.2555, оп.1, д.805, л.38.
23 Здесь и далее приводятся цитаты из протоколов № 8-9 заседания Совета Музея художественной культуры (январь 1924). - ЦГА СПб., ф.2555, оп.1, д.647, л. 86-90. аналитическим копиям, схемам, таблицам, чертежам, графикам, фотографиям - придавалось самостоятельное значение. Как раз они, по всей видимости, и именовались «дополнениями». Эти «дополнения», по мысли Малевича и в соответствии с его представлениями о современной живописи как науке (науке, существующей в живописных формах), уравнивались с традиционными музейными вещами и обретали статус полноценных экспонатов. Постепенно научно-показательные выставки исследовательских отделов (первая состоялась весной 1924 года), на которых представлялся указанный материал, поглощают экспозицию МХК - и физически (занимая отведенные для нее помещения), и по существу.
Имеющаяся коллекция и тем более концепция ее развертывания в залах музея не удовлетворяют сформированный Малевичем творческий коллектив. Сохранившиеся документы фиксируют новые устремления. Показ произведений, организованных при помощи определенных принципов, должен уступить место демонстрации принципов, иллюстрируемых определенными произведениями. В таком музее представлены не вещи, но живописные системы, типы художественного мышления, методы формообразования. Поэтому в одном пространстве могут быть соединены подлинники и копии, полотна и репродукции, живописные изображения и фотографии реальной местности, ученические работы «в системе» и произведения зрелых мастеров, картины и графики, таблицы, схемы. («Все материалы, ведущие к выяснению систем», «слить с музейными картинами»24). Здесь выставлено не столько само искусство, сколько опыт рефлексии - своего рода «искусство про искусство». Новая экспозиция, по мысли авторов, должна была показать не только логику живописной эволюции, но и ее механизмы, открытые в процессе исследовательской работы. Более того, она должна была служить наглядной демонстрацией самого метода «анализа живописных явлений, применяющегося в лаборатории», иными словами, репрезентировать не что иное, как «теорию прибавочного элемента».
Трудно сказать, были ли подобные идеи реализованы в полноценной музейной экспозиции или же остались на уровне планов и научно-показательных выставок отделов. В опубликованных статьях диссертант подробно разбирает этот вопрос, сопоставляя даты и содержание различных документов, но так и не приходит к однозначному выводу. Известно, что масштабная реэкспозиция была произведена в январе 1925 года. Новый вариант значительно отличался от прежней экспозиции МХК, но, скорее всего, был компромиссным. Судя по всему, общую музейную развеску не удалось превратить в «научную», приблизив ее к канонам показательных экспозиций исследовательских отделов: сказалось «сопротивление
24 Дневник формально-теоретического отдела. Запись 31 декабря 1924 г. - Цит. по: Советское искусствознание -27. М., 1991. С. 483. материала» и статус «музея для публики». Вряд ли осуществился замысел: «слить с музейными картинами /./ все материалы, ведущие к выяснению систем». По крайней мере, это не нашло отражения в сохранившихся описаниях экспозиции. Однако «достижения исследований»25 сказались в построении экспозиции - она была связана с теорией прибавочного элемента и делала предметом репрезентации логику живописной эволюции. В соответствии с этой теорией в фокус экспозиции попадали пять основных живописных систем (импрессионизм, сезаннизм, кубизм, футуризм и супрематизм), выявленные в последовательном развитии. Специальное внимание уделялось при этом показу переходных и эклектических состояний, а также представлению индивидуальных живописных мировоззрений (Филонов, Кандинский, Петров-Водкин). Отдельный экспозиционный комплекс составила группа «Органической культуры».26
Прослеживая эволюцию экспозиционной концепции, рассматривая ход гинхуковских дискуссий, учитывая изменение институциональной природы МХК, автор приходит к выводу, что в осуществленной в 1926 году передаче музейного собрания в ГРМ внешние обстоятельства соединились с внутренней логикой. Важно отметить, что Русский музей получил не просто некую сумму произведений, не просто коллекцию, но определенную «форму репрезентации». Отделение новейших течений, созданное в ГРМ на базе этой коллекции, во многом стало преемником МХК.
МХК являл собой авторскую модель музейной репрезентации искусства русского авангарда. Именно эта модель легла впоследствии в основу западных концепций музея современного искусства. В России в 1920-е годы она была учтена в практике больших государственных музеев, а затем, как и сам авангард, на долгие годы забыта. В 1998 году Русский музей впервые показал эту коллекцию, формировавшуюся в 1918-1922 годах самими художниками-новаторами, как самостоятельный и целостный комплекс, по сути, воссоздав облик МХК. Устроители выставки сделали попытку на основе сохранившихся документов реконструировать не конкретную экспозицию, но экспозиционные принципы петроградского МХК. Социологические исследования засвидетельствовали, что зрители - и профессионалы, и любители - оценили качество коллекции, но - особенно -способ структурирования материала, предложив даже использовать его в постоянной экспозиции музея. Актуальность и адекватность той модели репрезентации искусства авангарда, которая представлена Музеем художественной культуры, таким образом, подтверждена временем.
2i План научно-показательной развески МХК. По формально-теоретическом)' отделу . - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.48, л. 6.
26 См.: Докладная записка В.Ермолаевой директору ГИНХУКа о перевеске МХК, произведенной с 10 по 25 января 1925 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, on. 1 д.54, л.5-6.
В истории музейных репрезентаций авангарда следующим за МХК-МЖК стал опыт больших государственных музеев и, прежде всего, Русского. 2 ноября 1926 года здесь на базе коллекций МХК было создано Отделение новейших течений в русском искусстве. В его собирательской, экспозиционной и исследовательской практике ощутима несомненная преемственность с опытом Музея художественной культуры. Она, эта преемственность, не была случайной. МХК, не без оснований опасаясь, что «Русский музей - крепкая гробница истории искусства» - «забальзамирует навсегда всякий его /искусства - И.К./ шаг, который может устоять от разрушения временем» (К.Малевич)27, стремился направить отношения ГРМ с актуальным искусством в нужное русло и принять самое непосредственное участие в формировании Отделения новейших течений. Автор внимательно фиксирует подобные намерения (программа «экспертной помощи», предложения по введению в экспозицию пояснительного и показательного материала «по аналитическому раскрытию полотен нового живописного изображения»28, попытки, передавая материал, диктовать условия и т.п.) Чем реальней становилась перспектива «объединения коллекций нового русского искусства в стенах Русского музея»29 {а эта перспектива возникала на пересечении общих, но по-разному мотивированных интересов -государственных инстанций и самого МХК-ГИНХУКа), тем активнее действовали «левые силы». Изначально они воспринимали МХК как «аппарат влияния», и теперь пришло время эту его функцию использовать. В состав образованной в Художественном отделе ГРМ в 1925 году «Комиссии по устройству выставки современного искусства» был включен представитель ГИНХУКа - П.Мансуров (позднее его сменил Н. Пунин), которому поручили разработать концепцию экспозиции. Подготовленный П.Мансуровым в тесном контакте с К.Малевичем план развески опирался на принципы и результаты аналитической работы Отдела живописной культуры ГИНХУКа и в общих чертах соответствовал осуществленной в январе 1925 года новой экспозиции МХК. В основе его - не хронологическая, а «проблемная» группировка материала, организованного по живописным системам («импрессионизм и движение к системе Сезанна», «русская ветвь школы Сезанна», «кубизм», «кубофутуризм», «футуристы», «беспредметники», «группа индивидуальных проблем»)30. В Русском музее план Мансурова вызвал острую дискуссию. Возражения касались отбора имен и способа организации материала, не считавшегося с принятыми
27 Письмо МХК в Совет художественного отдела ГРМ(1924). - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.ЗЗ, л.2].
28 Там же.
29 Формулировка из протокола заседания «Комиссии по установлению связи между художественным отделом Русского музея и Музеем художественной культуры» от 11 июля 1924 г. - ЦГА СПб., ф. 2555, оп.1, д.647, л.199.
30 План ПА. Мансурова си.; Протокол Правления ГИНХУКа от 4 марта 1925 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.49. музейными стандартами («творческая индивидуальность автора», «качество произведения») и нарушающего логику систематической экспозиции ГРМ. Однако - «лишь в виде опыта» - решено было все же осуществить экспозицию современного искусства в ГРМ на предложенных ГИНХУКом началах, придав ей менее ответственный статус временной выставки31. Как бы то ни было первая «встреча» нового и традиционного музееведения состоялась, а вскоре в структуре ГРМ появился собственный «музей художественной культуры» - Отделение новейших течений. Связь была закреплена не только преемственностью материала и методов, но и «человеческим фактором»: руководителем ОНТстал Н. Пунин.
Отделение создавалось для работы с живым, динамичным - «текущим»-процессом (нижняя граница подведомственного ему материала - «момент выделения из «Мира искусства» последующих художественных течений»32). Термин «новейшие течения» был в ту пору достаточно определенным, и ОНТ интересовалось не всем художественным потоком, но направлениями, эволюция которых имела выраженную фазу формотворческого эксперимента. Планировалась периодическая смена состава фондов (рамки «современности» составляли примерно 20 лет, по истечении срока изученный материал предполагалось передавать в другое, хронологически предшествующее подразделение Художественного отдела), а в основу научно-собирательской деятельности был положен «принцип испытания путем устройства периодических выставок на отдельные темы или выставок, посвященных индивидуальному творчеству»33. Таким образом, впервые отношения крупного государственного музея с современным искусством обретали созидательный, всеобъемлющий и систематический характер. По мнению Н.Н.Пунина, «Отделение должно быть фокусом тех разнообразных лучей, из которых сплетена живая ткань современного творчества»
6 ноября 1927 г. Отделение открыло свою экспозицию, которая - в соответствии с принятым «испытательным» принципом - имела статус временной (хотя и долгосрочной) выставки. Причем в данном случае «испытывался» не только сам материал, но в первую очередь экспозиционная концепция, значительно отличавшаяся от традиционных музейных методик. «Развеска шла, - отмечал Н.Пунин, - с одной стороны, по выявлению главнейших течений новейшего русского искусства, а не по отдельным художникам, и, во-вторых, по контрасту отдельных произведений внутри этих течений»35. В семи залах были последовательно представлены: «живописные течения в группе «Бубновый валет» под влиянием Сезанна»
31 См. протокол заседания «Комиссии о переустройстве в Художественном отделе экспозиции картин художников новейших течений» от 24 марта 1925 г. - ВА ГРМ (I), оп.6, д.463, л.7-7об.
32 Протокол заседания Совета художественного отдела от2 ноября 1926 г. - Там же, on. 6, д. 500, л. 89.
33 Формулировка П.Нерадовского. См.: Карев. Каталог выставки. Л., 1927. С. 3-4.
34 Пунин H. Указ. соч. С. 46. Отчет о работе Отделения новейших течений за 1927 г.-ВА ГРМ (1), оп.6, д. 4 39, л 104.
Кончаповский, Пуни, Рождественский, Осмеркин, Машков, Куприн, Фальк, Лентулов); «примитивизм» (Гончарова, Розанова, Ларионов, Гуро, Д.Бурлюк, Древин, Школьник, Шевченко); «геометризм и ранние проявления кубизма» (Гончарова, Татлин, Шевченко, Бруни, Митурич, Ле-Дантю, Д.Бурлюк); «кубизм и супрематизм» (Пуни, Удальцова, Малевич, Попова, Клюн, Лебедев); «экспрессионизм» (Филонов, Шагал, Кандинский, Брунп, Синезубов, Татлин, Чекрыгин, Гуро). Завершали показ рисунки и живопись, созданная в середине 1920-х годов36.
Лунин не мыслил ограничиваться традиционными - собирательскими, хранительскими, исследовательскими и просветительскими - задачами. Он мыслил свое Отделение центром, организующим и координирующим, то есть - осуществляющим - художественную жизнь. Поэтому особую значимость придавали здесь выставочной политике, видя в ней не сумму отдельных мероприятий, но реализацию единой программы. При этом «сегодняшний день русского искусства и русских художников» представлялся Пунину в это время «путем к живописному реализму»37, впитавшему весь многосложный опыт левых экспериментов. Путь этот был прослежен на уровнях: художественного процесса (систематическая экспозиция новейших течений), творческого объединения («Круг», «Четыре искусства»), индивидуальной судьбы (А.Карев, А.Древин, Н.Удальцова, В.Лебедев, П.Кончаловский).
В создании ОНТ Пунин видел нечто большее, чем возникновение еще одного музейного подразделения. Отделение представлялось ему решающим звеном всей музейной структуры, влекущим за собой изменение самой природы музея. «При дальнейшем нормальном росте художественной культуры художественные оценки, а тем самым и художественное восприятие, - считал Пунин, - скорее будут идти не от прошлого к настоящему, как это имеет место сейчас, а от настоящего к прошлому».38 ОНТ сообщало иную ориентацию, актуальный характер всей деятельности музея. «Не только с научной объективностью собирать памятники прошлого, но и осознавать их значение для современности; не только бесстрастно констатировать исторические явления, но и судить о значении тех или иных художественных явлений для общего развития страны»39, - так формулировались задачи, для традиционного музея новые, но явно напоминающие, если не о реальном опыте, то об идее МХК. Пунин был уверен, что с развертыванием работы подобного Отделения «музей из учреждения, пассивно изучающего должен превратиться в учреждение, деятельно созидающее, стать как бы фильтром, пропускающим сквозь себя
36 См.: ОтчетГРМ за 1926-1927 год. Л., 1929. С.9. Краткий путеводитель по ГРМ. Л., 1928.
37 Пунин Н. А .Е. Карев // Карев. С.28-29.
38 Пунин Н. Отделение новейших течений. С.48 Там же. все многообразие художественной жизни»40. Однако период нормального функционирования Отделения оказался коротким. Уже в 1929 году в связи с резким изменением идеологических установок, ориентировавших теперь музейную деятельность на тематические формы политико-просветительные цели, интенсивность работы ОНТ заметно снижается. В 1931-1932 году оно фигурирует в документах как «бывшее».
В 1930-е годы авангард мог присутствовать в музейных экспозициях только как объект критики. Однако и в этих условиях удавалось не просто показать те или иные произведения, но предложить новые и перспективные формы репрезентации. Именно с этих позиций автор рассматривает практику марксистских экспозиций ГРМ, которая обычно оценивалась историками исключительно как опыт искажения, а не постижения (36, 37).
В конце 1920-х - начале 1930-х годов Русский музей, как и все художественные музеи страны, был поставлен перед необходимостью коренной перестройки. Отныне его деятельность подчинялась задаче пропаганды марксистско-ленинского мировоззрения. Предписывалось переключить всю систему «подачи музейного материала с прежней индивидуалистической установки на базу марксистского использования процесса исторического художественного развития»41. Подобной глобальной смене типа репрезентации предшествовали местные пробы - так называемые «опытные сжатые экспозиции» искусства отдельных периодов. Одной из таких проб была экспозиция искусства «эпохи кризиса капитализма» (иногда иначе - «эпохи империализма»). Вполне понятно, что перестройка началась с этого, сохраняющего свою «идеологическую зловредность» материала. Музейные документы следующим образом описывали концепцию выставки: «Выставка охватывает материал т.н. новейших течений - искусство различных прослоек буржуазии начала XX в. Задача выставки через анализ дворянских и буржуазных установок искусства предреволюционного периода подготовить зрителя к критическому восприятию пережитков этих
42 течении в современном изо-искусстве» .
Несмотря на эти идеологические заклинания, звучащие сегодня и страшно, и смешно, выставка в реальности, дошедшей до нас в старых фотографиях, оказалась едва ли не самой интересной во всей музейной истории. Ее значение в свете последующих событий состоит уже в том, что под оболочкой разоблачительной риторики сохранным оставался подлинный и первоклассный материал (ведь скоро по отношению к русскому авангарду музеи превратятся в те «крепкие гробницы», о которых несколько по иному поводу говорил Малевич, и у зрителя не будет вообще никакой возможности
40 Там же. С. 43.
41 Производственный план Художественного Отдела ГРМ - ВЛ ГРМ (I), оп.6, д. 834, л.З.
42 Производственный план Художественного Отдела ГРМ на 1931 г. - Там же, л.27. что-либо увидеть или узнать). Выставка в первую очередь оставалась источником позитивной информации. И этот положительный эффект не был побочным. Заданный идеологический ракурс (ленинские цитаты, классовые формулировки, политические тексты) оказался преодолен самим характером репрезентации.
Вводный зал был построен с таким расчетом, чтобы ввести зрителя в атмосферу, проблематику, поэтику и стратегию авангардного искусства, научить его способам обращения с непривычным и новым материалом. Кураторы сразу же лобовым сопоставлением «Борцов» Н.Гончаровой и «Осмеянного поцелуя» К.Сомова обозначили основной конфликт тогдашней художественной жизни - противостояние утонченных эстетов и отчаянных радикалов, «Мира искусства» и многочисленных новаторских объединений. В экспозиции они в буквальном смысле названы своими именами -имитированы шрифты, знаки, марки. Выбор в качестве своеобразного эпиграфа гончаровских «Борцов» - точный, выразительный, с глубоким дидактическим потенциалом экспозиционный ход. Эта картина описывает суть нового художественного языка - дерзкого, вызывающего, деформирующего реальность, гипертрофирующего значение живописных средств. Она является достойным подтверждением помещенных здесь же слов Д.Бурлюка: «Живопись стала преследовать лишь живописные задачи. Она стала жить для себя». «Борцы» - пример примитивизма, того первого «изма», с которого начинается феномен русского авангарда. Однако этим условиям вполне могли отвечать и другие работы. Кураторы мобилизуют сюжетный потенциал произведения Гончаровой, делая его прямой иллюстрацией событий художественной жизни. Изображенная на картине сцена борьбы ассоциируется с той борьбой - с традиционными ценностями, признанными авторитетами, - в которую вступает авангард. Подобная риторика - непременное свойство многочисленных авангардных манифестов, к примеру, манифеста «Союза молодежи», соответствующие строки из которого приведены рядом.
Использованные кураторами приемы (элементы театрализации, окраска стен, свободное расположение экспонатов, создание «посторонних» экспозиционных объектов, обнажение самого экспозиционного языка) обеспечили зрелищную выразительность экспозиции и вышли далеко за рамки простой необходимости, предвещая будущий «культурологический дизайн» и инсталляционную практику. При желании можно увидеть здесь прообраз современных концептуальных проектов, тем более, что и на теоретическом уровне задача тогда формулировалась очень похоже. Всероссийский музейный съезд провозгласил: «основным элементом экспозиции должна быть не вещь, а «музейное предложение»43.
43 Труды Первого музейного съезда. М„ 1931.С.122-123.
В основной части экспозиции материал располагался строго по течениям или живописным системам. «Измы» - называли эту выставку в музейном обиходе. Обнаруживая явную преемственность с экспозиционными принципами Отделения новейших течений ГРМ, существовавшего еще в зоне относительно свободного выбора, а через них -с формами саморепрезентации новейшего искусства, выработанными в практике Музея художественной культуры, выставка все же расставляла иные акценты. Предметом репрезентации оказывалась не столько логика эволюции новейшего искусства, процесс смены и взаимопорождения течений и направлений, сколько специфика и самоценность каждого из них.
Этому способствовал избранный экспозиционный ход: система отдельных, пространственно изолированных компартиментов, акцентированная подача произведений за счет размещения не на нейтральной плоскости стены, а на резко окантованном щите - как бы в дополнительной раме, словно в фокусе. Поставив ударение на самоценности, устроители весьма оригинальным способом дали представление и о контексте. Над центральным щитом каждого компартимента помещена картина, способная служить знаком данного направления. Она существует одновременно в пределах собственной зоны, то есть своего «изма», и в объеме всего зала, то есть в общем процессе. Несколько таких картин образуют прерывистую линию, словно пунктиром прошивая экспозиционное пространство и символизируя, таким образом, сосуществование «измов» в художественном процессе. Однако этот прием, создавая общий контекст, не меньше работает на идею самоценности, взывая к сопоставлению и дифференциации. Контрастность пластических отношений здесь куда очевиднее логики переходов и взаимодействий. Почему была избрана такая модель репрезентации? Возможно, главной причиной было ощущение исторической дистанции. В середине, и тем более в начале 1920-х годов (время, когда были реализованы прежние формы репрезентации) русский авангард был живым явлением, процессом, имевшим не только прошлое, но и будущее. Теперь же, в 1931 году, он представлял собой явление завершенное - завершенное как волей внутренней логики своего развития, так и давлением набиравшего силу тоталитаризма. Таким - отстоявшимся, свершившимся - безвозвратным? - его и показывала новая выставка Русского музея. Трудно отделаться от мысли, что в экспозиции содержалось некое «шифрованное сообщение» (возможность такого прочтения возрастает, если принять во внимание, что «отправителем», по всей видимости, был никто иной, как Н.Пунин), понятное не только историкам, но и тогдашним знающим зрителям: она явно воспринимается как прощальный жест. Жизненное пространство авангарда неуклонно сжималось. По сути, впереди оставались всего две масштабные выставки с «авангардной составляющей»
Художники РСФСР за 15 лет» и экспозиция Русского музея 1935 года, после которых наступило долгое молчание. «Измы» были началом конца.
Значимость «личного фактора» и уникальность ленинградского опыта подтверждает сравнение с типологически близкой (те же условия, те же требования) экспозицией Третьяковской галереи. В галерейском показе идеологическая текстовая начинка выглядит более навязчивой (и визуально, и содержательно), она теснее связана с экспонируемым художественным материалом, внедрена в него. Идеологические надписи - «обвинительные заключения» - выполнены крупным и жирным шрифтом и буквально окружают картины, берут их в капкан, не оставляя зрителю возможности иного восприятия44. В экспозиции Русского музея обличительных лозунгов меньше, таблички с идеологическими характеристиками - весьма мягкими и формальными, - крепились несколько поодаль от картин, не превышая своих - вспомогательных - функций. Для мгновенного опознания «руководящих указаний» и их безошибочного отчленения от цитат из сочинений героев «футуристических боев», во множестве присутствовавших в экспозиции, применено графическое выделение соответствующих текстов - вертикальной чертой по левому краю. Обилие объяснительного текстового материала -следствие общей для музееведения тех лет тенденции «бумажных экспозиций», связанной с приоритетом дидактических и идеологических задач. Однако ленинградские кураторы явно отдали предпочтение подлинным документам, а не критическим сентенциям и классовым оценкам. К тому же отобранный цитатный материал не слишком соответствовал идеологическому - разоблачительному - заданию и, давая своего рода экспресс-анализ демонстрируемой художественной реальности, работал, скорее, на создание полноценного, совпадающего с действительностью, образа. Представлены самые принципиальные источники, обозначены основные идеи. Впечатление адекватной репрезентации, то есть такой организации материала, при которой приоритетной является забота о всесторонней характеристике явления, находит в экспозиции и другие подтверждения. Так, в разделе примитивизма произведения Н.Гончаровой и М.Ларионова помещены рядом с изразцами, вывесками, пряничными формами и прялками, то есть с теми народными источниками, на которые они ориентировались в своем творчестве. Вспомним, что подобное сопоставление сами новаторы считали обязательным условием состоятельной репрезентации их искусства. Формируя в конце 1910-х -начале 1920-х годов «свой» музей - музей художественной культуры, они стремились получить для коллекции именно лубки, вывески, пряничные доски и подносы, мотивируя это необходимостью показать «связи новых живописных течений с образцами древнерусской, восточной и современной
44 Об экспозиции ГТГ см.: Лебедева И. Искусство авангарда в экспозициях Третьяковской галереи 19201930-х годов//Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации. СПб., 2001. народной живописи»45. Проектируя в 1922 году новую экспозицию МХК, ее авторы (Татлин, Пунин, Лапшин, Таран) намеревались принимать «во внимание влияния народного искусства примитива и иконы, вывески»46. Однако в реальной экспозиционной практике МХК этим планам не суждено было осуществиться. Идея впервые получила экспозиционное воплощение именно здесь, на «идеологической» выставке ГРМ.
Кроме цитат и аннотаций, в экспозицию был активно включен фотографический и документальный материал. Афиши выставок, лекций и диспутов, пригласительные билеты, газетные вырезки, фотокарточки рассказывали о событиях художественной жизни, наполнив музейное пространство живым дыханием времени. Присутствие фотографий имело и иной - не событийный, а аналитический - смысл. В разделах кубизма и супрематизма рядом с картинами были приведены фотоизображения городских улиц, заводов, машин, аэрофотосъемка местности и т.п. Все это очень напоминало о ГИНХУКе (а значит, не противоречило формам саморепрезентации), о знаменитых малевичевских таблицах, об изучении «среды и обстоятельств», обусловивших возникновение и ход развития той или иной системы, оказавших влияние на сознание и психофизиологический статус художников, о принципах так называемой научно-показательной развески.
Для демонстрации идеологической несостоятельности новейшего искусства вполне можно было обойтись известными примерами и ограничиться материалом собственной коллекции. Кураторам же понадобилось привлечь дополнительные произведения или показать ранее не выставлявшиеся. Так, видимо, специально для этой выставки несколько картин Малевича были взяты у автора: ни «Женщина с граблями» (ныне в ГТГ), ни «Спортсмены» или второй «Квадрат» (судя по размерам, это может быть тот «Черный квадрат», который впоследствии демонстрировался на выставке «Художники РСФСР за 15 лет», после смерти мастера остался в семье, в 1990-е годы попал в коллекцию Инкомбанка, а в 2002 поступил в собрание Государственного Эрмитажа) в то время музею не принадлежали.
Примененную кураторами выставки «измов» экспозиционную тактику автор, основываясь на проведенном анализе, называет «эзоповым языком» Очень часто они, лишь по видимости подчиняясь идеологическим требованиям, говорят одно, а подразумевают совсем другое 47
Автор отдает себе отчет, что подобная точка зрения может быть оспорена. Кто-то не увидит здесь никакого сознательного умысла - все получилось, как получилось, просто кадры оказались недостаточно
45 Отчет МХК за первую половину 1922 года. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д. 13, л.21об.
46 Общие положения развески вещей Живописного отдела музея художественной культуры. - Там же, д.6, л.61.
47 Это несоответствие не осталось незамеченным: выставку обвинили в нездоровой «объективизме» и идеологической несостоятельности. политически грамотными. Кто-то сочтет приведенные авторские рассуждения экстраполяцией современных знаний, взглядов и оценок: в те годы идеологический контекст насквозь «прошивал» любой текст. Но даже и в этом случае давняя выставка «измов» сегодня не может не восприниматься как вполне адекватный по смыслу, острый по форме и актуальный по концепции опыт репрезентации искусства русского авангарда.
2. Искусство как наука. Деятельность Государственного института художественной культуры (7,10, 11,13, 14,17, 23, 33).
Феномен петроградского ГИНХУКа, по мнению автора, ярче всего обозначил произошедший в искусстве авангарда к середине 1920-х годов перелом, обнажив его внутренне стимулы и закономерности. Стратегия радикального пластического формотворчества (изобретения) была здесь окончательно вытеснена стратегиями репрезентации и социально-архитектурного проектирования. Если в создании МХК еще можно было «винить» ситуацию (обстоятельства вынудили художников исполнять чужую роль, а идея музея - по определению, есть идея репрезентации, причем в буквальном и локальном значении «экспонирования»), то возникновение ГИНХУКа - следствие внутренней необходимости, собственной логики движения новейшего искусства, свободного выбора его творцов. Применительно к практике МХК понятие «репрезентация» фиксирует, прежде всего, расширение поля деятельности. В ГИНХУКе стратегия репрезентации затрагивает саму сферу творчества и может быть описана формулой - «искусство как наука». Особенностью ситуации стала не просто переориентация сознания с непосредственной живописной работы на работу исследовательскую (в которой предметом изучения и является сама эта живописная работа) и обоснование значимости «научного метода в искусстве» (определение К.Малевича), но утверждение практики своеобразного «художественного моделирования» изучаемых пластических систем, а также процессов и механизмов их смены, в ходе которой создавались специфические артефакты - таблицы, графики, схемы, аналитические копии, живописные и графические опыты «в системе».
В ГИНХУКе, по словам Малевича, его инициатора и директора, «старое ч дя понятие художник исчезает, на его место появляется ученый художник» -тот, кто работает не по настроению или вдохновению, но «развивает свою деятельность в полном сознании и направляет свое воздействие по определенному плану»49. Под «общим названием ГИНХУК» М.Матюшин фиксирует «возникновение первого научно поставленного авангарда»50. Сам
48 Малевич К. Записная книжка, - Частный архив, СПб.
49 Малевич К. О субъективном и объективном в искусстве или вообще // Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. М., 1993. С.249. Матюшин N. Тезисы доклада «Наука и искусство» (1926). - ЦГАЛИ СПб., ф.244, on. 1, д.52, л.31.
Малевич определил ситуацию еще более выразительно и точно: «современная нам форма в искусстве - исследовательский институт»51. Очевидно, что речь шла не только о создании уникального научного учреждения, не просто о связях искусства и науки, но о появлении нового типа, новой концепции творчества.
В системе взглядов и действий Малевича подобный результат закономерен и логичен. Малевич был убежден, что с появлением супрематизма - абсолютной художественной истины - цикл живописного развития завершился: «О живописи в супрематизме не может быть и речи, живопись давно изжита, и сам художник - предрассудок прошлого»52.
Место стихийной творческой практики должна поэтому занять «живопись как наука» - специфическая художественно-исследовательская деятельность, направленная на анализ, систематизацию и наглядную реконструкцию имеющегося опыта, на выработку универсальной пластической методологии.
Идея «живописи как науки» родилась еще в Витебске. В практике УНОВИСа она была средством, помогающим - воспроизведением хода новейшего искусства - развить у ученика супрематическое мышление. В ГИНХУКе она стала целью и содержанием деятельности, вызвав к жизни специфические - «рефлексивные», «аналитические», «концептуальные» -формы творчества.
Научный метод в искусстве» был для Малевича не только «идеологией», но и необходимой «тактикой». Авторитет научного знания с присущими ему атрибутами объективности, очевидности, достоверности, воспроизводимости результатов, способен был обеспечить творческому опыту, теоретической концепции и художественному становлению Малевича искомый статус - не индивидуального открытия, персонального мировоззрения и личного пути, но общезначимой системы, универсальной философии и типологической эволюции. Поэтому Малевич к середине 1920-х годов ориентирует свою деятельность (или «стилизует» под?) именно на естественные («не зависимые от личного влияния») области знания (терминология, лексика, методы, структура исследований, организационные формы, стиль общения). Бесспорно, Малевич и его соратники по ГИНХУКу были убеждены, что занимаются настоящей научной работой (Показательна хотя бы полемика вокруг отдела П.Мансурова, которой автор уделил самостоятельное внимание в одной из статей реферируемого цикла (14). Коллеги единодушно и резко критиковали руководителя Экспериментального отдела, поскольку в его программе «не выяснены
51 Цит. по: Ракитин В. Николай Михайлович Суетин. М., 1998. С.75.
52 Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка // В кн.: Казимир Малевич. Собр. соч. в пяти томах. М.,
1997.Т.1.С.189. научные методы исследовательской работы»53). Однако едва ли не важнее содержания и результата (и для целей Малевича, и для нашего сегодняшнего понимания существа этих целей) был сам - несомненно, знаковый - жест отождествления. И не только с научным подходом к действительности, но и, так сказать, с научным способом существования. Форма оказывалась не менее значимой, чем смысл. Именно она в первую очередь «сигнализировала» о статусе, удостоверяя тем самым объективный и общезначимый характер гинхуковской деятельности. Малевич ревностно имитирует модель научного института, пресекая «вредные» разговоры о том, что ГИНХУК - всего лишь комплекс авторских художественных мастерских.
В ГИНХУКе изучались процессы и законы пластического формообразования, специфика и механизмы эволюции современных систем живописи, складывалась методология объективного анализа пространственных искусств, ориентированная на принципы и процедуры естественнонаучного знания. Во главу угла здесь, в отличие от других научно-художественных учреждений, ставились «исследования самого холста»54- понятого как аналогичный биологическому живописный организм, живущее по своим строгим законам живописное тело, запечатлевшее в своей структуре типологическую информацию о сознании и психофизиологии создавшего его индивидуума. Используя определение из малевичевских текстов, можно сказать, что в ГИНХУКе изучали «химические законы пластики», в которых, по мере развития нового искусства, растворялся предмет и все его элементы и появлялся «новый организм, персона живописная»55.
Акцентируя специфику своей научной программы и исследовательского метода, Малевич называл ГИНХУК «бактериологическим институтом Живописи или Искусства», клиникой, в которой анатомируют искусство.56 Он стремился найти однозначный, экспериментально обоснованный, ответ на вопрос, как и почему импрессионизм сменяется сезаннизмом, кубизм супрематизмом. Таким ответом стала знаменитая «теория прибавочного элемента». Малевич считал, что пластическое формообразование можно уподобить физиологическому процессу (ближайший аналог - развитие инфекционных болезней) или химической реакции и говорил о возбудителе импрессионизма, бацилле сезаннизма и т.п. Он пришел к выводу, что каждая система нового искусства имеет некий структурный модуль, некую первичную живописную «клетку» (исследователи весьма точно называют ее «геном»), которая, как и биологическая, несет в себе целостную информацию
Протокол заседания Научного совета ГИНХУКа от 2 декабря 1924 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.32, л.16.
51 Слова К. Малевича. См.: ЦГАЛИ СПб., ф.244, опр.1, д.49, л.П.
5S Малевич К. Собр. соч. в пяти томах. М., 1998. Т.2. С.53 (Фрагменты труда "Мир как беспредметность" для публикации в польском журнале "Звротница"). План ФТО на 192-4/25 гг. -ЦГА СПб., оп.1, д.647, л.209; ЦГАЛИ Спб., ф.244, оп.1„ д.53, л.192об. о живописном организме и участвует в образовании всех его форм. Эта «клетка», попадая в чужую среду (в другую живописную систему) становится «агентом влияния» и действует как микроб. Малевич назвал ее, по аналогии с марксистским экономическим термином, «прибавочным элементом», с помощью которого описал механизм процесса пластической эволюции: «как только в живописном произведении одного состояния начинает встречаться элемент другого состояния, так целое произведение перестраивается и приближается к строению системы, элемент которой зародился или прибавился»57.
Обоснованием «теории прибавочного элемента» занимался отдел Малевича (сначала он именовался формально-теоретическим, а позднее отделом живописной культуры и был в ГИНХУКе ведущим). Здесь тщательно изучались и «приводились в порядок» («по времени, по форме -системе и конструкции»)58 живописные направления новейшего искусства (импрессионизм, сезаннизм, кубизм, футуризм, супрематизм), накапливались и обобщались необходимые экспериментальные данные, создавались опытные образцы, формулировались теоретические выводы.
Была выработана единая для всех систем, но более всего развитая применительно к кубизму и сезаннизму, типология формального анализа, распадавшегося на линейный, цветовой и фактурный. Линейный анализ большого корпуса произведений фиксировал характер и частоту появления отдельных элементов, порядок их связи. На специальных таблицах воспроизводились кривые, прямые, соединения кривых и прямых (простейшие «узлы форм»), детали и фрагменты. Результат исследования -определение структурного модуля, или «прибавочного элемента» системы, который представал как начертательная (графическая) «формула или значок, указывающий на весь состав и порядок строения живописного отношения элементов»59 (волокнистая кривая Сезанна, кубистическая кривая серповидного типа, супрематическая прямоугольная плоскость). Они, эти значки, - считал Малевич, - «характеризуют каждая какую-нибудь одну систему так же ясно и понятно, как формула Н20»60. Визуально «формулы» очень напоминали микробов, увиденных в окуляр микроскопа. В дальнейшем анализе «прибавочный элемент» служил своего рода измерительным инструментом, помогающим установить «нормальный тип»61 каждой системы, проследить ее фазы и стадии, обнаружить случаи «отклоняющегося поведения» и понять их причины. Не все «прибавочные
57 Иг отчета о деятельности Формально-теоретического отдела МХК за первую половину 1924 г. - ЦГАЛИ СПб.,ф. 244.0П.1, д.56,л. И об.
58 Протокол заседания Научного Совета (11 ноября 1924 г.). - Гам же, Д.32, л. 10.
55 Из «Примечания» к Плану работы Отдела живописной культуры на 1926/1927 годы. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1,д.69, л.21.
60 Протокол межотдельского собрания 16 июня 1926 года//ДИ СССР, 1988, Jfell. С.38.
61 Определение из гинхуковских документов. элементы» могли быть выражены такими графемами. Иногда приходилось пользоваться иным ключом - характерным свойством, постоянным признаком, общим моментом («свет» - для импрессионизма, «движение» -для футуризма). Естественно, пластические системы изучали в ГИНХУке не только со стороны формы, но и со стороны собственно живописи («свет, цвет, живопись, тон»)62. Было введено «понятие окрашенных полей -световых - цветовых - живописных», изучались «свойства их и различия их структур»63. Живописную поверхность рассматривали пристально, словно под микроскопом, и воспринимали как некую биологическую субстанцию -живую ткань. «Прибавочный элемент» был также и цветовым модулем, который, как и формовой, выводился экспериментально - путем обследования значительного количества холстов репрезентативных для той или иной системы авторов и составления соответствующих «цветовых спектров». Результаты, полученные в процессе аналитических операций, поддерживались и дополнялись «практической живописной работой» («Задача практических работ - уяснение на живом опыте живописного подхода к природе той или другой системы, также создание образцов чистой системы»)64.
Рассмотрение колористической проблематики привело Малевича и его сотрудников к разграничению собственно живописного (цвета «втягиваются» один в другой, образуя единую «живописную ткань», а каждая «цветовая единица сама в себе уже есть как бы смесь всех существующих в холсте» 65 красок) и цветового, цветографического (изолированные, самостоятельные локальные цветовые единицы, ничем не объединенные извне) восприятия и делению художников на живописцев и цветописцев. Установленный таким образом критерий живописного восприятия (живописности) позволил говорить о том, что «живопись как таковая имеет свою орбиту»66, что ее «конечность» может быть установлена экспериментально. Живопись умирает где-то на границе второй и третьей стадии кубизма, так как здесь исчезают «красочные тканевидные образования».67
Формой как таковой», внутренними механизмами ее эволюции интересы отдела не ограничивались. Здесь изучали также «среду и обстоятельства», в которых возникли и развивались живописные системы, которые оказывали влияние на сознание и «зрение» художника, направляя их
62 Графическая схема построения Формально-теоретического отдела. - ЦГА СПб. ф.255 5, on. 1, д.805, л.97.
65 ЦГА СПб, ф.255 5, on. 1, д. 805, л.61.
64 Отчет о деятельности Отдела живописной культуры за второе полугодие 1924/25 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1,д.48, л.9 об.
65 Рождественский К. Цвет в живописной системе Сезанна. Рукопись (1925). - Частный архив, Москва.
66 Из письма В.Ермолаевой М.Ларионову. 17 июля 1926 г. Цит.по: Авангард, остановленный на бегу. Л., 1989.
67 Отчет о деятельности Отдела живописной культуры за 1925/26 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.69, л.9. в определенное русло. «Среда и обстоятельства» - это, прежде всего, сфера визуальности и материальности: природное и предметное окружение, жизненная обстановка («влияние климата, географических и этнографических условий, строение местности и ее колорит»68). В ГИНХУКе подбирали и систематизировали материал, «показывающий, какие элементы в природе, технике, искусстве и т.д., воздействуют на живописца и заставляют его видоизменять свое живописное миропонимание». Учитывалась и обратная зависимость: сотрудники выясняли, «какие элементы в природе начинает видеть живописец, находящийся под влиянием того или иного прибавочного элемента»69. План научно-показательной развески МХК предполагал, например, контрастное сопоставление «среды и обстоятельств» импрессионизма и футуризма (в фотографиях). Для кубизма в ГИНХУКе собирались устроить даже специальную комнату, «где бы зритель мог реально в натуре увидеть предметы, формы, окраски, входящие в кубистическую живопись и связать натуру с кубистической реальностью»70. В программу входила также разработка «графика цветовой энергии». В нем в виде карты суммировались данные об исторических и географических условиях «формы и окраски вещей, производства и быта как среды, в которых развивалось искусство».71
Свои исследования художники закрепляли в наглядной форме - в виде образцов отдельных линейных элементов и их соединений («узлов форм»), фактурных и цветовых фрагментов, аналитических копий, «показательных живописных холстов», сводных таблиц, графиков, схем, спектров - и представляли на специальных научных выставках.
Вторым крупным и репрезентативным для профиля ГИНХУКа подразделением был руководимый М. Матюшиным Отдел Органической культуры (ООК). Концепция «искусства как науки» нашла в его деятельности не менее яркое, хотя и несколько иное воплощение. Отдел Органической культуры занимался психофизиологией зрительного восприятия, его зависимостью от условий и режима самого процесса восприятия. Если в центре внимания ФТО-ОЖК были объективный результат восприятия - форма как способ существования произведения искусства, как материализованная «запись» живописного поведения мастера, то ООК сосредоточивался на человеке, художнике - субъекте восприятия. Именно «всестороннее развитие воспринимающих способностей человека»72 Матюшин называл органической культурой, а смысл своего отдела видел в том, чтобы стимулировать этот процесс, соответствующим образом
68 ЦГА СПб, д.647,л.304.
09 Отчет о деятельности Отдела живописной культуры за второе полугодие 1924/25 г. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.48, л.9об,
70 Таи же, л.9.
71 Отчет Формально-теоретического отдела за первый квартал 1924/1925 г, - Там же, д.31,я.18.
11 Матюшин М. Творческий путь художника. - Частный архив, СПб. воспитывая как художника, так и зрителя. Жизнетворческие устремления, свойственные русскому авангарду, были здесь предельно конкретизированы, приведены к буквальности, очевидности. Речь шла о непосредственном воздействии на человеческую природу, о попытке изменении «самой человеческой физиологии».73 Задачу органической культуры Матюшин и его сотрудники определяли как «развитие целого организма: 1)усиленным упражнением всей воспринимающей системы органов: осязания, слуха, зрения, 2) мощным разворотом центрального органа - мозга в постоянных упражнениях одновременно всех органов восприятия».74 Отдел органической культуры, - отмечалось в программных документах, - «изучает восприятие живописных элементов человеческим организмом. Основными вопросами здесь являются, с одной стороны, изменяемость цвета и формы в зависимости от изменений условий зрительного восприятия не только во времени, но и в пространстве (расширение угла зрения), а с другой - участие в процессе зрительного восприятия не только глазного аппарата, но и всей нервно-мозговой системы человека»75. Последний пункт подразумевал исследование физиологии так называемого «дополнительного (или непрямого) смотрения», т.е. выходящего за границы собственно зрения как такового. Для его тренировки Матюшин предлагал своим ученикам ряд конкретных заданий (слежение за встречным прохожим после его исчезновения из поля зрения, характеристика предмета, приближенного к затылочной части, без участия глаз, определение местоположения находящегося за спиной наблюдателя источника света и т.п.).
Главным в теории Матюшина был принцип расширенного смотрения, то есть такой установки глаза, при которой работает не только направленно-избирательное, но и периферическое зрение. Расширенное смотрение - это максимальное увеличение объема одновременного зрительного восприятия, возможность для смотрящего видеть не только перед собой, но и вокруг себя, сосредоточение не только на предмете, но и на окружении, опыт движущегося глаза.
Современный художник для Матюшина - «научно подготовленный художник», свободный от «ошибки неосознанного и неорганизованного», тот, кто овладел новым методом наблюдения над природой, кто разбирается «в самом естестве действий своего зрения»76: знает, что цветность и четкость формы гаснут при настойчивом наблюдении, знает, как изменяются цвета и формы при расширенном смотрении, как воздействуют на зрение осязание и слух, как образуется дополнительная форма.
73Пунин Н. Государственная выставка//Жизнь искусства, 1923, №21.С.5.
74 Краткий очерк истории Музея и Института Художественной культуры (1925) - ЦГАЛИ СПБ., ф.244, оп.1, д.51, л.99.
75 Справка об МЖ-ГИНХУКе для сборника Главнауки(1925). - РГАЛИ, ф.645, оп.1, д.221, л.127.
76 Матюшин М. Объяснительная записка к плану ООК на 1926/27 гт. - ЦГАЛИ СПб, ф.244, on. 1, д.69, л.25.
Основы своей теории и практики Матюшин изложил в статье для предполагавшегося к изданию сборника научных трудов ГИНХУКа «Опыт художника новой меры», а также в подготовленном вместе с учениками «Справочнике по цвету» (Л., 1932). В архиве сохранилась также пространная объяснительная записка к плану ООК на 1926-1927 год под знаменательным названием - «Какая связь исследования в искусстве с самим искусством».
Типологически опыты Матюшина и его учеников были, как кажется, ближе к «нормальным» научным экспериментам. Не случайно проницательный Пунин еще на ранней стадии отнесся к ним иначе, чем к экспозиции аналитических штудий школы Малевича, одновременно показанных на «Выставке петроградских художников всех направлений» в 1923 году: «Даже если бы оказалось возможным наделить зрением затылок, нельзя художнику, поскольку он не физиолог, а художник, ставить себе эту задачу так, как ее ставит Матюшин и его группа. Не живопись должна изменяться от «физиологической перемены», добытой усилием или, вернее, насилием над человеческой способностью, а эти способности могут развиваться благодаря живописи, причем вопрос о том, в какой мере они, способности, изменятся (на 360 или на 359 - зрение), должен быть совершенно открытым. Живопись никогда не знала и не знает сейчас никаких границ для зрения - введение канона в 360 есть чистейший рационализм, гибельный, как всегда, для искусства. Вот почему, обращаясь к живописным работам Матюшина и его школы, мы сталкиваемся с целым рядом чисто лабораторных, экспериментальных форм, о которых ничего не можем сказать как о формах искусства».77
Развернутой в ГИНХУКе деятельности Малевич придавал очень большое значение. Именно здесь он видел перспективу развития нового искусства. Научные выставки - выставки «лаборатории, где производят всевозможные анализы над явлениями искусства в связи с психологическими изменениями художественного восприятия живописца» - должны были, по его мнению, заменить собой такое «примитивное явление, каким обычно бывают выставки художников»78. «Мне кажется, - писал он в Главнауку, -что волна наших живописных и художественно - промышленных выставок на западе окончена, все произведения в этой области показаны -представлены Мастера Р.С.Ф.С.Р. и их достижения. Теперь нужно готовиться к новой волне, к новым выставкам, которые показали бы и другую работу в той же художественной области, а именно/./ художественную, исследовательскую и научную работу. Показать то, что еще в области эстетики не осуществлено на Западе и чем сейчас там очень интересуются. Очень важно, чтобы мы первые установили научно
77 Пунин Н. Государственная выставка. С.5
78 Письмо немецкой фирме Kestner-Gesellschaft. - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.30. художественную проблему, ибо это укажет на ход нашего развития././ Институт Художественной Культуры уже настолько начинает осязать свою крепость и силу в поставленной им задаче над анализом живописной, органической и материальной культуры, что может показать свою работу западу и впервые обратить его внимание на многие вопросы в Художественной Науке»79.
Однако «художественная наука» вскоре оказалась не нужна. Занимавшихся ею «левых чудаков искусства» надолго оттеснили «правые не чудаки».80 Газета «Ленинградская правда» назвала деятельность ГИНХУКа художественным рукоблудием и контрреволюционной пропагандой81. В декабре 1926 года Государственный институт художественной культуры перестал существовать как самостоятельное учреждение.
3. Личность и школа. Аспекты творческих и психологических взаимоотношений (Казимир Малевич и ученики. Павел Филонов и фгшоновцы).
Ряд предлагаемых к защите сочинений можно объединить общей темой: «русский авангард: личность и школа» (4, 5,24, 26, 28, 31-35,41, 42 45, 50) В одних текстах эта тема выступает как специальная исследовательская задача, другие дают материал для ее постановки. Автор уделяет внимание педагогическим концепциям и практикам, рассматривает основные коллективные акции, прослеживает отдельные «ученические судьбы», выходящие за рамки индивидуального опыта и интересные с точки зрения взаимоотношений учителем.
Отмеченная коллизия закономерно вошла в круг исследовательских интересов автора. И потому, что судьба и творчество ряда ведущих фигур авангарда просто не могут быть поняты вне этой проблематики. И потому, что феномен «школы» как модели групповых взаимоотношений, как способа самоидентификации оказался чрезвычайно существенным для художественной жизни Питера. В отличие от Москвы, здесь было мало собственно «левых» группировок - свободных сообществ равноправных членов, выдвигающих лидера из своей среды. Художественная жизнь структурировалась по иному - иерархическому - принципу: «школа», то есть объединение учеников вокруг учителя, наличие не просто лидера, но наставника. Период 1920-х - начала 1930-х годов вообще отмечен особой педагогической активностью многих деятелей авангарда. По мнению автора, это еще один симптом той «ситуации итогов» (педагогика - закрепление и распространение имеющегося опыта), о которой уже не раз говорилось и в
79 Заявка на заграничные командировки (1925). - ЦГАЛИ СПб., on. 1, д.53, л.207 об.
80 Определения из докладной записки К. Малевича заведующему ленинградским управлением научных и научно-художественных учреждений (1925). - ЦГАЛИ СПб., ф.244, оп.1, д.56, л.52.
81 Серый Г. Монастырь на госснабжении // Ленинградская правда, 1926,10 июня. самих реферируемых работах, и на этих страницах. Более того, педагогика есть не что иное, как способ представления уже созданного собственного творческого метода, предъявления и развертывания сложившейся художественной системы и потому закономерно продолжает ряд обозначенных ранее («музей», «наука») репрезентационных стратегий. Особенно показательно, что именно потребности педагогической деятельности приводят к созданию специфических «концептуальных» артефактов: таков, к примеру, был один из стимулов появления «позднего импрессионизма» у К.Малевича.
Вполне естественно, что публикации, относящиеся к разному времени, не претендуют на сколько-нибудь систематическое и завершенное описание связанных с этой темой событий, проблем и процессов. Перед нами пунктирное повествование, собранное из отдельных и неравнозначных эпизодов, лишь ориентированных на главный сюжет. Отмеченная оппозиция весьма мало интересовала автора со стороны «чистого» стилеобразования. Прежде всего, он был сосредоточен на психологии личностных и творческих взаимоотношений учителя и учеников, на формах и способах группового поведения, на самой «драме ученичества», отметившей многие индивидуальные судьбы и отразившей специфику социально-художественной эволюции. Наиболее ярко и отчетливо все эти коллизии проявились в школах Малевича и Филонова, поэтому им и оказался посвященным основной корпус статей. В более смягченном варианте они существовали в круге Матюшина, который охарактеризован автором пока лишь в самых общих чертах.
Казимир Малевич был создателем не только идей, форм, картин или текстов, но и художников. Не случайно один из них, узнав о смертельной болезни Малевича, написал: «Мы теряем нечто большее, чем отец»82. Отношения учителя и учеников явно выходили за пределы обычной педагогической ситуации, конкретных чисто учебных контактов и превратились в подлинно экзистенциальную тему, равно значимую для учившего и учившихся.
Чувствовавший себя мессией, возвестившим «завет супрематический», Малевич строил отношения с учениками как отношения Христа с апостолами. Евангельские аллюзии явственны в письмах, в беседах с практикантами Государственного института художественной культуры.
Успех жизненного дела Малевича был немыслим без учеников, без школы. Во-первых, из-за объективно существовавших потребности и необходимости в «коллективном развитии супрематической формы»8"'.
82 Н.Суетин - АЛепорской (1934). - Частный архив, СПб.
83 К.Малевич. Живопись в проблеме архитектуры // Казимир Малевич. Собр.соч. в пяти томах. М., 1998, Т.2.С.134.
Иначе супрематизм просто не мог быть супрематизмом. Иначе он оставался субъективным фактом, в то время как хотел и должен был быть универсальной художественной системой, «абсолютным творчеством». Во-вторых, из-за психологических особенностей личности. Лишь таким образом Малевич мог удовлетворить свои лидерские амбиции, обеспечив себе соответствующий статус в авангардном движении.
И как только обрисовалась форма новой инициативы, она будит других к ее умножению или развитию по радиусу основы, так образуется коллектив вокруг основы инициатора главной магистрали. Каждая индивидуальность коллектива сохраняет личное»84, - летом 1918 года Малевич словно предсказывает свой будущий витебско-петроградский эксперимент, объясняет закономерность и неизбежность появления партии Утвердителей нового искусства (УНОВИС) и Государственного института художественной культуры (ГИНХУК). Сформулированное «правило» опиралось на имевшийся опыт, который, по-видимому, не совсем устраивал Малевича. В 1916-1918 годах «по радиусу основы» уже «образовался ряд индивидуумов»85, составивших общество «Супремус» (И.Пуни, К.Богуславская, И.Клюн, О.Розанова, Л.Попова, Н.Удальцова, М.Меньков и др.). Сложившиеся мастера, прошедшие собственный путь развития, уже чреватый беспредметностью, они слишком активно «сохраняли личное» и могли быть только сторонниками. Малевичу требовалась иная модель взаимоотношений, нужны были адепты. Приглашение преподавать в Витебской художественной школе давало ему уникальный шанс. Нового человека для своей «супрематической вселенной» Малевич мог творить не на полотне, а в реальности. Супрематизм воспринимался не только как пластическая концепция или творческое мировоззрение, но как облик действительности и образ жизни.
В ГИНХУКе градус учительского пафоса Малевича несколько снижается. Сужается и сфера воздействия на личность. В большей, чем раньше степени он сосредоточивается на профессиональных проблемах, создавая вместо «нового человека» - «новый кадр ученых художников»86.
Практиковавшийся здесь «бактериологический анализ» живописи, открывал, по мнению Малевича, дорогу для «нового объективного подхода к преподаванию в искусстве», независимого от «рамок индивидуального толкования отграниченных мастеров-преподавателей»87.
84 Малевич К. Выставка Профессионального союза художников-живописцев. Левая федерация (молодая фракция). - Таи же. М., 1995, T.l. С.121.
85 Малевич К. Выставка Профессионального союза художников-живописцев.
Формулировка К. Малевича (Отзыв о работе аспирантов К. Рождественского, А.Лепорской, Р Лоземского). - ЦГАЛИ СПб., ф.244, on. 1, д.51, л.Шоб.
87 Формулировки взята из планово-отчетных документов ГИНХУКа. - См.: ЦГА СПб, ф.2555, оп.1, д., 647, л.282, 185.
В основе педагогической концепции - последовательное проведение учеников через пять изучаемых в Институте систем, чтобы, как объяснял им Малевич, «нарастилась на вас определенная культура живописных ощущений», чтобы развились «свои способности к творчеству». «Выход в другие начала» может быть осуществлен лишь «путем досконального изучения» каждой системы - «во всех колебаниях и индивидуальных отклонениях разных художников». Это «определенная гимнастика, но проведенная правильным методом»88.
В ГИНХУКе Малевич разработал своеобразную и очень последовательную педагогическую «технику», основанную не на субъективных контактах, а на наборе максимально формализованных процедур. Используя теорию прибавочного элемента, Малевич и его помощники «измеряли» индивидуальные склонности учащегося, определяли особенности его «живописного поведения», развивали их, очищая от воздействия элементов иных систем. Ученика брали под непрерывное наблюдение, при необходимости «изолировали» от других студентов и от чуждых живописных явлений, чтобы «в продолжение целой учебы к нему не примешивались /./ прибавочные элементы из другой группы»89. Регулярно проводились «опросы» и осмотры произведений, устраивались также специальные испытания - тесты - физиологические, по цвету и цветоассоциации. На основании обработанных результатов ставился «диагноз» и назначалось «лечение» направленное на устранение состояний эклектизма и «развитие чистых ощущений инд/ивида/ до 100 %»90. Важнейшим способом и «диагностики», и «лечения» были так называемые «рецептурные натюрморты», построенные на включении в постановку, организованную по законам одной системы, прибавочного элемента из другой (к примеру, в сезанновский натюрморт вводилась серповидная кубистическая кривая).
Для описания педагогических действий, так же, как и исследовательских, Малевич применял медицинскую терминологию («доза», «рецепт», «клиника», «хирургия», «живописно-амбулаторный прием»). Ее, конечно, не следует понимать совсем уж буквально. В немалой мере это не лишенный своеобразной иронии языковой х:од, «объяснительная метафора». Однако сам выбор аналогии весьма и весьма символичен. Малевич уподобляет свои отношения с учениками отношениям врача с больными. Врач, по определению, имеет над пациентом известную власть, его рекомендации требуют обязательного исполнения, полноценный контакт -абсолютного доверия. Сама медицинская фразеология подчеркивает
88 Из записей бесед К. Малевича с учениками. - Частный архив, СПб.
89 Протокол межотдельского собрания ГИНХУКа. (1926) // ДИ СССР, 1988, № И. С.38
90 Из текста, помещенного на таблице №17. См.: Казимир Малевич. 1878-1935. Каталог выставки. Ленинград - Москва - Амстердам. 1988-1989. С.269. пассивный статус ученика - объекта воздействия. Авторитарность, присущая Малевичу как личности, проявлена здесь весьма и весьма заметно.
В отличие от УНОВИСа в ГИНХУКе иерархия взаимоотношений, сохраняясь, теряет былую жесткость. Ученики постепенно превращаются в соратников. Однако процесс самоопределения идет весьма болезненно. Временами казалось, что угроза для индивидуального развития таится уже в самой научной гинхуковской методике, абсолютизирующей фактор «знания чужой формы». «Ведь все равно я не открываю, другими открыто, изучено, расставлено по полочкам, бери винтики и складывай»91, - за этим горьким признанием ЛЮдина стоит не только индивидуальный опыт, самооценка, усиленная складом личности - тревожной, склонной к сомнениям. Здесь обозначены сложности и противоречия процесса самоопределения младшего поколения представителей русского авангарда - «поколения последователей», которые «пришли к столу, когда обед съеден».92 Обретение самостоятельности затруднял в первую очередь «фактор Малевича». Воздействие его личности и творчества из стимула, каким оно было в Витебске - в возрасте ученичества, - теперь стало ощущаться едва ли не как серьезное препятствие - слишком легко «впасть в подражание, ведь силища-то известно какая».93 Кроме этого объективного обстоятельства, явным было и психологическое давление, ощущавшееся даже самыми преданными и близкими. Роль «главнокомандующего» уже не встречала прежнего понимания. Сомневались, спорили, бунтовали, сворачивали в сторону, снова возвращались. Так или иначе, но именно диалог с учителем, вне зависимости от того, доходил ли он до открытого противостояния или, напротив, завершался полным согласием, - являлся для учеников фокусом самопознания, способом строительства собственного «я», поводом постоянной рефлексии. Одни, как Суетин и Чашник, продолжали развиваться в русле «главной магистрали» - супрематизма, представляя внутри сообщества учеников «интересы Малевича», поскольку те полностью совпадали с их собственными. Другие, как Ермолаева, Юдин, Рождественский, Лепорская, Стерлигов искали «свое» на путях выхода из беспредметности, дорожили теми пластическими решениями, где сохранялась возможность наблюдения за природой. Этот выбор и тогда, и позднее явно воспринимался как «инакомыслие». И «большой линией» 94(олицетворявшейся в первую очередь Малевичем и Суетиным), и - главное - самим искателями другой истины, а потому давался особенно нелегко. В переписке, дневниках 1930-х годов не раз возникал «мотив измены» Дневник Л.Юдииа. Запись 1924 г. (6/д). - OP ГРМ, ф.205, д.4, л.27.
92 Используй слова Ю.Тыняяова о своих учениках. См.: Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л. 1987. С. 167.
43 Дневник Л .Юдина. Запись 25 апреля 1929 г. - OP ГРМ, 4205, д.6, л. 11
94 Выражение Л.Юдина. учителю и принципам. Коллизия эта сильнее всего мучила Л.Юдина, но существовала не только для него одного.
Практически все основные ученики Малевича состоялись как самостоятельные творческие личности, но на путях, лежавших в стороне от «главной магистрали», от «искусства как такового». Когда-то в Витебске они мечтали «править вселенной», освободив мировое пространство от заваливших его «толстой корой беспорядочности» хаоса и грязи95. Жизнь оставила им роль наблюдателей, позволив реализоваться лишь в «малых формах» и прикладных сферах творчества, где - в небольших дозах -допускалось «эмансипированное» формотворчество, оправданное требованиями профессиональной культуры и конечным утилитарным назначением. Именно эти области деятельности обеспечивали необходимый социальный статус, равно как и средства к существованию.
Художественная практика XX столетия подтвердила, что облик нового мира отмечен «знаком супрематизма»96. Однако дальнейшее движение в этом направлении совершалось без участия прямых наследников Малевича. Их инициатива была скована временем.
Дневники Л.Юдина сохранили горькое пророчество смертельно больного Казимира Малевича: «Я смотрю далеко вперед; может быть, когда вы будете стариками, я буду понят. Но вы все будете перекрещены» («Его слово» - удостоверил Юдин в скобках и пояснил, чуть снижая интонацию: «Зачеркнуты этими идеями»).97
Сбылось ли оно? Было ли справедливым? Трудный вопрос, на который нет однозначного ответа. Да, если иметь в виду тектонические процессы, проходящие в толще искусства, как в толще земной коры. Нет, если принять во внимание исторические и психологические условия конкретного существования. Действительно, многие ученики пошли другим путем, предпочтя «большому» «малое», не выдержав в дальнейшей жизни той «непосильной чистоты» (определение Л.Юдина), к которой призывал пример Малевича. Действительно, никто из них не достиг уровня учителя, не выдвинул сопоставимых идей, все, так или иначе, варьировали его пластические концепции - от супрематизма до поздней метафизической фигуративности. Однако если они и были «перекрещены», то не по собственной воле. «Драма ученичества», столь беспощадно обозначенная Малевичем была драмой поколения, скорее его «бедой», чем «виной» и имела не только творческие, но - в первую очередь - идеологические и социально-психологические корни.
55 Формулировки из документов УНОВИСА. - Частный архив. СПб.
96 г^
Там же.
97 Запись 14 сентября 1934 г. - ОР ГРМ, ф. 205, д.8, л. 2 об. за
Феномен школы Филонова демонстрирует, пожалуй, еще более жесткую модель взаимоотношений учителя и учеников. Зависимость от системы и лидера, которую испытывала здесь личность, была едва ли не сильнее, в первую очередь потому, что сама система («аналитическое искусство») являлась скорее персональным мировоззрением, нежели универсальным творческим методом, базовым - объективным - языком нового формообразования. С другой стороны, индивидуальную свободу ограничивали строгие требования определенной групповой дисциплины, как идеологической, так и организационной. К примеру, ни один член объединения не имел права входить в другие художественные объединения, обязан был соблюдать устав и принимать «идеологию аналитического искусства». Принцип коллективного авторства нивелировал степень личного участия. Работы не подписывались, а на выставках филоновцы выступали единой группой, возникавшие конфликты решались способом «один за всех и все за одного». Значение личности снималось самой филоновской установкой: каждый, даже начинающий, объявлялся мастером, индивидуальные склонности или талант не имели значения ( «Волею и упорством человек достигает всего /./ из всякого он сделает такого же мастера, как он сам»98). Не случайно, Филонов мог помогать ученикам, работая непосредственно на их холстах, мог передать произведение от несправившегося ученика другому, более сосредоточенному и успешному. Степень зависимости от творчества учителя была здесь гораздо более очевидной, чем в школе Малевича, в особенности потому, что «область усвоения» распространялась далеко за пределы формообразования или общих мировоззренческих принципов, захватывая зону личной ответственности - персональную филоновскую иконографию. Это обстоятельство не осталось незамеченным в тогдашней художественной жизни: «граммофонными пластинками» называли филоновцев члены общества «Круг художников». «Все эти мастера моей работы» - в реплике Филонова, относящейся к периоду оформления Дома печати, как и во всякой шутке, была немалая доля правды".
Вполне естественно, что такой тип взаимоотношений порождал противоречия и конфликты - внешние и внутренние, многократно усиливавшиеся тем «осадным» положением, на котором существовали в городе и сам Филонов, и его школа. В коллективе начинается борьба личных амбиций, возникают сомнения в универсальности аналитического метода, нарастает психологическая усталость от заданного Филоновым творческого напряжения. Все это, в конце концов, привело к организационному распаду объединения в 1930 году. Из МАИ вышли многие его члены - одни честно -по принципиальным творческим соображениям, другие, совершив прямое
98 Дневник Е. Серебряковой. Запись ноября 1924 г. -ОРГРМ, ф.156, д. 35, л.2.
99 Дневник Е.А.Серебряковой. Запись 12 января 1927 г. - Там же, д.37, л.9. предательство, третьи - по чисто житейским, семейным обстоятельствам. Вокруг Филонова образовался другой коллектив из оставшихся и вновь пришедших учеников. Официально общество существовало до весны 1932 года, но занятия в мастерской Филонова продолжались до самой его смерти в блокадном Ленинграде зимой 1941 года.
Кульминационным моментом в истории «школы Филонова» был уникальный проект для Ленинградского Дома печати (осень 1926 - весна 1927 гг.). Именно тогда создавались лучшие - репрезентативные для школы -произведения, именно в этой работе в полной мере реализовался филоновский педагогический метод, а коллектив его учеников был зарегистрирован как художественное общество (МАИ - «Мастера аналитического искусства»). Под общим руководством и при непосредственном участии Филонова «мастерами» ( в афише фамилии 31 участника) были исполнены свыше 20 картин и одна скульптура, представлявшие собой целостный художественный ансамбль «специально приспособленный к стенам и простенкам огромного колонного зала б. особняка Шуваловых».100 Помимо украшения зала и фойе филоновцы осуществили сценическое оформление (декорации и костюмы) спектакля «Ревизор», поставленного в театре Дома печати режиссером И.Терентьевым.
На этих событиях диссертант и сосредоточил свое внимание, стремясь дополнить существующую исследовательскую литературу новыми фактами, почерпнутыми из впервые вводимых в научный оборот архивных документов, и сделанными на их основе наблюдениями. К разряду «фактов» должна быть отнесена обширная комментированная публикация фрагментов из дневника Е.А.Серебряковой, жены художника, «протоколирующих» процесс работы коллектива в Доме печати (50). Важность источника многократно усиливается тем, что известные нам собственные дневники Филонова относятся к более позднему времени (первая запись сделана 30 мая 1930 года).
Статья «Театральный опыт школы Филонова» проходит по разряду «наблюдений»(26). Факты здесь подвергаются анализу и соотносятся с изобразительным материалом. Не случайно именно оформлению «Ревизора» автор уделил особое внимание. Костюмы и декорации - доведенное едва ли не до возможного предела воплощение «аналитического метода», наглядная модель самого процесса формо- и смыслообразования. Тем не менее, этот сюжет никогда не рассматривался в филоновской историографии специально, существующие же театроведческие исследования связаны с творческой биографией И.Терентьева и обращены в основном к режиссерской истории гоголевского спектакля.
100 В.Воинов. Выставка «филоновцев» в Доме печати // Красная панорама, 1927, N24. С. 14.
Диссертант описывает обстоятельства и характер «соавторства» Терентьева и Филонова, обозначает возможные мотивы отказа режиссера от дальнейшего сотрудничества с художником, представляет мастеров, занимавшихся костюмами и декорациями, и подробно анализирует сценическое оформление постановки, используя свидетельства Е.А.Серебряковой, восстанавливает процесс работы.
Автор констатирует: у Филонова и филоновцев была в этом спектакле самостоятельная партия, что заметно уже в особой завершенности и некой самодостаточности эскизного комплекса, качествах, без сомнения, связанных с установкой «на сделанность», но все-таки ею не исчерпывающихся. Каждый костюмный эскиз представляет собой законченное произведение и как бы уже не нуждается ни в осуществлении, ни в актере. Проект сценического одеяния превращается полноценный образ. Лицо и одежда составляют единое целое, и эскиз напоминает собой скорее изображение куклы-марионетки, нежели проект костюма. Подчеркнута и всемерно ритмизирована жестикуляция. Подобная трактовка, в общих чертах согласуясь с эксцентричным терентьевским замыслом, все же приобретает самодовлеющий характер. Художники словно побуждают вырезать фигуры или изготовить кукол, поставить декорации и играть собственный спектакль. Задача, стоявшая перед молодыми мастерами, была очень сложной. Огромный объем - большое количество персонажей, особая трудоемкость аналитического метода, требовавшего медленной, сосредоточенной, кропотливой работы. Чрезвычайно сжатые сроки - весь цикл от эскизов до спектакля занял всего три-четыре месяца. Художник и его ученики, особенно по мере приближения решающего дня, сутками не покидали Дома печати. Тем больнее ранила реакция критики. Рецензии на спектакль были в основном ругательными. Но если у постановки все же имелись защитники и даже в отрицательных отзывах присутствовали отдельные положительные характеристики, то работа филоновцев вызвала настоящий скандал. Многие считали, что именно оформление способствовало провалу спектакля.
Жизнь «Ревизора» в филоновском облике была очень недолгой. В репертуарном плане он существовал всего месяц. В феврале следующего года спектакль был возобновлен, но с другими, более традиционными, костюмами и декорациями, исполненными Эдуардом Криммером. От сотрудничества с филоновцами Терентьев отказался. Возможно, он не очень был доволен и процессом, и результатом (подтверждения этому есть в материалах следственного дела: «С Филоновым я не поладил»)101. Ему могла показаться чрезмерной отмеченная выше действенность и активность сценографии. Не исключено также, что решение Терентьева было вынужденной уступкой обстоятельствам: он просто пытался спасти
101 См.: Никигаев С. Казимир Малевич в следственном деле Игоря Терентьева // Супремус, 1991, N1. спектакль, ведь основной мишенью критики, поставившей терентьевское дело, по сути, на грань запрета, служили костюмы и декорации филоновцев.
Как бы то ни было, но коллективная театральная партия, начатая школой Филонова, волею судеб завершилась в дебюте. Кажется, кроме внешних обстоятельств, была здесь и своя внутренняя логика. Этот опыт, поразительный, уникальный, единственный в своем роде, просто не мог иметь продолжения. Его нельзя было повторить без потерь. Ему некуда было развиваться.
Автор впервые рассказал, основываясь на документах, еще об одной -«неучтенной» - коллективной акции МАИ: закончившемся конфликтом участии филоновцев в общегородской выставке к 10-летнему юбилею Октября (ноябрь 1927 года). Вокруг этой истории сложился корпус многочисленных и разнообразных источников: официальные материалы Комитета по организации выставки (от отчетов и протоколов заседаний до рапорта с места событий), газетные и журнальные статьи, дневниковые свидетельства заинтересованных очевидцев и сторонних свидетелей (4). Обнаруженные документы позволили в подробностях восстановить инцидент (с выставки, на которую были целостным комплексом приняты все картины из Дома печати, сняли портрет В.И.Ленина работы Яна Лукстыня). Инцидент этот дает ценный материал для размышлений о месте «МАИ» в художественной жизни Ленинграда, о способах и накале межгрупповой борьбы, об особенностях «коллективных действий» объединения. Собственно, настоящей акцией «школы» было здесь не столько участие в выставке, сколько реакция на конфликт и избранная форма протеста. Филоновцы сначала решают убрать с выставки остальные вещи, а потом, осознав, что простое «исчезновение» из экспозиции будет только на руку противникам, идут на откровенную публичную демонстрацию. Они снимают картины со своих мест и поворачивают их лицом к стене, на которой вывешивают плакат, объясняющий суть происходящего. Установив дежурство, художники силой пресекали действия администрации, стремившейся погасить конфликт и восстановить порядок. На вызов филоновцев руководство ответило временным закрытием выставки. Когда же экспозиция возобновила работу, то дверь, ведущая в залы, где стояли картины филоновцев, оказалась закрытой, получив обозначение «запасной выход». Филоновцы продолжали борьбу, которая, по всей видимости, успехом не увенчалась. Есть основания полагать, что этот эпизод отложился в сознании Филонова не только как позитивный опыт борьбы за правое дело. Он заставил задуматься об оправданности любых максималистских действий. Во всяком случае, опасаясь исключения из экспозиции юбилейной выставки «Художники РСФСР за 15 лет» «плаката-лубка Ленин», Филонов сомневается в целесообразности подобного протеста (снять все вещи) и допускает возможность «примирения»: чтобы «не сыграть на руку тем, кто желает, чтобы ни одной моей вещи не было на выставке»102.
В рамках филоновского сюжета автор также рассматривает индивидуальный вариант решения проблемы «личность и школа». В центре внимания - путь Николая Евграфова, художника, которому удалось найти выход из «поколения последователей»(24). Его творчество имеет самостоятельное значение и не исчерпывается фактом принадлежности к филоновской школе. Более того, без учета художественного опыта этого мастера представление о путях развития и проблематике абстрактного искусства в России будет не полным.
Осенью 1926 года Евграфов пришел к Филонову и включился в работу по оформлению спектакля И.Терентьева «Ревизор». Впоследствии стал активным членом МАИ (исполнял должность секретаря) и упорно работал в плане «аналитического метода». Сохранившиеся картины и рисунки тех лет свидетельствуют о полном соответствии «филоновской школе», о глубоком усвоении основных ее тем, образов и приемов. Тем не менее, в начале 1930-х годов этот, один из самых серьезных и последовательных учеников Филонова, разошелся с мастером, как тогда говорили, «по идейным соображениям». Во второй половине 1930-х годов Евграфов работает много и разнопланово, как бы испытывая себя в разных живописных обстоятельствах. Он пишет монументальные портреты, «романтизированные» многофигурные композиции с развитыми -«сочиненными» - сюжетами, лирические и характерные бытовые сцены. Он прикасается ко многим традициям (фовизм, ранняя ларионовская живопись, неопримитивизм, живописно-пластический реализм ленинградской школы.), использует разные живописные техники. Кажется, что создаваемые им произведения не могут быть работами одного и того же художника. Однако есть нечто общее, объединяющее все эти разнохарактерные опыты, а именно - их абсолютная, даже демонстративная, противоположность «аналитическому методу» Филонова. Создается впечатление, что основным творческим импульсом новой живописи Евграфова было стремление не столько найти свое, сколько сделать другое и, тем самым, освободиться от дисциплинирующей власти авторитета и школы.
В конце 1930-х годов творческие усилия Евграфова сосредоточиваются на цикле картин под общим названием «Карнавал». Результатом этой работы стал выход в сферу чистой живописной абстракции - спонтанной, свободной, «жестовой» - совершенно отличной не только от решений, существовавших в рамках «аналитического метода» (для сравнения отмечу, что интерес к абстрактным формам сохраняли и другие ученики Филонова - Б.Гурвич,
102 Дневник П.Филонова. Запись 12 ноября 1932 г. - ОР ГРМ, ф.156, д.30, л.51-51об.
К.Ливчак, однако и тогда, и в более поздние годы они продолжали развиваться полностью в русле системы), но и от других известных к тому времени версий беспредметного искусства.
Особую ценность живописным опытам Евграфова придает их стадиальная и историческая «несвоевременность». Они родственны более позднему американскому абстрактному экспрессионизму. Они появляются тогда, когда в отечественном искусстве интерес к абстракции по ряду - как внешних, так и внутренних причин - явно угасает (усиление «плана реальности» в поздних портретах Малевича, «живописный реализм» его учеников, переход Филонова от «формул» к изображениям с развитым фигуративным началом, растущая склонность матюшинцев к утилитарно-декоративному обоснованию своих отвлеченных опытов и т.п.).
4. Русский авангард в 1930-е годы. Судьба беспредметного искусства. Пути новой фигуративное™ (к проблеме экспрессионизма и сюрреализма).
Как уже говорилось, к рубежу 1920-х-1930-х в искусстве русского авангарда обозначились процессы, которые уместно определить словами «кризис», «закат», «конец» и т.п. Они были обусловлены как логикой его внутреннего развития, так и обстоятельствами набиравшего силу тоталитаризма. Совпадение этих двух векторов усиливало драматическое напряжение ситуации, искажая естественный ход событий и ломая индивидуальные судьбы.
Проницательный Пунин уже в 1923 году уловил симптомы эволюции: «Новое искусство приходит /./ к полному отрицанию тех начал формы, которые десять лет назад были или представлялись общими для всего отрезка нашего времени», а именно художник «отталкивает от себя индивидуальное право деформировать жизнь», протестуя против «всякой революционности в искусстве». «Здесь как бы замыкается кривая пути, начало которого - изображение окружающего, а конец - кто знает, может быть, тоже - изображение окружающего, преображенного, но это уже другой вопрос, и он еще будет поставлен».103 Действительно, такой вопрос скоро был поставлен. В связи с творчеством многих «левых» художников к концу 1920-х годов можно говорить о сформировавшейся новой фигуративное™. Этот феномен до сих пор остается, пожалуй, главной интригой в истории русского авангарда - и в плане содержания происходивших процессов, и в плане их оценки. Одни исследователи видят здесь капитуляцию перед временем, другие - перспективу нового развития, одни соотносят возврат «к изображению окружающего» с социалистическим реализмом, другие ю"' Пунин Н. Обзор новых течений в искусстве Петербурга // Русское искусство, 1923, №1. С. 17. считают его альтернативой этой концепции, поворотом, произошедшим в русле авангардного сознания.
Для «круга Малевича» синонимом новой фигуративности служит понятие постсупрематизма. Действительно, термин точно фиксирует и хронологию (то, что после), и «генетику» (то, что вследствие и на основе) и в этом - широком - смысле может быть соотнесен с творчеством и мастера, и всех основных его учеников. Однако «стилевые» характеристики «новой фигуративности» он обозначает не полностью, и в узком значении безоговорочно применим, пожалуй, только к искусству самого К. Малевича и Н. Суетина. В поздней живописи других учеников заметней иные составляющие. Например, та, которую они сами (В.Ермолаева, Л.Юдин, К.Рождественский, В.Стерлигов) называли «пластическим реализмом». И постсупрематизм, и пластический реализм в той или иной мере описаны в литературе. Но существует еще одна линия - сюрреалистическая, - которую автор впервые, основываясь на изобразительном материале и вводимых в научный оборот документальных свидетельствах, связывает с поздней живописью учеников К.Малевича (44, 48). Собственно, сюрреалистическая компонента во многом и делает «преображенным» «изображение окружающего» (вспомним слова Н.Пунина), сообщая той фигуративности, которая сформировалась в круге Малевича к концу 1920 годов, качество, позволяющеее называть ее новой.
В реферируемых работах автор подробно анализирует произведения Л.Юдина, находя черты, позволяющие соотнести их с проблематикой и поэтикой сюрреализма. Визуальные наблюдения подтверждаются документальными свидетельствами, обнаруженными в записях Л.Юдина. В дневниках художника много прямых упоминаний о сюрреализме, часто встречаются имена мастеров (М.Эрнст, П.Клее, Х.Миро, А.Массон), чье искусство, так или иначе, попадало в поле притяжения сюрреализма. Юдин свободно ориентируется в их творчестве, знает последние произведения. В записях присутствуют не только главные герои сюрреализма, но и второстепенные персонажи (например, Жан Гюго), что только подчеркивает степень осведомленности.
Важно заметить, что такой очевидный и направленный интерес к сюрреализму - факт для художественного сознания тех лет весьма нетипичный - является следствием личного выбора тех, кто находился «в круге Малевича». Текущей художественной жизнью он вряд ли мог стимулироваться. Хотя международные связи СССР были в то время весьма интенсивными, ориентировались они на другие имена и тенденции. Некоторые авторы юдинского «списка» попадали на проводимые в стране иностранные выставки, но их участие оставалось случайным и не привлекало к себе особого внимания. Главным источником информации служили зарубежные журналы и каталоги, которые Юдину удавалось доставать и просматривать.
Особенно важны присутствующие в дневниках моменты самоидентификации: в собственном творчестве, в мироощущении, в природе дара Юдин видит нечто «сюрреалистическое». Еще более существенно, что с сюрреализмом Юдин соотносил не только свою индивидуальную программу. К 1929 году в среде учеников Малевича складывается группа единомышленников, противопоставивших себя «большой линии». В нее помимо Юдина входили В.Ермолаева, К.Рождественский, В.Стерлигов. После показа новых вещей Малевичу, Юдин формулирует позиции, анализируя «наше недавнее прошлое». Один из этапов общей эволюции он
104 прямо называет сюрреализмом .
В записях Юдина различимо явное противопоставление - с оттенком предпочтения - сюрреализма супрематизму, присутствуют «опознавательные знаки» сюрреалистического мышления («безграничная свобода» «фантазирование», «личный образ»), определены границы «приобщения». Сюрреализм принимается вовсе не безоговорочно, не тотально. Юдин говорит о близости «умонастроения», но о равнодушии к идеологии и методологии. Существенный момент расхождения - проблема формы. Юдин и его товарищи не могли и не хотели целиком отказаться от признания логики формы, качества, воспитанного опытом беспредметности. В той или иной степени они стремились сохранить пафос формотворчества. Сюрреализм же восставал против «формы как таковой», страстно желая «помешать отчетливому оформлению того, что бежит всякой отчетливости и всякого оформления».105
Из записи Юдина следует, что сюрреалистический период приходится на 1926-1928 годы. Однако из-за неполной сохранности произведений, отсутствия точных датировок сейчас трудно соотнести приводимые им характеристики с конкретными работами самого художника и его друзей. В ряду возможных примеров автор называет графический лист Л.Юдина «Груши» (1926, ГРМ) и живописную композицию В.Стерлигова «Равновесие» (Частное собрание, СПб.)
Тенденция была тогда же замечена Малевичем и не раз становилась темой специального обсуждения. В реферируемых работах автор впервые приводит соответствующие источники, подробно разбирая малевичевские «за» и «против». В 1929 году Юдин рассматривает сюрреализм как пройденный этап. Однако «тема» вовсе не оказалась закрытой. Напротив, интерес Юдина к художникам-сюрреалистам возрастал. Собственно, известные нам произведения мастера и его друзей, которые как раз и дают основания для соотнесения с сюрреалистическими «умонастроениями»
104 Дневник. Запись 17 октября 1929 г. - ОР ГРМ, ф.205, д.6, л.20.
105 Коган П. Сюрреализм // Искусство, 1925, №2. С. 107. относятся к 1930-м годам. Конечно, «сюрреализм» учеников Малевича имел смягченные формы и до «случайной встречи на анатомическом столе зонтика и швейной машинки» (Лотреамон) дело не доходило. «Я где-то на другом конце сюрреализма, более образном и предметном», - отмечал Л.Юдин106.
Диссертант находит сюрреалистические черты в натюрмортах («Рыбки в бутылке», прикладной графике (спинка обложки для детского журнала «Чиж», имеющая явные переклички с «Алфавитом откровений» Р.Магритта), в декоративно-оформительских работах (эскизы этикеток для парфюмерных коробок ) и - особенно - в бумажной скульптуре Л.Юдина, в крестьянских сценах и пейзажах К.Рождественского («Женщина со снопом», «Поле»), в графических циклах В.Ермолаевой («Спортсмены», «Мальчики»), Н.Суетина («Снопы», «Цепеллины») и подробно аргументирует свою точку зрения (интерес к «неправильным», «странным», аномальным, эмоционально заряженным, «навязчивым» формам, сочетание иллюзорности и условности, подчеркнуто «фантазийный», сновидческий характер образов, смысловая трансформация предмета, использование приемов, близких «автоматическому письму» и др.).
К сюрреалистическим увлечениям своих учеников Малевич относился с явным сомнением (тема не раз появлялась в личных беседах и коллективных обсуждениях). На этой почве и возникали основные противоречия, временами доходившие до острых конфликтов. Линии противостояния Л.Юдин определил так: «образ или беспредметность», «строить или переживать»107. Интерес к сюрреализму давал ориентиры и совпадал с поисками собственного пути, поддерживая потребность самоутверждения в качестве художника, а не ученика, и обеими сторонами ощущался драматически - как проявление «инакомыслия». Не случайно Юдин постоянно сомневается и словно оправдывается в своих сюрреалистических наклонностях и пристрастиях. Он и боится сюрреализма, и тянется к нему: «с сюрреалистами игрушки плохие. Опасная история. Опасная и захватывающая»108. Вновь и вновь Юдин оказывается перед трудно разрешимой дилеммой: «супрематизм или сюрреализм»109. Причем сюрреализм в этой мучительной для художника оппозиции связан с природой дара, а супрематизм - с «дисциплинарным» императивом. В самоощущении супрематизм нередко выступает как норма, сюрреализм - как аномалия. Внутренний конфликт усиливается внешним давлением. О его двуединой природе свидетельствует запись 18 сентября 1935 года: «Может
106 Дневник. Запись 25 апреля 1929 г. -ОР ГРМ, ф. 205, д.6, л.Поб.
107 Дневник. Запись 20 февраля 1928 г.-Там же, д.5, л.20.
108 Дневник. Запись 5 мая 1928г.-Тамже, д.6, л.15.
109 Дневник. Запись 22 октября 1934 г. - Там же, д.9 л.22об. быть, я просто запуган настолько, что свое своеобразие принимаю за измену принципам!!»110.
Случай Юдина», безусловно, свидетельствует, что сюрреализм в конце 1920-х - начале 1930-х годов был реальностью российского художественного сознания. И, быть может, в другом историческом сценарии именно движение «в сторону сюрреализма» оказалось бы одним из возможных путей дальнейшего развития. «Сюрреализм как средство. Если бы его не было -должны бы были выдумать»,111
Анализируя ситуацию «кризиса» авангарда и предлагаемые выходы из беспредметности, связанные с феноменом новой фигуративное™, автор счел необходимым рассмотреть и те пути, которые не казались участникам процесса перспективными, но, так или иначе, затронули сферу творческих поисков. Поэтому в поле исследовательского внимания была включена тема «Круг Малевича» и проблема экспрессионизма», частично связанная с представленным ранее «сюрреалистическим сюжетом» (46).
Констатировав, что эта проблематика в 1920-е годы находилась на периферии интересов Малевича и приведя соответствующие аргументы (экспрессионизм не входил в число пяти «гинхуковских систем», не фигурировал в таблицах по «теории прибавочного элемента», не включался в экспозицию МХК, не являлся звеном «педагогики систем», не рассматривался в литературных сочинениях, ранние экспрессионистические произведения Малевича, так же, как и крестьянские, оставшиеся в Германии, в отличие от них не участвовали в операции «пересоздания прошлого» и т.п.), автор сосредоточился на «линиях несовместимости» (пост)супрематизма и экспрессионизма, образованных в основном глобальным несовпадением в «чувстве формы» («искусство безотражательной формы или слепой формы, матовой»112 - искусство выражающей (символической) формы, «решенная», «отчетливая», собранная форма - эмоционально-анархическая форма, универсальная, объективная, воспроизводимая форма - индивидуальная, «единичная» форма, вытекающая из личного опыта). Несовместимость эта является едва ли не самоочевидной и вытекает из существа творческой концепции создателя супрематизма. Практически любая ее характеристика найдет в экспрессионизме свою противоположность.
Все эти «линии несовместимости», а число их можно множить и множить, сходятся в одну жирную точку, поставленную самим Малевичем еще в 1915 году. Исчерпывающим ответом на вопрос о причинах игнорирования или неприятия экспрессионизма может служить энергичная
110 Дневник. - Там же, д. 9, л. 11.
111 Дневник Л.Юдина. 3апись17 октября 1929 т. -Там же, д 6, л.20. г Малевич К. В моем живописном опыте // В кн.: Малевич. Художник и теоретик. М., 1990. С. 208 фраза из листовки, распространявшейся на «Последней футуристической выставке картин 0, 10»; «В искусстве нужна истина, но не искренность». Сентенция эта сохраняла роль своеобразной максимы весь период существования «круга Малевича».
В творчестве своих учеников и соратников Малевич экспрессионизма не поощрял и к его проявлениям относился отрицательно: «это болезненное», «это совершенно ненужная вещь»113. В группе Малевича «экспрессионизм» был синонимом слабости, незрелости, отсутствия «настоящего класса». С экспрессионизмом в себе боролись, упрека в экспрессионизме боялись. Вместе с тем, в творчестве учеников и даже в позднем творчестве самого Малевича мы найдем яркие проявления экспрессионизма, и это вовсе не слабые произведения («Натюрморт на светло-оранжевом фоне» Л.Юдина, серия «Перчатки», цикл «Деревня», комплекс «черных» натюрмортов В.Ермолаевой, «Бегущий человек» «Человек с лошадью» К.Малевича). Этот поздний - непреднамеренный, «нелогичный» - возврат к экспрессионизму свидетельствовал о том, что, хотя Малевич и исключал такой тип творчества из магистрального пути, «экспрессионизм» не прошел бесследно для его искусства и для искусства его учеников.
Вектор художественного развития на рубеже 1920-х годов был направлен в сторону поисков новой фигуративности. Процессы, шедшие внутри самого авангардного сознания, удивительным образом «совпали» с требованиями времени, хотя и приняли формы, отличные, если не противоположные, - и в смысловом, и в пластическом отношении - от тех, что насаждались тоталитарной идеологией. Совпадение обусловливалось не столько внешним давлением, прямыми запретами или вынужденным приспособлением, но некоей «субъективной социальностью», особенно значимой для поколения учеников (возможно, лучше всего это ощущение передано словами поэта: «я тоже современник»), которая стимулировала и окрашивала внутренние изменения.
Однако у русского авангарда были перспективы и в неизобразительной сфере. Его исходом, кроме «новой фигуративности», могла стать и «новая беспредметность» (49). Этот путь также был обеспечен логикой внутренней эволюции, но «захлебнулся», не только не совпав со временем, но испытав сильнейшее противодействие со стороны официального мировоззрения. Символической точкой в истории русского авангарда стали осененные «Черным квадратом» похороны великого супрематиста. И как последняя публичная манифестация беспредметного искусства, за которой - долгий период отрицания, запрета и забвения. И как знак исчерпанности потенциала
115 Запись беседы К.Малевича с Л.Юдиным. - ОР ГРМ, ф.205, д. 14, л.2. жестких геометрических форм и стоящего за ними «индивидуального права деформировать жизнь» (Н.Пунин).
В 1930-х абстракция выбрала другой путь. Как ни странно, он оказался близким западному: лишнее свидетельство существования в развитии искусства неких имманентных закономерностей. Однако перспектив в стране, где, по словам А.Родченко, живопись - «это Герасимов, Герасимов, Герасимов»114, у русской абстракции не было. В эти годы абстракция редко выступает как самостоятельная художественная форма. Она «прячется» в прикладных вещах (этикетки и коробки для пудры Юдина) и выставочных проектах (Суетин, Рождественский, Эндеры), проникает в предметную живопись (Л.Юдин «Голубой натюрморт», 1930-е; Б.Эндер «Памяти сестры», 1942), маскируется под «игрушку» («бумажная скульптура» того же Юдина), уходит в исследовательскую (таблицы и рукописи Клюна, «Справочник по цвету Матюшина) или педагогическую деятельность (Эндеры). Культуру беспредметного мышления поддерживает и стимулирует фотография (Родченко). Идея беспредметности живет в остающихся неопубликованными мемуарах бывших "левых", повествующих о славном прошлом (Клюн, Пунин, Матюшин).
Иван Клюн, Лев Юдин, Александр Родченко, Николай Евграфов - всего несколько имен можно в это время связать с абстракцией. Стремясь представить общую картину происходящего, автор здесь, как и в ряде других случаев, не ограничивается ленинградскими примерами. В типологическом отношении большинство созданных в это время произведений можно соотнести с сюрреалистической абстракцией. Это обстоятельство следует подчеркнуть, поскольку довоенное русское искусство редко связывают с сюрреализмом, а таким, как уже отмечалось в случае с «новой фигуративностью», мог быть один из возможных вариантов развития.
Наиболее выразительным и перспективным автор считает абстрактные опыты Л.Юдина. Его биоморфные прикладные эскизы находят пластические аналогии в хронологически близких работах Х.Арпа или Х.Миро, а бумажная скульптура демонстрирует «чувство формы», родственное М.Эрнсту. Вряд ли возможно говорить при этом о каком-то прямом влиянии. Юдин, по мере возможностей, интересовался тем, что происходит на Западе, но знакомство не могло быть и не было систематичным. Он не повторяет чужие приемы, но движется в сходном направлении, определяя нужные ориентиры. Опираясь на разрозненную и случайную информацию, Юдин собирает крупицы нового и интуитивно угадывает вектор развития («Я
114 Родченко А. Опыты для будущего. М., 1996. С. 338 (дневник, запись 7 апреля 1943 г.). начинаю улавливать центральную идею всех этих исканий. Опять идет какое-то одно течение»)"5.
Произведения, связанные с сюрреалистической образностью (особенно -в - более позднем - случае А.Родченко), можно назвать «опытом присоединения»: мастер действует в поле существующих возможностей. Однако русское искусство конца 1930-х - начала 1940-х годов знало и другой опыт - «опыт прорыва»: художник, как в 1910-е годы, изобретает новое, заглядывая в будущее. Примеры подобного рода единичны, но они есть. Такова графическая композиция А.Родченко «Экспрессивный ритм» (19431944, Собрание Г.Костаки, Афины), близость которой к еще не родившемуся абстрактному экспрессионизму Дж.Поллока уже была отмечена исследователями. Факт знаменательный, так как свидетельствует о наличии общей логики визуального мышления и - главное - о высоком потенциале изолированного русского искусства. Тем более, что Родченко был не единственным радикалом. К «новой абстракции», пластически, пожалуй, даже более мощной и жизнеспособной, пришел в это время другой художник - ученик Филонова Николай Евграфов. К концу десятилетия Евграфов создал тип абстракции, совершенно отличный как от решений, существовавших в рамках «аналитического метода», так и от других, известных к тому времени отечественных вариантов беспредметного искусства. Судя по всему, он заново и самостоятельно проделывает весь путь, избирая мотивы, способствующие переходу от фигуративного к абстрактному («танец», «музыка», «праздник», «карнавал»), от реальности изображения к реальности живописи. Энергичная, свободная, работа кисти обретает самоцельность действия. Пульсирующая живописная поверхность - поле прямого физического контакта художника с картиной - получает «темповые» характеристики, мазок - форсированный, стихийный, «горячий» - становится главным формообразующим средством. Объективной логике формы Евграфов явно предпочитает «произвол» самовыражения.
Творческий метод безвестного русского мастера вполне можно охарактеризовать термином «пластический автоматизм», взятым из арсенала более позднего западного искусства. Композиции рубежа 1930-х - 1940-х (художник погиб в 1941 году) из цикла «Карнавал» вызывают ассоциации с еще не появившимся абстрактным экспрессионизмом, с тем, что назовут «живописью жеста», «живописью действия». С искусства такого типа, но воспринятого уже по западным источникам, начнется история «оттепельной» абстракции.
В размышлениях о судьбах русского авангарда, о свершившихся и возможных вариантах его развития, автор не мог обойти вниманием
1 - Дневник. Запись 21 октября 1935 г. - OP ГРМ, ф.205, д.9, л.20 об. творческую судьбу П.Мансурова (30). «Случай Мансурова» поистине уникален. Это то «сослагательное наклонение», которого история обычно не знает.
В 1928 году Мансуров уехал на Запад и там, после почти тридцатилетнего перерыва, отданного моде и театру, произошло феноменальное по смыслу и результатам возвращение к абстрактной живописи. Ожили, получили продолжение и новое развитие идеи беспредметности 1920-х годов. Есть все основания солидаризироваться с теми зарубежными исследователями, которые причисляют творчество Павла Мансурова между 1957 и 1982 годам к лучшим ансамблям абстрактной живописи XX века. Идеи авангарда словно бы воскресли здесь в своей первозданности, не будучи отмечены ни естественной временной эволюцией, как у тех русских художников, кто стабильно и последовательно работал на Западе (В.Кандинский, М.Шагал), ни вынужденными -осознанными и неосознанными - искажениями, как у тех, кто оставался в России.
Поздняя беспредметная живопись Мансурова не была лишь возвращением в прошлое, неким анахронизмом на современном художественном небосклоне. К формотворческим экспериментам мастеров русского авангарда обращаются в это время на Западе представители радикальных художественных течений. У Мансурова были здесь явные преимущества. То, что для других - традиция, «музей», чужой опыт, для него - развитие собственных идей и концепций товарищей. Сам художник очень точно определил свое место в истории: «Я есть соединяющее звено в эволюции пластической разновидности форм нашего времени»116.
Эпилогом ко всему корпусу выносимых на защиту сочинений могут служить статьи, посвященные феномену «школы Стерлигова» (18, 38) В 1920-х годах В.В.Стерлигов входил в «круг Малевича», был практикантом ГИНХУКа, работал вместе с давними учениками мастера В. Ермолаевой, Н. Суетиным, Л. Юдиным, К. Рождественским, А. Лепорской. Общение с Малевичем отозвалось спустя годы созданием - на основе обретенного опыта и одновременно в полемике с ним — собственной, основанной на принципах криволинейности и всеобщей связи, пластической концепции, визуальными символами которой стали купол и чаша. В начале 1960-х годов вокруг Стерлигова сложилась группа учеников, пополнявшаяся до самой его смерти в 1973.
Стерлигов стал звеном, восстановившим прерванную традицию, мостом, соединившим эпохи и поколения, 1920-е и 1960-е, авангард и
1,6 Павел Мансуров. Петроградский авангард. Каталог выставки. СПб., 1995. С.52 (Письмо Е.Ковтуну 24 мая 1971 г.).
52 андерграунд. В своей «домашней академии» он сохранял и культивировал применявшиеся в ГИНХУКе методики, обращая особое внимание на постижение законов пластического формообразования. Здесь изучали импрессионизм, сезаннизм, кубизм, супрематизм, цветовую теорию Матюшина — Стерлигов придерживался малевичевской «педагогики систем». Сейчас очевидно, что и непосредственные материалы занятий (включая те, что были организованы учениками в 1980-е годы), и так называемые «проблемные работы» ценны сами по себе и далеко выходят за рамки учебных упражнений, являясь чем-то вроде антологии формообразующих принципов, или словаря пластических идиом XX века. Подобная практика в целом может рассматриваться как интереснейший опыт исследовательской реконструкции и интерпретации пластических концепций русского авангарда, как продукт современного аналитического творчества, основанного на рефлексии и апроприации.
Завершая обзор, следует отметить основные научные результаты проведенных исследований. В выносимых на защиту публикациях:
• впервые предметом самостоятельного изучения стала именно история петроградского авангарда 1920-x-l 930-х годов;
• в научный оборот, большей частью впервые, введен новый документальный материал;
• представлены новые для историографии авангарда исследовательские темы и сюжеты.
• предложены новые ракурсы рассмотрения проблематики русского авангарда.
Список работ, выносимых на защиту
1. К вопросу о судьбах бытового жанра в русской живописи середины 1900-х - 1910-х годов//Советское искусствознание -76. М., 1976. Вып.1. С. 175 -198.- 1 а. л.
2. Н. Н. Пунин в Русском музее // Творчество, 1988, N11. С. 12 -13. - 0, 3 а.л.
3.Н. Н. Пунин. Беседы в Отделении новейших течений /Публикация и комментарии //Творчество, 1988,N11. С.14-16. -1 а. л.
4. Конфликт // Искусство Ленинграда, 1989, N6. С.28-31, 34-36. - 1 а.л.
5. Малевич в суждениях современников // Малевич. Художник и теоретик. М.: Советский художник, 1990. С. 192-198. - 1 а.л.
6. Изобразительное искусство в новой культуре. Судьбы авангарда // Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1990 год. СПб.:ГРМ, 1991. С.34-36. - 0, 1 а.л.
7. Das Institut fur Kunstlierische Kultur // Matjuschin und die Leningrader Avantgarde. Stuttgart-Munchen: Octagon, 1991. P. 40-58. - 3 а.л.
8. Манифест в культуре авангарда // Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1991 год. СПб.: ГРМ, 1992. С.34-36. - 0, 1 а.л.
9. «Неизвестный русский авангард»: Рецензия // Вопросы искусствознания, 1/93. М., 1993. С.209-211. - 0, 2 а.л.
10.МХК-ГИНХУК. // Великая утопия: Каталог выставки. - Москва-Берн, 1993.-С. 711-712. - 0,25 ал.
11 .Декоративный институт // Великая утопия: Каталог выставки. Москва-Берн, 1993. С.712-713. - 0,2 а.л.
12.Изобразительное искусство в новой культуре. Судьбы авангарда // Вопросы искусствознания, 1/94. М., 1994. С.222-235. - 1 а.л.
13.0 Михаиле Васильевиче Матюшине И Всемирное слово, 1994, №6. С.64. - 0,15 а. л.
14.Павел Мансуров в ГИНХУКе // Павел Мансуров. Петроградский авангард: Каталог выставки. СПб.: Palace Editions, 1995. С.26-36, 41-47 (публикации). - 1, 3 а. л.
15.Образование и деятельность Отделения новейших течений // Государственный Русский музей. Из истории музея. СПб.: ГРМ. С.58-80. -2 а.л.
16.Технология и эстетика бумаги // Мир дизайна, 1996, №1-2. С.29-30. - 0, 25 а .л.
17.Н.Н. Пунин и «новое искусство» И Искусство XX века. Вопросы отечественного и зарубежного искусства. СПб., 1996. Вып.5. С.57-68. - 0, 6 а. л.
18. Ряд ом со Стерлиговым: Каталог выставки /Вступит, статья. СПб., ГРМ, 1996-0,2 а. л.
19.Лев Юдин: от живописи к скульптуре и фотографии // Малевич. Классический авангард. Витебск. Витебск, 1997. С.61-68. - 0,6 а. л.
20.Лев Юдин: от живописи к скульптуре и фотографии // Взаимодействие искусств в русском авангарде. М: ГИИ, 1998. С.273-281. - 0, 6 а. л.
21.Музей в музее: коллекция Музея художественной культуры в собрании Русского музея / Составление, вступительная статья, публикации. СПБ.: Palace Editions, 1998. С.9-33, 350-367, 368-395. - 5 а л.
22.Архив русского авангарда. М.: RA, 1994-1997: Рецензия // Вопросы искусствознания, 1/98. М., 1998. С.598-601 - 0,3 а. л.
23.Сезанн и сезаннизм в исследовательской практике Государственного института художественной культуры // Сезанн и русский авангард начала XX.: Каталог выставку. СПб.: Славия, 1999. С.173-181. -1 а.л.
24.Абстракция в творчестве Николая Евграфова.//Тезисы конференции, посвященной научно-исследовательской работе за 1998 год. СПб.: ГРМ, 1999. С.35-37. -0, 1 а.л.
25.Museum of Artistic Culture// New Art for New Era. Malevichs Vision of the Russian Avant-Gard. London, 1999. P. 11-18. - 0,5 а.л.
26.Театральный опыт школы Филонова. Оформление «Ревизора» в Доме печати /7 Государственный Русский музей. Страницы истории отечественного искусства. Конец Х1Х-ХХ век. СПб.: ГРМ, 1999. С. 27-41. -0,5 а. л.
27.Русский авангард: проблемы музейной и выставочной репрезентации Искусство XX века. Итоги столетия. Тезисы докладов международной конференции. СПб.: ГЭ, С. 15. - 0, 1 ал.
28 .Малевич в Русском музее / Публикация документов из архива Л.А.Юдина и комментарии к ним. СПБ.: Palace Editions, 2000. С. 394-396, 400-402. 415-428,429. - 1,5 а. л.
29.Петроградский музей художественной культуры. // Наследие -современность: Международная конференция художественных музеев 1998 года. Самара, 2000. С.75-810, 5 а.л.
30. Абстракция в творчестве Павла Мансурова // Наследие -современность: Международная конференция художественных музеев 1998 года. Самара, 2000, С.231-245. - 0, 5 а.л.
31.В круге Малевича: Соратники. Ученики. Последователи в России 1920-1950-х / Составление, текст от составителя, публикации. СПб.:Ра!асе Editions, 2000. С.26-28, 116-121, 130, 146-150, 185 -186, 210.230 -233,249253,270. - 1 а. л.
32.«По радиусу основы» // В круге Малевича. СПб.: Palace Editions, 2000. С. 7-11.-0,5 а.л.
33.«Современная нам форма в искусстве - исследовательский институт.» // В круге Малевича. СПб.:Ра1асе Editions, 2000. С.103 —115.
2 а. л.
34.Лев Александрович Юдин // В круге Малевича. СПб.: Palace Editions,
2000. С. 221-229.-1,2 а.л.
35.«В Круге Малевича». Выставка в ГРМ // Искусство, 2001, №1. - 0, 3 а л.
36.К истории музейной репрезентации искусства русского авангарда в 1930-е годы («опытная сжатая экспозиция искусства эпохи кризиса капитализма» в Русском музее) // Тезисы конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1999 год и 125-летию со дня рождения П.И.Нерадовского (1875-1962). СПб.: ГРМ, 2000. С.96-98. - 0, 2 а.л.
37.Манифест в культуре авангарда // Поэзия и живопись: Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 129 -138 -0, 5 а.л.
38.«Невидимый институт» // Пространство Стерлигова. СПб.: ООО «П.Р.П.», 2000. С. 80-87, 90-125, 177-178, 186. - 1,2 а.л.
39.Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации / Сборник статей. СПб.: Palace Editions, 2001. С.13-21 (Составление, статья: Музей художественной культуры: эволюция идеи). - 1 а.л.
40.Гравюры Льва Юдина // Оттиск. Ежегодный альманах печатной графики. СПб., 2001. - С. 39-42. - 0, 25 а.л.
41.МАИ (Мастера аналитического искусства; школа Филонова) // Русское искусство. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Трилистник, 2001. С.292-293.-0, 1 а.л.
42.МАИ (Мастера аналитического искусства; школа Филонова) // Русское искусство. Иллюстрированная энциклопедия. М.: Белый город, 2002. С.270-271. - 0, 15 а.л.
43.Абстракция в творчестве Николая Евграфова //Новый мир искусства,
2001, №5. С. 21-23. - 0, 4 а.л.
44.От супрематизма к. Пути новой фигуративности // Пинакотека, 2002, №13-14. С. 151-158. - 0, 4 а.л.
45.«Современная нам форма в искусстве - исследовательский институт.». Казимир Малевич в ГИНХУКе// Малевич. Классический авангард. Витебск. Витебск, 2002. С.8-40. - 2 а.л.
46.«Круг Малевича» и проблема экспрессионизма Н Русский авангард 1910-Х-1920-Х годов и проблема экспрессионизма. М.: Наука, 2003. С. 195-205.-0, 5 а. л.
47.От супрематизма к,. Пути новой фигуративности // Русский авангард: личность и школа. Материалы научной конференции. СПб.: Palace Editions, 2003. С. 75-83. - 0, 6 а.л.
48.К истории музейной репрезентации искусства русского авангарда в 1930-е годы («опытная сжатая экспозиция искусства эпохи кризиса капитализма» в Русском музее) // Искусство XX века. Итоги столетия. СПб.: ГЭ (в печати). - 0, 5 ал.
49.Между двух авангардов: русская абстракция 1930-х-1940-х годов. // Абстракция в России. Пути и судьбы. Материалы научной конференции. СПб.: Palace Editions (в печати). - 0, 5 а.л.
50.«Дом печати - дело наше.». Из дневников Е.А.Серебряковой И Эксперимент/ Experiment. A Journal of Russian Culture. Los Angeles (в печати ). - 1 а.л.
Доклады, выступления
1. Деятельность Государственного института художественной культуры в Ленинграде.
Всесоюзный семинар искусствоведов. Паланга. 1986.
2. Образование и деятельность Отделения новейших течений в ГРМ. Всесоюзный семинар молодых искусствоведов. Гурзуф. 1987.
3. Шмитовский период деятельности Государственного института истории искусств в Ленинграде.
Конференция, посвященная жизни и деятельности Ф.И.Шмита. Харьков. 1987.
4. Об одном эпизоде из художественной жизни Ленинграда в 1927 году (филоновцы на юбилейной выставке к 10-летию Октября).
Конференция «Школа Филонова». ЛОСХ. Ленинград. 1987.
5. Казимир Малевич в суждениях современников.
Научная конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения К.С.Малевича. Государственный Русский музей. Ленинград.1988.
6. Ф.И.Шмит в Государственном институте истории искусств во второй половине 1920-х годов.
Юбилейная научная конференция, посвященная 125-летию со дня учреждения кафедры истории искусства в Петербургском-Ленинградском университете. ЛГУ. Ленинград.1988.
7. Пунин и «новое искусство».
Юбилейные чтения к 100-летию со дня рождения Николая Николаевича Пунина. Центральный дом художника. Москва. 1988. Конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1988 год. Государственный Русский музей. Ленинград. 1989.
8. Творческое наследие Льва Юдина в Государственном Русском музее. Научная конференция «Искусство 1920-х-1930-х годов». Государственный Русский музей. Ленинград. 1989.
9. Изобразительное искусство в новой культуре. Судьбы авангарда.
Конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы за
1990 год. Государственный Русский музей. С-Петербург. 1991. Конференция по проблемам русского авангарда, посвященная 80-летию со дня рождения Г.Д. Костаки. Государственная Третьяковская галерея. Москва. 1993.
Ю.Манифест в культуре авангарда. Конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы за
1991 год. Государственный Русский музей. С-Петербург. 1992. Международная конференция «Русский авангард XX века в контексте европейской культуры». Российская Академия наук. Москва. 1993.
11.К истории формирования коллекции живописи авангарда в ГРМ. Научная конференция «К истории формирования музейных коллекций». МК РФ. Российская академия художеств. Москва. 1992.
12.К истории художественной жизни Ленинграда 1920-х-1930-х годов (Вокруг ликвидации ГИНХУКа; Малевич и журнал «Малярное дело»). Конференция « Проблема историко-художественного факта: событие, произведение». СПб., Российский (Зубовский) институт истории искусств. С-Петербург. 1992.
13.Из истории Зубовского института конца 1920-х годов.
Традиции российского искусствознания». Научные чтения, посвященные 80-летнему юбилею Российского (Зубовского) института истории искусств. СПб. 1992.
14.Учитель и ученик. Казимир Малевич в дневниках Льва Юдина. Конференция к персональной выставке К.С.Малевича. Милан. 1993.
15.Николай Лунин. Жизнь и судьба.
Чтения, посвященные выставке. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. С-Петербург. 1993.
16.Лев Юдин: От живописи к скульптуре и фотографии. Международная научная конференция «Авангард 1910-х-1920-х годов. Взаимодействие искусств. Государственный институт искусствознания. Москва. 199 5.
Международная научная конференция «Малевич. УНОВИС. Современность». Витебск. 1996.
17. Абстракция в творчестве Николая Евграфова.
Международная научная конференция «Кубизм и абстрактное искусство в Северной Европе и странах Балтии». Таллинн. 1996. Конференция, посвященная итогам научной работы за 1997 год. Государственный Русский музей. 1998. 18.Западные художники в дневниках Льва Юдина Международная научная конференция «Русский авангард в европейском контексте». Государственный институт искусствознания. Москва. 1997.
19.«Невидимый институт» (Группа В.В.Стерлигова).
Научная конференция «1970-е годы: общество и тоталитаризм». Музей политической истории России. С-Петербург. 1997.
20.Музей художественной культуры. s Конференция «Музеи Петербурга. История и современность». Государственная академия культуры. С-Петербург. 1997.
21.Театральный опыт школы Филонова.
Международная конференция «Русский авангард 1910-х-1920-х годов и театр». Государственный институт искусствознания. Москва. 1997. Конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1997 год. Государственный Русский музей. С-Петербург. 1998.
22.Кубизм и футуризм в исследовательской практике Государственного института художественной культуры.
Международная научная конференция «Русский кубо футуризм». Государственный институт искусствознания. Москва. 1998.
23.Русский авангард: искусство как наука.
Центр современного искусства Дж.Сороса. С-Петербург. 1998.
24.Петроградский музей художественной культуры (История. Опыт реконструкции коллекции).
Наследие - современность». Международная конференция художественных музеев. Самарский художественный музей. Самара. 1998.
25.Музей художественной культуры: эволюция идеи. Международная научная конференция «Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации». Государственный Русский музей. С-Петербург. 1998.
26.Павел Мансуров
Центр современного искусства Дж.Сороса. С-Петербург. 1999.
27. Абстракция в творчестве Павла Мансурова.
Международная конференция «Русский авангард. Итоги и перспективы». Государственный институт искусствознания. Москва. 1999. «Наследие - современность». Международная научная конференция музеев, посвященная 150-летию Самарской губернии. Самарский художественный музей. Самара. 1999.
28.Н.Н.Пунин в МХК-ГИНХУКе.
Научные чтения, посвященные Н.Н. Пунину. Государственный Русский музей. С-Петербург. 1999.
29.К проблеме музейной репрезентации искусства русского авангарда. Международная научная конференция «Итоги XX века». Государственный Эрмитаж. С.-Петербург. 1999.
30.К истории музейной репрезентации искусства русского авангарда в 1930-е годы («опытная сжатая экспозиция искусства эпохи кризиса капитализма» в Русском музее).
59
Конференция, посвященная итогам научно-исследовательской работы за 1999 год. Государственный Русский музей. С-Петербург. 2000. «Наследие - современность». Международная научная конференция. Самарский художественный музей. Самара. 2000.
31.Ученики К.С.Малевича. Творчество и судьбы.
Петербургский фонд культуры и искусства «Институт «про арте». С-Петербург. 2001.
32.Иван Пуни.
Петербургский фонд культуры и искусства «Институт «про арте». С-Петербург. 2001. 33.От супрематизма к. Пути новой фигуративнести.
Международная конференция «Русский авангард: личность и школа». Государственный Русский музей. С-Петербург. 2001.
34.Между двух авангардов: русская абстракция 1930-х-1940-х годов. Научная конференция «Абстракция в России. Пути и судьбы». Государственный Русский музей. С-Петербург. 2002.
35.«Круг Малевича» и проблема экспрессионизма. Международная научная конференция «Русский авангард 1910-х- 1920-х годов и проблема экспрессионизма». Государственный институт искусствознания. Москва. 2002.