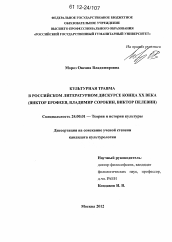автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01
диссертация на тему: Культурная травма в российском литературном дискурсе конца XX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Культурная травма в российском литературном дискурсе конца XX века"
005018722
•кописи
Мороз Оксана Владимировна
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА В РОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ КОНЦА XX ВЕКА (ВИКТОР ЕРОФЕЕВ, ВЛАДИМИР СОРОКИН, ВИКТОР ПЕЛЕВИН)
Специальность 24.00.01 - Теория и история культуры
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии
_ г^сч'Н
1 2 ДПР ^ ¡л
Москва-2012
005018722
Работа выполнена на кафедре истории и теории культуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет»
Научный руководитель: доктор философских и кандидат
филологических наук, профессор, действительный член РАЕН Кондаков Игорь Вадимович
Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Научного центра исследований истории книжной культуры РАН при Академиздатцентре «Наука» РАН
Сайко Елена Анатольевна
доктор филологических и кандидат исторических наук, член Русского ПЕН-центра Соколов Борис Вадимович
Ведущая организация: Российский институт культурологии
Защита состоится «/У» мая 2012 года в 14 часов на заседании совета Д.212.198.06. по защите докторских и кандидатских диссертаций при Российском государственном гуманитарном университете по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 6.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного гуманитарного университета по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6.
Автореферат разослан « » А/мхщ 2012 года.
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат культурологии С. А. Еремеева
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы исследования
В конце XX века в пространстве отечественной литературы функционируют такие стратегии художественной аналитики и механизмы производства знания, которые могут составить конкуренцию теоретическим исследованиям. Подобные возможности художественного письма формулируются на фоне изменения статуса литературы, которая к концу прошлого столетия перестает восприниматься как единственное поле для осмысления, проблематизации различных стратегий современности. Однако именно в этом пространстве осуществляется рефлексия серьезной диспропорции между индивидуальной памятью и общим антропологическим опытом. Особенно очевидным это несоответствие становится при анализе постсоветской идентичности, развивающейся в диалоге с советским модернистским проектом.
В такой ситуации писатели, тяготеющие к постмодернистскому письму, берут на себя роль исследователей, стремящихся осмыслить проблемы и перспективы отечественной культуры. До институционального оформления наук о культуре в России в 1990-е годы, они занимают аналитическую позицию, метафорически постигая уязвимости отечественной ментальности.
Стоит отметить, что представители западного социогуманитарного знания еще полвека назад поставили вопрос о том, как возможна рефлексия травматического прошлого. Непосредственное исследование травматических расстройств было начато еще раньше 3. Фрейдом. Однако до сих пор в контексте различных дисциплин, для которых травма выступает предметом исследования (психоанализ, историческая наука, социология), не продемонстрирована возможность концептуализации травмы с помощью классического научного инструментария. Травму, которая манифестирует свою иносказательность, изменчивость, оказывается невозможным представить как терминологически устойчивое обозначение идентичности. В отечественном гуманитарном знании, в свою очередь, удается обнаружить лишь следы обращения к соответствующей аналитике. При этом непосредственные участники научных дискуссий фиксируют а) нехватку саморефлексии, обращенной на элементы неартикулируемой, но имплицитно присутствующей в культуре боли, и б) отсутствие традиции описания того драматического антропологического опыта прошлого столетия, которым является травма.
В подобной ситуации культурологическое освещение не обнаруживаемых критикой или литературоведением стратегий, с помощью
которых писатели конца XX века анализировали травмированность культуры, представляется логичным и своевременным. Обоснованным этот жест делает тот факт, что авторы, чьи произведения рассматриваются в диссертационном исследовании, в отличие от ученых не ставят своей задачей демонстрацию травмы как строгого терминологического маркера идентичности. Писатели используют травму как метафору, применяя ее в качестве инструмента для анализа антропологического опыта. В первую очередь этот опыт относится к советскому прошлому и постсоветскому настоящему носителей русской культуры. Однако изучение травмы, вмещающей в себя как единовременное насилие, резко изменившее жизнь группы или индивида, так и патологический процесс, воздействующий на отношение людей к своему прошлому, настоящему и будущему, приводит писателей к размышлениям о травматической природе ментальных оснований русской культуры.
В результате современная литература, рассматриваемая с позиции культурологии, предстает как поле, в котором обсуждаются вопросы, не решенные наукой. Авторы, в том числе представители русского литературного постмодернизма, дополняют раздробленные логические объяснения травмы нестрогим анализом, помогающим при исследовании ее ускользающей от точных «замеров» природы. Наполненные метафорикой авторские стратегии изучения культурной травмы позволяют сместить оптику исследования травмы с принятых, но недостаточных попыток ее разложения на психологические, социальные, политические составляющие в сторону комплексного анализа.
Таким образом, литературный дискурс конца XX века, до сих пор понимаемый как реализация асоциальной речи, оказывается социальной стратегией письма. Обращение к ней существенно расширяет характер источниковой базы теоретических исследований российской культуры. В силу приобщения литературы того периода, когда развитие постмодерна становится нормой, в круг источников культуры, необходимым выглядит анализ особенностей философско-литературного направления, к которому традиционно относят работы наиболее ярких российских писателей конца XX века - В. Сорокина, В. Ерофеева, В. Пелевина. Апелляция к написанному Т. Толстой, Вен. Ерофеевым, Л. Рубинштейном, Д.А. Приговым увеличивает аналитический потенциал сопоставления пространства письма, которое называют «современной литературой», «литературой постмодерна», «постсоветской литературой».
Сегодня культурологическое изучение стратегий письма авторов, которые изначально задавали тон и постмодернизму как литературному направлению, и постмодерну как культурной формации, актуально и необходимо. Подобная аналитика позволяет продемонстрировать возможности
понимания этого нового, не-классического и, в силу этого более успешного, литературного опыта как исследования культуры.
Степень изученности проблемы
Обсуждение тематики травмы, на которую ориентирована русская литература, не может осуществляться вне соответствующего дискурса. В дискурс травмы включено несколько способов дескрипции понятия «травмы», которое оказалось в центре внимания академической культуры с начала XX века.
Во-первых, это т.н. теория травмы, совокупность концепций исследования культуры, являющаяся одним из самых динамичных разделов гуманитарного знания в последнее десятилетие XX века. Этот аналитический опыт основан на результатах психоаналитических штудий 3. Фрейда и О. Ранка и потому всегда маркирован следами патопсихологических рассуждений о травме. К эпистемологическому наследию теории обращаются зарубежные исследователи и их отечественные коллеги, активно включенные в практики международной научной коммуникации: историки Э. Сантнер, Д. ЛаКапра, К. Мерридейл, антропологи С. Ушакин, О. Бартов, Дж. Митчелл, филологи М. Липовецкий, М. Эпштейн, К. Карут, социологи Е. Рождественская, Е. Трубина, П. Штомпка, философы культуры М. Рыклин и Е. Добренко.
Представители отечественного гуманитарного знания, работающие в рамках теории травмы, довольно немногочисленны. Их рассуждения о травме в контексте русской литературы и культуры зачастую ограничены рассмотрением тоталитарного дискурса, что является упрощением проблематики. В такой ситуации важнейшим шагом на пути осмысления традиции теории травмы в российских гуманитарных исследованиях стал подготовленный С. Ушакиным и Е. Трубиной русскоязычный сборник научных статей «Травма: Пункты» (М., 2009), в который вошли многие канонические для этого междисциплинарного пространства тексты.
Впрочем, гегемония психоаналитической оптики в работах ученых этого направления гуманитарных исследований приводит к осознанию тупиков строго конвенционального понимания предмета изучения. Лидерство интеллектуального капитала теории травмы как конструкта, предназначенного для анализа текстов «о травме», оказывается практически недоказуемо.
Другим элементом дискурса травмы стоит считать позицию тех ученых, которые, подойдя к вопросу о травме как базовом элементе истории и культуры, предпочли не углубляться в исследование ее природы. Среди этих аналитиков можно выявить представителей т.н. «онтологии различия»: М. Фуко, позднего Р. Барта, Ж. Делеза и Ф. Гваттари, Ж. Деррида, позднего Ж.
Лакана, Ж.-Ф. Лиотара и их наследников, в частности С. Жижека. Основной их стратегией, при различиях используемых инструментов, стало изучение фрагментаций культуры как различных граней травмы.
Базисом этих высказываний служат работы исследователей культурной памяти (М. Хальбвакс, Я. Ассман), философов (Ж. Батай), социологов культуры (П. Бергер, Т. Лукман), историков (X. Арендт, Дж. Агамбен). Суждения перечисленных теоретиков, формулируемые без постоянного возвращения к достижениям психоанализа, вращаются вокруг проблем генезиса современной культуры, выстроенной на различных «посттравматических симптомах».
Междисциплинарный характер работы, продиктованный необходимостью сформулировать культурологический взгляд на русскую литературу конца XX в., стал основанием для привлечения значительного корпуса литературоведческих исследований. Подобная тематика широко освещена в филологических по своим методам трудах Н. Бабенко, О. Богдановой, В. Курицына, Н. Маньковской, Л. Сафроновой, И. Скоропановой. Не в меньшей степени поэтика литературы постмодерна исследована в работах И. Смирнова, А. Аствацатурова, тяготеющих к феноменологическому осмыслению письма в связи с обращением к проблематике теории и истории культуры.
Углубленное рассмотрение вопроса о природе и роли текста связано с обсуждением семиотики культуры, а также с дискуссией о статусе современной литературы как социального института. В первом случае наиболее репрезентативны в контексте проблем диссертационного исследования тексты Ю. Лотмана, М. Бахтина, А. Панченко, Г. Кнабе, Г. Гачева, И. Кондакова, во втором - достижения социологии культуры, в частности, труды Б. Дубина, Л. Гудкова и О. Демидовой.
Проблематика исследования новой и новейшей отечественной литературы требует апелляции к мнениям литературных критиков и/или профессиональных филологов, являвшихся непосредственными соучастниками процесса письма: А. Гениса, Н. Ивановой, А. Гольдштейна, В. Мартынова и Б. Соколова.
Объектом исследования является русская литература конца XX века и в первую очередь - творчество писателей (В. Ерофеев, В. Сорокин, В. Пелевин), воспринимаемых сегодня как наиболее успешные представители литературы постмодерна, в диалоге с которой, в свою очередь, рождаются множества иных «литератур», в том числе тексты культуры.
Предметом исследования выступают специфические стратегии художественного исследования культурной травмы, применяемые в произведениях названных авторов.
Хронологические рамки исследования, заявленные в названии диссертации как «конец XX века», определяют источниковую базу исследования.
В нее включены, прежде всего, программные произведения писателей-постмодернистов В. Сорокина, В. Ерофеева, В. Пелевина, а также близких им литераторов и художников (Т. Толстая, Л. Рубинштейн, Д. А. Пригов, И. Кабаков, Н. Копейкин, Г. Брускин), созданные в период конца 1970-1990 годов. В качестве источников выступили эссе, интервью представителей арт-сообщества, чьи мнения принципиально дополняют анализируемые магистральные стратегии художественного исследования травмы.
Также источниками для данной диссертационной работы послужили экранизации произведений В. Сорокина, В. Ерофеева и В. Пелевина: «Москва» (реж. А. Зельдович), «Копейка» (реж. И. Дыховичный), «Жизнь с идиотом» (реж А. Рогожкин), «Ничего страшного» (реж. У. Шилкина). Эти визуальные тексты, являющиеся результатом медиализации литературы в последнее десятилетие XX века, существенно расширили авторскую аналитику травмы.
Наконец, некоторые произведения писателей-модернистов (А. Аверченко, М. Зощенко, Д. Хармса, А. Платонова, В. Шаламова, В. Астафьева) также вошли в корпус источников диссертационного исследования. Обращение к ним позволило продемонстрировать взаимосвязь культурфилософских размышлений в русской литературе.
Цели и задачи исследования
Целью является всестороннее рассмотрение использования метафоры травмы в отечественной литературе конца прошлого века.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
- проанализировать накопленный в социогуманитарном знании опыт аналитической дескрипции травмы;
- выделить различия в академических подходах и литературных стратегиях изучения травмы;
- выявить тенденции обращения литературы модерна к травме как метафоре пережитого болезненного антропологического опыта;
- обнаружить преемственность литературных стратегий модерна и постмодерна при обращении к проблематике культурной травмы;
- исследовать аналитические возможности использования травмы как метафоры в отечественной постмодернистской литературе конца XX в.
Методологическая база исследования
Для изучения стратегий художественной аналитики травмы в отечественной литературе конца XX века необходимым выглядит обращение к накопленному теорией травмы междисциплинарному опыту. Таким образом, в проблемное поле работы включается аналитический инструментарий психоанализа и психиатрии, исторического знания, антропологии, филологии и литературной критики, философского анализа, в т.ч. структуралистского и постструктуралистского.
Так, наиболее репрезентативными положениями теории травмы в контексте диссертационного исследования становятся: а) исследования историка Д. JIaKanpa, который является одним из пионеров изучения исторической и биографической травмы. В работе «Writing History, Writing Trauma» он вводит теоретические концепты «отыгрывания» (acting out) и «проработки» (working through), с помощью которых предлагается описывать специфику рефлексии травматического опыта; б) позиция С. Ушакина, в статьях, монографии «The Patriotism of Despair: Nation, War and Loss in Russia (Culture and Society after Socialism)» и составленным им сборнике «Травма: Пункты» резюмирующего опыт исследования травматики культуры, в том числе и на примерах из российской действительности конца XX в.; в) взгляды М. Липовецкого, в книге «Паралогии: Трансформации (постмодернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов» предпринявшего попытку фундаментального изучения травмы в русской литературе XX века. Особое внимание здесь уделяется соответствующим стратегиям литературы модерна и постмодерна, что крайне важно для диссертационного исследования; г) размышления М. Рыклина, в работах «Свобода и запрет. Культура в эпоху террора», «Пространства ликования. Тоталитаризм и различие» напрямую не излагающего проблемы травмы культуры, но формирующего синонимичные представления о «террористичности» русской культуры.
Среди классических работ, относящихся к дискурсу травмы, интерес представляет постфрейдистское наследие Ж. Лакана, в частности, его поздняя работа «Имена Отца» и семинары, изданные как «Изнанка психоанализа (Семинары. Книга 17. (1969-70))». Немаловажным в контексте обсуждения травматичности реальности, на которую указывает Лакан, становятся высказывания словенского культуролога и социального философа С. Жижека, в работах «О насилии», «Возвышенный объект идеологии», «Размышления в красном цвете» творчески применившего методологию и наработки
психоаналитика для анализа природы культурной травмы. Риторика Жижека основана на уверенности в связи травмы с феноменами всепроникающего и идеологически разнообразного насилия и с особенностями идеологии как фантазматической конструкции.
Наконец, методологически необходимым при заявленной специфике исследования является обращение к постструктуралистскому наследию Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Их коллективные исследования (оба тома «Капитализма и шизофрении», работа «Что такое философия?»), равно как и исследования только Ж. Делеза («Логика смысла», «Критика и клиника») позволяют обратить внимание на пористость, проницаемость смысловых конструкций культуры. В контексте дискуссии об ускользающей от означивания травмы, этот поворот сюжета раскрывает множественные способы ее описания, тяготеющие не к теоретической устойчивости, но к метафорической изменчивости. Выбор такой стратегии письма позволяет отказаться от повторения уже привычных (но не всегда удачных) строгих понятийных структур в пользу языка художественной практики, наглядно травму демонстрирующего.
Обращение к столь широкому кругу исследований дает возможность применить совокупность различных подходов и методов для решения поставленных проблем: культурологического, филологического, психоаналитического и постструктуралистского. Так, с их помощью удается обнаружить многочисленные характеристики травмы, разрозненно присутствующие в анализе, приемлемом для разных исследовательских пространств, и критически осмыслить их в контексте объекта исследования.
На защиту выносятся следующие положения:
• Несмотря на накопленный социогуманигарным знанием опыт исследования травмы, попытки ее представления в терминологически устойчивых рамках не оказываются исчерпывающими. Академические дискуссии, основанные на психоаналитической оптике, зачастую сводятся к констатации невозможности корректного объединения опыта пережитого, высказанного и понятого, что продиктовано осознаваемой аналитиками принципиальной незавершаемостью травмы;
• Успешным подходом к изучению травмы, который востребован литературой постмодернизма, становится иная оптика. Писатели фокусируют свое внимание на пережитом болезненном антропологическом опыте, отражающемся в событиях, которые имеют статус явлений, определяющих специфику истории культуры. Таким образом, постмодернистская литература, ранее традиционно представляемая видом асоциального письма, оказывается
пространством аналитики социального, исследовательские стратегии которого соответствуют переменчивости предмета описания;
• Авторы, чье творчество включено в объект нашего исследования, в силу презумпций постмодерна, в отличие от ученых не претендуют на объективность и точность, но основывают свои аналитические практики на выстраивании метафорики травмы. Осмысляя существование носителей культуры в контексте конвенционально не описываемых болезненных событий, писатели производят тексты, более полно, чем принятый академический дискурс, раскрывающие суть травмы. В отличие от научной оптики, литература позволяет, сохраняя за травмами культуры их неартикулируемую природу, все же образно их осмыслять;
• В рамках литературных стратегий исследования травмы, которыми пользуются В. Ерофеев, В. Сорокин, В. Пелевин и др., она может пониматься трояко: а) как единовременное событие, резко меняющее жизнь носителей культуры; б) как цепь событий, имеющих стойкое воздействие на социум и в) как идентификационная ситуация, в которой страдания становятся тождественны образу жизни. В совокупности этих ликов травмы рождается представление о ее пористой структуре и появляется возможность ее разносторонней, а, значит, более полной, рефлексии;
• Представители литературного дискурса конца XX века, рассматривая собранный за прошлое столетие культурный и антропологический опыт как опыт множественной травмы, борются со стратегиями забвения и ностальгии, травестируя их. Их попытки указать на травму как структурную и/или историческую недостаточность культуры/цивилизации задействуют разные способы работы памяти (например, работу скорби или нарративный фетишизм). В результате сущность отечественной культуры представляется в форме антимира, запрограммированного на травмированность;
• Результат использования подобных техник далек от «излечения» носителей культуры. Однако авторские стратегии письма порождают возможность осмысления онтологических характеристик травмы и обеспечивают снижение степени ее болезнетворности;
• Рассматриваемые литературные стратегии описания культурной травмы не предлагают способов ее изживания, но опираются на смеховое начало. Вместо попыток упорядочивания катастроф как череды негативных явлений, писатели фиксируют травму как необходимый карнавальный и в этом смысле «позитивный» для инвариантных ментальных основ культуры опыт.
Научная новизна исследования
Диссертация является перспективным исследованием, развивающим отечественную традицию дискурса травмы. Если среди представителей западных гуманитарных дисциплин это проблемное поле является многообещающей полипредметной научной областью, то в только нарождающихся аналогичных отечественных исследованиях широко распространено лишь изучение травматологии «советского». В такой ситуации наша диссертация предлагает расширить соответствующую аналитику за счет дискуссий о разнообразной, не только порожденной советскими практиками, культурной травме.
Диссертация является первым прецедентом многоаспектного включения анализа текстов русской литературы конца XX в. в набирающую силы полемику о природе культурной травмы. Так, предлагаемое изучение произведений писателей постмодерна в контексте дискурса травмы демонстрирует больший междисциплинарный потенциал, нежели существующая сегодня литературная критика или господствующий филологический подход. Кроме того, исследование дополняет практически единичные существующие опыты анализа отечественной литературы модерна и постмодерна как социального письма, которое рассматривает культуру России с помощью метафоры травмы и по своим возможностям превосходит в этой аналитике иные оптики изучения теории культуры.
Аккумулированные в работе наблюдения за спецификой современной литературы, позволяют прочитать ее как генетического потомка прежних форм культурной рефлексии. Так, литература по сравнению с социогуманитарным знанием, оказывается заметно более упорной в решении «проклятых вопросов» современного сознания и современной идентичности, к которым относится проблема травмированности культуры. Кроме того, в поэтике постмодернизма выделены варианты понимания культурной травмы, которые, не претендуя на устойчивость своих форм, позволяют обнаружить ее незавершаемость. Такой подход формирует представление о принципиальной несводимости понятия травмы к манипулятивным моделям, с помощью которых травму зачастую трактуют как кризис идентичности.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в представлении метадисциплинарного взгляда на объект, ранее подвергавшегося лишь точечному дисциплинарному анализу. В диссертации изучение выделенного объекта исследования указывает на такие стратегии письма, с помощью которых на разных этапах истории происходит оформление
познавательной рефлексии культуры. Полученные выводы позволяют проследить развитие самобытной аналитической мысли, которая не вторична по отношению к иным философским дискурсам, но обретает свою силу в диалоге с ними.
Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке широкого спектра курсов, посвященных изучению современной литературы, современной культуры, общества и искусства. Результаты исследования также могут послужить базой дальнейших научных разработок дискурса травмы, представленного в отечественной академической культуре довольно слабо.
Апробация результатов исследования
Материалы диссертации докладывались автором на международных и межвузовских конференциях. Среди них:
• Международный научный симпозиум «Гуманизм XXI столетия: К идеологии самосохранения человечества» (Санкт-Петербург: СПбГУ, 2009; доклад «"Русская метафизика" как национальная мифология»);
• Первая международная научно-практическая конференция по культурологии «Культурное наследие России: изучение и сохранение» (Нижний Новгород, 2009; доклад «Культурная память в современной России: "холодно" / "горячо"»);
• Конференция-семинар молодых ученых «Науки о культуре в XXI веке» (Москва: РЖ, 2009; доклад «"Мерцание" мифа: современное литературное мифотворчество»);
• Всероссийская научно-практическая конференция «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок» (Санкт-Петербург: СПбГУП, 2010; доклад «Коммунальный постмодернизм: эстетика клубной культуры интеллектуалов»);
• Научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Философия. Язык. Культура» (Москва: ГУ-ВШЭ, 2010; доклад «К пониманию постсоветского человека: аналитика "цивилизации слова" в русском литературном постмодернизме»);
• Конференция кафедры истории и теории культуры РГГУ. Секция «Археология "советского"», организованная и проведенная диссертантом (Москва: РГГУ, 2010; доклад «Симптоматика постсоветского в драматургии В. Сорокина: шизофрения как идентичность»);
• Международная конференция «Искусство в эпоху надлома империи: религиозные, национальные и философско - эстетические аспекты» (Москва: ГИИ, 2010; доклад: «Феномен культурной травмы в эпоху надлома империи»);
• Третий Российский культурологический конгресс с международным участием. Секция «Креативность в пространстве традиции и инновации» (Санкт-Петербург, 2010; доклад: «Культурологические проекты современной литературы: две волны русского постмодернизма (Вен. Ерофеев, В. Сорокин)»);
• Конференция кафедры истории и теории культуры РГГУ. Секция «Границы и структуры современности» (Москва: РГТУ, 2011; доклад «Современность как множественная травма: ускользание памяти в русском литературном постмодернизме»);
• Аспирантская научная конференция на английском языке «How we think cultural studies today: new challenges», проведенная и организованная диссертантом в сотрудничестве с кафедрой Истории и теории культуры, Кафедрой иностранных языков, Управлением аспирантуры и докторантуры РГГУ (Москва: РГГУ, 2011; доклад: «"What was It Called?": Essays on Russian Culture by Sasha Sokolov»);
• Международная научная конференция «Культура глобального информационного общества и перспективы модернизации России» (Москва: МосГУ, 2011; доклад: «Поиски новой идентичности в постсоветской литературе»);
• Круглый стол «Социальное функционирование искусства в начале XXI века» (Москва: ГИИ, 2011; доклад: «Русская постмодернистская литература как сообщество утраты (В. Сорокин, В. Ерофеев)»);
• IV Международная научная конференция РАИЖИ «Частное и общественное: границы, наполнение, политики интерпретации в прошлом и настоящем» (Ярославль, 2011; доклад: «"Таких женщин не бывало и не могло быть в старое время": советская женщина глазами постмодернистов»);
• Круглый стол «Сакральное и секулярное в культуре XX - начала XXI вв.» (Москва: ГИИ, 2011; доклад: «Писатель в России конца XX века: новый юродивый или клиницист?»).
По теме диссертации опубликовано пятнадцать статей и тезисов докладов, общим объемом 6 а.л., в том числе три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ - рецензируемом журнале «Вестник РГГУ» (серия «Культурология, искусствоведение») и рецензируемом журнале «Ярославский вестник» (т. 1 «Гуманитарные науки»).
Еще пять статей, в том числе одна статья в издании, рекомендованном ВАК РФ - рецензируемом журнале «Вестник РГГУ», находятся в процессе публикации.
Идеи и материалы диссертации нашли отражение в педагогической практике (чтение лекций и проведение семинаров для студентов-культурологов
РГГУ по курсам «История культуры России», «Эстетика» за 2010-2011 учебный год, проведение лекций, семинаров и факультативных занятий для учащихся параллелей 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов ГОУ гимназии № 1512 по предметам «Основы социокультурного проектирования», «История мировой культуры XX века», «Основы исследовательской деятельности» с 2010-2011 учебного года и по настоящее время).
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Структура диссертационного исследования
Диссертация состоит из Введения, 3-х глав (8 параграфов), Заключения, Списка источников и литературы, что определяется целью и задачами исследования и соответствует логике решения поставленных проблем. Первая глава называется «Дискурс травмы: переход непроходимой границы», вторая -«Современность как множественная травма», третья - «Культурная травма в литературном процессе конца XX века: между отсутствием и утратой».
Во Введении обоснована актуальность и степень научной разработанности темы исследования, поставлена научная проблема, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, обозначены методологические принципы работы и основные положения, выносимые на защиту, обоснована ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
I глава «Дискурс травмы: переход непроходимой границы» носит по преимуществу теоретический характер и содержит анализ составляющих дискурс травмы междисциплинарных пространств.
В параграфе 1.1. - «Клиника уя. Критика: психиатрия, психоанализ и Реальное травматичное» - речь идет о краеугольных характеристиках травмы, которые выработаны психиатрией, психоанализом и постпсихоанализом, т.е. теми дисциплинарными областями, в которых впервые с помощью научного инструментария был рассмотрен вопрос о природе травматических переживаний как человека, так и общества.
«Травма» в культуре подвергается множественным актам дисциплинирована - сначала как сакральная нехватка, требующая исповедальной «обработки» и изоляции, затем как болезнь, откликающаяся на медицинские и околомедицинские манипуляции, и, наконец, как специфический элемент психологической защиты, формирующий
необходимость философской рефлексии и/или идеологической обработки. «Травма», процесс «рождения» которой неотделим от дискуссий о девиациях, оказывается ядром различных модусов нормализации, лишь в совокупности характеристик проявляя свою природу. До 3. Фрейда травматическое расстройство подвергалось анализу на основаниях религиозного Порядка, затем - в контексте развивающейся психиатрической науки. Для родоначальников психоанализа она понимается уже как нарушение механизмов психической защиты от сильнейших потрясений различного генеза, к которым человек оказывается не готовым ни культурно, ни социально.
Попытки 3. Фрейда и его учеников объяснить конвенционально травму как нарушение нормативной целостности антропологического опыта оказались неудачны: непосредственная травматизация осталась недостижимым и непроницаемым ядром, вокруг которого строится память и повествование. Этот обнародованный Фрейдом первый тупик нарождающегося дискурса травмы -невозможность конечной ее концептуализации - стал тем вызовом науке, который позволил существенно расширить соответствующую аналитику.
Следующее поколение психоаналитиков - постфрейдисты, и в их числе Ж. Лакан - попытались представить непознаваемость травматического начала как характеристику любой культуры, на которой она строится и которую, соответственно, можно подвергнуть анализу. Так, Ж. Лакан предложил концепцию трех регистров (Воображаемое-Символическое-Реальное). В соответствии с этой теорией закрытая для дешифровки травма есть один из модусов Реального, т.е. такой психической инстанции, которая включает в себя потребности, импульсы и стремления, необходимые человеку, но представляющие для него опасность. Реальное Лакана - непрозрачное ядро культуры, совокупность точек экстремума, которая воспринимается как предел реальности, опыт ее радикальных нарушений. При этом ее составляющая -травма - не дана в рационализированной форме и сопротивляется символизации.
В результате психоанализ снова приходит к осознанию того, что при отсутствии в языке, как научном, так и обыденном, однозначных слов для рационального обозначения пережитого опыта, молчание выступает в роли единственно возможного маркера боли. Память о пережитом в подобной ситуации проблемна, поскольку культура наполнена страхом перед тем, что невозможно означить и, следовательно, предлагает идеологические конструкты, призванные скрыть прорехи Реального в повседневности общества. В результате травмы, по мнению одного из наследников Ж. Лакана -С. Жижека, - кажутся разрешенными, хотя остаются до конца не артикулированными, не прочувствованными. Эта мнимая очевидность травмы
делает опыт конкретных нарушений еще опаснее, поскольку идеологическое упрощение превращает травму в непроговариваемый, но подспудно функционирующий образ культуры.
В итоге психоанализ признает, что профанация травмы, во многом, является следствием работы аналитических инструментов классической науки. Однако в этом проблемном поле отсутствуют заметные попытки кардинальных решений при столкновении с Реальным, которое ставит привычное существование под угрозу. Радикальные призывы к немедленному действию таят в себе антитеоретический посыл и могут обернуться еще большей катастрофизацией, которую психоанализ призван снимать, а не провоцировать.
Другой точки зрения придерживаются т.н. «критики» (Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар), утверждающие, что попытки означить Реальное, создать письмо, объединяющее теоретическую рефлексию и внетеоретическое переживание, позволяют наделить травму элементами Символического регистра, а значит - увидеть ее. В качестве носителей такой стратегии Ж. Делез называет писателей, которые, создавая выходящие за рамки представлений о норме тексты, наполненные травматическими переживаниями, обладают возможностью демонстрировать вытесненное. Их нападение на язык является способом защиты культуры от гегемонии конвенционного, которое не работает при попытках рассказать о травме. Такое свидетельство необходимо, поскольку метафорически выявляет природу травмы тогда, когда классический научный и «наивный» дискурс бесполезны, и позволяет читателям увидеть скрытые культурные механизмы.
Во втором параграфе первой главы - «История по ту сторону травмы: память и феномен свидетельства» - обсуждаются традиции исторической оптики культурной травмы, которая вырабатывается в ответ на трудности психоаналитической дескрипции ключевого понятия.
В качестве основных стратегий исторического исследования культурной травмы рассматриваются два способа ведения дискуссии: обсуждение может строиться на анализе травмирующих культуру актуальных событиях, либо - на выявлении «травмогенного» характера культуры в целом, имеющего свои предпосылки и последствия. Если первый подход привлекает своей конкретностью, то второй, напротив, выглядит более аморфным. Однако именно представление об укорененности травмы в тело культуры, о необходимости ее «негативного» начала (в виде определяющих развитие катастроф) для «позитивного» развития цивилизации, позволяет минимизировать ангажированность, неизбежную при анализе недавно произошедших, якобы исключительных, катастроф. Таким образом, вторая стратегия исследования, основанная на взгляде на современную культуру через
призму определяющих ее узловых точек и признаваемая рядом историков и философов культуры, дает возможность увидеть связь культурной травмы с проблематикой коллективной памяти.
Здесь своевременным выглядит возвращение к проблеме свидетельства, поскольку именно свидетель, очевидец оказывается проводником памяти и ее элементов, связанных с травмой. Его воспоминания, тяготеющие не к реальности, но к Реальному, не всегда вписываются в официальные и/или ревизионистские попытки исторического письма, образуя пространство неких маргиналий. В них норма и отклонения сближаются для образования полифонической, но цельной идентичности. Так, приводимые в качестве примеров «свидетельских показаний» тексты Дж. Оруэлла и Э. М. Ремарка демонстрируют механизмы проявления Реального, травматику господствовавших тоталитарных по сути практик дисциплинирования, которые, во многом, стали определяющими для развития культуры и цивилизации XX века.
В то же время знакомство с такого рода текстами порождает ощущение исключительности испытанного опыта и соответствующего нарратива. Напротив, произведения, сознательно говорящие о катастрофах как части запланированного плана культуры, построенные на обытовлении Реального, по мысли Ж. Делеза, более всего подходят к изломам и лакунам экстремальных событий, на которых культура держится. По этой причине серьезным вкладом литературы в развитие дискурса травмы являются свидетельства, написанные ее языком, т.е. «расшатанной» речью, построенной на логике бессмыслицы. Демонстрируемый в таких произведениях выход за пределы познаваемых смыслов формирует новые пласты культурной памяти и новой проблематизации истории.
В третьем параграфе первой главы - «"Частный случай" дискурса: травма в отечественной культуре XX века» - продолжается рассмотрение травмы культуры с учетом совмещения исторического контекста и системной культурологической оптики. В травме предлагается увидеть многогранное явление, включающее в себя: а) единовременное событие, резко изменившее жизнь сообщества и его представителей, б) деструктивный процесс, цепь событий и переживаний, которая оказывает стойкое воздействие на общество и в) идентификационную ситуацию.
По мнению автора, косвенно подтверждаемому неоднородностью дискурса травмы, варианты описания культурной травмы в России XX века могут базироваться на выделении различных катастроф, являющихся началом разрушительных процессов в культуре. Однако все такие модели будут построены не на строгой стадиальной логике понимания культуры, а на
предположении, что современную культуру стоит рассматривать как пористое пространство, которое поглощает любые, даже взаимоисключающие множества. Таким образом, культура творится с учетом принципов нарезки и множественности, формируя себя как ответ на экстремальные события. Следовательно, травму стоит понимать как краеугольный камень повседневности, рефлексия которого необходима для осознания механизмов реализации культуры.
Так, анализ частного, отечественного, случая дискурса культурной травмы неизменно оборачивается исследованием складчатой, губчатой природы травмы XX века. На материале литературного модернизма XX века становится заметным, что у разных по эстетике, художественному методу писателей (например, А. Аверченко, М. Зощенко, Д. Хармса, А. Платонова, В. Астафьева, В. Шаламова) травма манифестируется как драматический антропологический опыт. Эти переживания основаны на болезненности резких преобразований и переходов, к которым человек оказался не готов и которые становятся заметны на примере изломов повседневных практик.
Ризоматичность травмы не позволяет определить ее как термин. Стратегии ее артикуляции как метафоры, напротив, выглядят многообещающе. В такой ситуации константным для культурной травмы XX века остается: а) ее способность пронизывать все практики и замещать своей болезнетворной природой любые механизмы коммуникации, б) ее «отложенный» характер и в) ее тоталитарная природа, уходящая корнями в репрессивный характер культуры. В совокупности этих черт можно обнаружить травму как бесконечность соединений, порождающую ощущение глубинного константного поражения культуры.
В результате диалог авторов эпохи модерна позволяет текстам, являющимся единичными свидетельствами неустроенности быта, падения культуры и т.д., превратиться в пока интуитивную художественную аналитику культуры, в которой современность обретает свойства множественной травмы во всех своих аспектах - семиотическом, материальном, социальном.
II глава диссертации - «Современность как множественная травма»
- дает представление о тех стратегиях, с помощью которых наследники литературы модерна - писатели-постмодернисты - формулируют возможности для свободной, но. последовательной художественной рефлексии травмы в модусе множественности. Сознательное рассеивание, которому подвергается травма в этой литературе, тяготеющей к поэтике не-нормативности, позволяет избежать как тупиков академического изучения предмета, так и фатализма литературы модерна.
В параграфе 2.1. «Травма как константная тема современности: искусство забывания» демонстрируется связь аналитики авторов новейшей литературы и ее предшественников, рассуждавших о множественных и повсеместных поражениях культуры.
При этом литературоведческие дискуссии о том, каким терминологически устойчивым словом следует обозначить довольно аморфное тело современной литературы, представлены как непродуктивные. В параграфе литературу конца XX века предлагается рассматривать как пространство, в котором «постсоветское» качество писательских жестов соседствует с пониманием современного творчества как постмодернистского акта. По наблюдению критика Н. Ивановой, следующей в своих размышлениях о постмодернизме за традицией, идущей от работ Ж.-Ф. Лиотара, режим «пост-» указывает на отстояние современной литературы от прежнего модернистского опыта, но в форме диалога. Так, формируется преемственность модернистской и постмодернистской критики реальности как «травмоопасного» пространства. В этой критике постмодерн оказывается ответственным за выработку специфического письма для артикуляции «непредставимого».
Это письмо призвано разрушить механизм трансляции травмы и утверждения болезненной идентичности в кризисный период истории -ностальгию. Как заметил историк Д. ЛаКапра, под ностальгией скрывается два лика травмы: «отсутствие» (absence), т.е. структурная травма «прорехи» в ткани культуры, для компенсации которой не хватает имеющегося культурного опыта, и «утрата» (loss, lack), т.е. историческая травма ощущения пс/терянного «рая», возвращение к которому возможно при избавлении от виновных «других».
В таком контексте произведения В. Сорокина, В. Ерофеева и В. Пелевина направлены на демонстрацию того, какие опасности содержит в себе неизбежное слияние структурной нехватки и исторических, культурных особенностей цивилизацию. Оно порождает желание вспоминать, прибегая к ностальгии. Это болезненное стремление к переписыванию истории, созданию псевдосвидетельств и псевдовоспоминаний обозначается, вслед за У. Эко, как «искусство забывания» (Ars Oblivionalis). Обращение к такой мнемонической стратегии в официальном или обыденном дискурсах «о травме», от которых постмодернисты отмежевываются не менее активно, чем от академических практик объяснения травмы, приводит к конструированию стереотипных «фактов» прошлого, мешающих его пониманию.
В ответ писатели формируют представление о безуспешности применяемых попыток замаскировать травму. Эта технология построена на демонстрации того, как забывание проговаривается о культурном контексте
множественной травмы, в котором оно осуществляется. Изучение аналитических возможностей текстов В. Сорокина, В Пелевина, В. Ерофеева, экранизаций их произведений, а также художественных и поэтических работ их коллег - И. Кабакова, Д. А. Пригова, Г. Брускина, Т. Толстой - подтверждает факт необходимости литературного «сегмента» дискурса травмы для реализации полноценного исследовании феномена травмы. Именно литература обладает возможностями легитимации голосов тех, кто, будучи жертвой катастроф и от того лишенный возможности свидетельствовать, может внерационально артикулировать травму. Эта образность, недостаточная для строгого научного анализа, ложится в основу художественной аналитики.
Успешность такой ответственной работы памяти основана на декларируемом писателями нежелании преодоления травмы, к которому стремится теория. Напротив, литераторы предлагают обществу, которое уже нагружено травматическими воспоминаниями, пережить их заново. Задачей писателей становится превращение забываемого Реального культуры в очевидный, открытый для познания опыт, который маркирует собой не только современный этап развития культуры, но и обращен к ее инвариантным основам.
В следующем параграфе диссертации - 2.2. «Литературные стратегии выживания: от "работы скорби" до "нарративного фетишизма"» - более подробно описываются те мнемонические стратегии постмодернистской аналитики, которые позволяют развиваться непрофанирующим формам припоминания культурной травмы.
Соответствующие высказывания писателей располагаются в пространстве между «памятью-отыгрыванием» (acting out) и «памятью-проработкой» (working through). По мнению историка Д. ЛаКапра, предложившего такие обозначения для магистральных мнемонических практик работы с травмой, в первом случае аналитическое письмо необходимо для переноса проблемы в дискурс, в котором происходит постоянная ресемантизация и реактуализация переживаний. Вторая стратегия основана на техниках избавления носителей культуры от стереотипов, на создании новой реальности. Она возможна в той культуре, каждый носитель которой ощущает свою ответственность перед ее непрерывностью и, соответственно, континуальностью ее Реального. Отечественный литературный постмодернизм^ в силу отсутствия в российском обществе традиции ответственного отношения к культуре, может предложить только такие стратегии ее выживания, которые принадлежат карнавальному отыгрыванию и, следовательно, признанию.
Среди вариантов художественной репрезентации травмы, незримо структурирующих процесс соответствующей аналитики, целесообразным
оказывает выделение «работы скорби» и «нарративного фетишизма», легитимации которых способствовал Э. Сантнер. В письме постмодернистов эти стратегии используются в их фундаментальном единстве, поэтому художественные тексты освобождены от необходимости терминологических построений и однозначных экспликаций травмы. Таким образом, анализ культурной травмы в разнообразных источниках (работах Н. Копейкина, текстах В. Ерофеева, Вен. Ерофеева, В. Пелевина, В. Сорокина) варьируется от а) переработки и привыкания к реальности травмы путем ее припоминания в «диагностических» дозах до б) создания такого высказывания, которое призвано стереть следы произошедшей катастрофы. Последняя стратегия припоминания парадоксальна, но продуктивна. В случае ее использования писатель имеет возможность, отказавшись от привязки к конкретному событию, приоткрыть завесу вневременного онтологического и антропологического опыта, которым является травма.
В результате множественная травма современности, на которой основано письмо постмодерна, открывает возможности аналитики Реального, свободной от присущих академическому исследованию ограничений. Травма оказывается той складкой, с помощью которой можно объединить опыт уже пережитого, переживаемого сейчас и того, что еще только предстоит.
III глава диссертации - «Культурная травма в литературном процессе конца XX века: между отсутствием и утратой» - продолжает анализ природы культурной травмы, который был начат ранее как исследование механизмов сохранения континуальности культуры. Если до сих пор основным фокусом внимания диссертации оставались стратегии, с помощью которых писатели-постмодернисты удерживали травму в пространстве памяти, то далее обсуждению подлежат те способы презентации травмы как метафоры, которые составляют основу социальной аналитики литературы постмодерна.
Первый параграф третьей главы «Структурная травма отсутствия как гносеологическая пропасть» посвящен анализу структурных причин травмированности культуры. В ответ на ощущение слома идентичности, которое постепенно нарастает в позднесоветскую эпоху и достигает своего пика в первые постсоветские годы, писатели указывают на то, что единственным объединяющим носителей культуры элементом оказалась пустота. Так, привычка к пустоте - идеологических клише, лозунгов, вообще любых дискурсивных практик советского - по оценке В. Сорокина, породила поколения людей, смирившихся с несовершенствами культуры и собственной негативной идентичностью.
Впрочем, реакция на семантические лакуны культуры в современной литературе не всегда сопряжена с интонацией осуждения. Так, В. Пелевин рассматривает культурную травму как необходимый позитивный опыт цивилизации. Несмотря на то, что травма, даже в неотрефлексированном виде, занимает пространство культуры, которое может быть отдано под позитивные ценности, ее опыт, как демонстрирует писатель, необходим. В случае нехватки ценностей и ориентиров, она служит и подпоркой культуры, и вызовом ее витальности. В результате носители культуры неизбежно становятся обладателями болезненного травматического опыта и вынуждены осмыслять это вторжение Реального в свои повседневные практики.
Очевидным представляется тот факт, что постмодернизм, тяготеющий к множественности, остается верен стратегиям фрагментации и при формировании письма травмы. Основанное на идее использования травмы как метафоры для исследования истории и теории отечественной культуры, такое специфическое аналитическое письмо не претендует на тождественность самому себе. В контексте обсуждения природы травмы-как-отсутствия, присущая ей пустота, нехватка определенных характеристик культуры может расцениваться как небытие (В. Сорокин, В. Ерофеев). Однако не меньшее значение для художественной аналитики травмы играет позиция В. Пелевина, не рассматривающего гносеологическую пустотность в качестве повода для сожаления. Формирование ощущения травмированности культуры возникает, по его мнению, только в том случае, если носитель культуры жаждет конвенционально описать мир, принципиально тяготеющий не к познаваемому Символическому, но к нелокализуемому Реальному.
В результате такого напряженного диалога, представители современной литературы и их критики свидетельствуют о необходимости формирования сообществ утраты, т.е. таких понимающих аудиторий, которые готовы принять и вписания поливариантные поражения культуры в структуру ее настоящего. Этот болезненный шаг - первый на пути конструирования многогранной отечественной истории и культуры, необходимость которого признается в различных сегментах дискурса травмы.
Второй параграф третьей главы «Историческая травма утраты: перспектива отверженных» обращается к другому аспекту Реального - к травме-как-утрате.
Примечательным является тот факт, что литература постмодерна использует эффекты реальности, т.е. апеллирует к конкретным историческим событиям изредка, только для аттракции читателя. В большинстве случаев анализируемые источники демонстрируют желание авторов говорить о специфике национального характера, об особенностях культуры
повседневности в заданных исторических условиях, но не о явных катастрофических событиях, эту историю «травмированных» сформировавших. Во многом такой подход оправдан следованием принципу ризоматичности, в рамках которого стратегия антигенеологичности, т.е краткосрочной памяти, наслаивается на тяготение открытых систем текстов к исследованию инвариантных основ культуры. В результате в критической риторике и саморефлексии авторов травма-как-отсутствие и травма-как-утрата сливаются в единый негативный опыт существования общества, постоянно подвергающегося разному по формам и интенциям насилию.
По мнению критиков и эссеистов, дополняющих своими аналитическими жестами позицию писателей, отверженность членов этого общества является не столько результатом экстремальных катастроф, произошедших в культуре в течение прошлого века. В большей степени культура оказалась травмирована последующей потерей ее носителей способности к адекватной коммуникации. Это драматическое для антропологического опыта событие, выраженное в нарушении гармонического единства, нашло свое отражение в несовпадении восприятия мира, смыслового отношения к нему, и предметного, реального значения повседневности. В результате любой официальный дискурс «о травме», равно как и его обыденный вариант, неполноценен, поскольку язык, которым принято говорить о травмах культуры, остается, по наблюдениям филологов, сверхоценочным, конвенциональным, нагруженным идеологемами, т.е. несвободным.
Как замечают представители теории травмы, необходимость означивания травмы очевидна для официального дискурса, легитимирующего с ее помощью чувство искалеченности культуры и, как ни парадоксально, ощущение исключительности и привилегированности пространства этой культуры. Ясна эта необходимость и для исследователей, стремящихся рационально разъять этот непознаваемый элемент идентичности, серьезно влияющий на конституирование повседневности человека.
В то же время, согласно позиции писателей, возможности посттравматического существования могут быть открыты только в том случае, если трагические утраты культуры, болезненные и внешне отринутые современностью, будут восприняты как проекции вневременного Реального или, как говорила одна из героинь В. Пелевина, той «непонятной правды о чем-то самом печальном и таинственном в русской жизни», которая не познаваема конвенционально и рационально. По их мнению метафорическое, образное осмысление действительности гораздо в большей степени провоцирует читателей на рефлексию, нежели очевидно тупиковые стратегии ее идеологического или научного освещения.
В последнем параграфе диссертационного исследования «Посттравматическая жизнь: интонация жертвы или логика отмщения?»
обсуждаются те позиции, которые избирают для себя литераторы в попытках сформулировать собственное письмо травмы.
Их критика академического, обыденного, официального способов артикуляции построена на представлении себя в качестве своеобразных философов, которые, по меткому замечанию Ж. Делеза, создают понятия о том, чего пока нет «на самом деле», но что подспудно определяет степень катастрофизации культуры. Так, внимание писателей к незаметным, нелокализуемым, но краеугольным элементам повседневности существенно увеличивает степень ответственности, которая возлагается на их высказывания. Поскольку они берут на себя обязанности критики существующих основ культуры в карнавальной форме юродства, им приходится производить тексты-эссе, в которых аналитика травмы подкрепляется мощным догматическим зарядом диагностики или порицания. Так, унаследованная от модернистов традиция восприятия культурной травмы как неизбежной сути отечественной цивилизации в постмодернистском изложении предстает как демонстрация антимирности русской культуры, которая не может вызывать сожаления, но должна подвергаться максимально жесткому противостоянию.
Однако в результате демонстрируемая авторами и их сторонниками из числа критиков агрессия гротеска, абсурда и пародии сопровождается подтверждаемым самими писателями любованием неразрешимой катастрофичностью культуры. Нападая на язык, писатели доводят любые приемы до пределов возможного. Нравственные полюса «опрокидываются» в свои противоположности и наблюдается апофатическая манифестация сакрального ядра культуры, объединяемого с общим профанным тоном саморазрушения.
Перечисленные неоднозначные особенности письма травмы, выделяемые в литературе конца XX века, не умаляют роли художественных практик в решении тупиков репрезентации травмы, которые остаются в пространстве научной теории до сих пор. Так, художественное письмо использует метафору травмы, чтобы рассказать о катастрофических событиях, которые впоследствии влияют на любые культурные практики, и о неизживаемых элементах русской ментальности, проявляющихся в культуре России на протяжении всего XX века. При этом литература, не привлекая напрямую накопленный историками, антропологами и психиатрами опыт анализа травмы, оказывается в состоянии передать нутро таких переживаний, постоянно возвращаясь к самой себе и превращаясь в успешную стратегию социального письма, востребованную культурой.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и намечаются перспективы как развития литературного сегмента дискурса травмы, так и формирования соответствующих научных стратегий, обогащенных этой художественной исследовательской стратегий.
Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
В изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Молчанова (Мороз) О.В. Современный «театр для зрителя» в Москве: две стратегии // Вестник РГГУ № 15/09. - М. : РГГУ, 2009. - С. 253261.
2. Молчанова (Мороз) О.В. Поэтика пограничного в творчестве Венедикта Ерофеева и Виктора Пелевина // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 1. Том I. - Ярославль, 2011. - С. 225-228.
3. Молчанова (Мороз) О.В. Искусство забывания, или Ностальгия по советскому мифу // Вестник РГГУ № 17/11.-М. : РГГУ, 2011.-С. 57-65.
В других изданиях:
4. Молчанова (Мороз) О.В. К пониманию постсоветского человека: аналитика «цивилизации слова» в русском литературном постмодернизме // Философия. Язык. Культура. Сборник материалов научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Москва, ГУ-ВШЭ, 10 марта 2010 г.). - М. : Праксис, 2010. - С. 110-120.
5. Молчанова (Мороз) О.В. Феномен культурной травмы в эпоху надлома империи // Искусство в эпоху надлома империи: религиозные, национальные и философско-эстетические аспекты. Материалы Международной конференции (17-19 мая 2010 г.). - М. : ГИИ, 2010. - С. 514515.
6. Молчанова (Мороз) О.В. Коммунальный постмодернизм: эстетика клубной культуры интеллектуалов // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок : материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 29 января 2010 г. - СПб. : СПбГУП, 2010. - С. 181-183.
7. Молчанова (Мороз) О.В. «Русская метафизика» как национальная мифология // Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке гуманистической идеологии самосохранения человечества. Сборник научных
статей, посвященный 80-летию Э.С.Маркаряна. - СПБ: СПбКО, 2010. - С. 117119.
8. Молчанова (Мороз) О.В. Культурологические проекты современной литературы: две волны русского постмодернизма (Вен. Ерофеев, В. Сорокин) // Третий Российский культурологический конгресс с международным участием «Креативность в пространстве традиции и инновации»: Тезисы докладов и сообщений. - СПб : ЭЙДОС, 2010. - С. 194-195.
9. Молчанова (Мороз) О.В. Боль или наслаждение? Садомазохизм русского литературного постмодернизма // Дни аспирантуры РГГУ: Материалы научной конференции. Материалы Круглого стола. Научные статьи. Переводы. Образовательные программы РГГУ. Вып. 4. - М.: РГГУ, 2010. - С. 120-130.
10. Молчанова (Мороз) О. В. Культурная память в современной России: «холодно»/«горячо» // Изучение и сохранение культурного наследия: Первая международная научно-практическая конференция по культурологии. Сборник научных статей и докладов. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. - С. 45-48.
И. Молчанова (Мороз) О.В. Мифология интернета // Теория художественной культуры. Вып. 13. - М.: ГИИ, 2011. - С. 433-434.
12. Молчанова (Мороз) О.В. Жизнь травмы: рассказы В. Сорокина // Дни аспирантуры РГГУ: Материалы научной конференции. Материалы Круглого стола. Научные статьи. Переводы. Образовательные программы РГГУ. Вып. 5. - М.: РГГУ, 2011. - С. 284-297.
13. Молчанова (Мороз) О. В. "Диагностические" возможности русского литературного постмодернизма // Труды молодых ученых и аспирантов /Волго-Вятская академия государственной службы. Вып. 10. - Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2011. - С. 232-235.
14. Молчанова (Мороз) О.В. Поиски новой идентичности в постсоветской литературе // Международная научная конференция «Культура информационного общества и проблемы модернизации России» 24 мая 2011 г. в МосГУ. Сборник научных статей - М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. -С. 58-68.
15. Молчанова (Мороз) О.В. «Таких женщин не бывало и не могло быть в старое время»: советская женщина глазами постмодернистов // Частное и общественное: тендерный аспект: Материалы Четвертой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 20-22 октября 2011 года, Ярославль. - М.: ИЭА РАН, 2011. Т. 2. - С. 67-72.
Заказ № 214. Объем 1 пл. Тираж 100 экз.
Отпечатано в ООО «Петроруш». г.Москва, ул.Палиха 2а.тел.(499)250-92-06 www.postator.ru
Текст диссертации на тему "Культурная травма в российском литературном дискурсе конца XX века"
61 12-24/107
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
писи
Мороз Оксана Владимировна
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА В РОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ КОНЦА XX ВЕКА (ВИКТОР ЕРОФЕЕВ, ВЛАДИМИР СОРОКИН, ВИКТОР ПЕЛЕВИН)
Специальность 24.00.01 — Теория и история культуры
Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии
Научный руководитель:
доктор философских, кандидат филологических наук, профессор, д.чл. РАЕН Кондаков И. В.
Москва 2012
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...................................................................................3
ГЛАВА 1. ДИСКУРС ТРАВМЫ: ПЕРЕХОД НЕПРОХОДИМОЙ ГРАНИЦЫ..34
1.1. Клиника уэ. Критика: психиатрия, психоанализ и Реальное травматичное...............................................................................34
1.2. История по ту сторону травмы: память и феномен свидетельства................................................................................52
1.3. «Частный случай» дискурса: травма в отечественной культуре как
складка........................................................................................75
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОСТЬ КАК МНОЖЕСТВЕННАЯ ТРАВМА........124
2.1. Травма как константная тема современности: искусство забывания..................................................................................................128
2.2. Литературные стратегии выживания: от «работы скорби» до
«нарративного фетишизма»...................................................................165
ГЛАВА 3. КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ КОНЦА XX ВЕКА: МЕЖДУ ОТСУТСТВИЕМ И УТРАТОЙ..............................190
3.1 Структурная травма отсутствия как гносеологическая пропасть.......195
3.2 Историческая травма утраты: перспективы отверженных.....................217
3.3 Посттравматическая жизнь: интонация жертвы или логика
отмщения?..............................................................................................................237
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................252
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ..........261
Введение
В пространстве наук о культуре сформировалось представление о том, что отечественная литература в конце XX века выступает своего рода продолжением сакральных смысловых практик в новую секуляризованную эпоху1. Именно в этот период, когда развитие постмодерного состояния культуры уже стало данностью2, все очевиднее оказывается серьезная диспропорция между переживаниями отдельного человека и метарассказами, с помощью которых эти настроения предлагается артикулировать. Насилие, лежащее в основаниях всякой идеологии3, приводит к травмирующим несоответствиям между индивидуальной памятью и коллективными воспоминаниями. Еще более явной эта травмированность становится при анализе постсоветской идентичности, которая наследует советскому модернистскому проекту, ведя с его «метастазами» позиционную войну.
В подобной ситуации русская литература, продолжая претендовать на особое положение «учебника жизни»4, старается нащупать такие метафоры, которые могли бы отразить проблемы и перспективы, стоящие перед культурой в кризисный момент. Наиболее яркие культурфилософские попытки продемонстрировать уязвимость хронотопа, который определял действительность соотечественников и современников, были предприняты писателями-постмодернистами. Задолго до институционального оформления наук о культуре они взяли на себя функцию исследователей, продолжающих вненаучную культурологическую мысль, существовавшую еще в традиционной культуре России.
В контексте изучения русской специфики обращение к писателям как аналитикам травмы необыкновенно актуально. Так или иначе, но культура,
1 Дубин В. Формы литературы-кумуляция опыта-организация общества. К типологии читателя // Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. М. : НЛО, 2010. С. 123.
2 См. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С-Пб. : Алетейя, 1998. 159 с.
3 См.: Жижек С. О насилии. М. : Европа, 2010. 184 с.
4 Есаулов И. Литература как учебник жизни // Соцреалистический канон : Сб. статей. СПб. : Академический проект, 2000. С. 596-599.
практически не обладавшая в XX веке свободным психоаналитическим и иным неклассическим/постнеклассическим наследием и оттого страдающая академической вторичностью, взрастила ряд авторов, интуитивно занявших культурфилософскую позицию. Так, наследуя интенциям модернизма, писатели-постмодернисты осмысляли основы русской культуры, фиксируя ее запрограммированность на травмы культурного обвала5.
В то же время их произведения, зачастую, оценивались лишь с позиций филологии. Обращение к интенциям авторов не является обязательным элементом подобного нарративного анализа, однако нежелание критиков рассматривать творчество постмодернистов как специфический вид аналитики формирует непрочитанность их текстов. Таким образом, эта литература до сих пор понимается как вид асоциального письма, что существенно видоизменяет характер источниковой базы теоретических исследований российской культуры.
Не ставя перед собой задачу построения апологетики постмодернизма как литературного и философского направления, мы считаем актуальным культурологическое освещение тех, не обнаруживаемых критикой, стратегий, с помощью которых писатели конца XX века анализировали травмированность культуры. Так наше исследование, выходя за рамки принятого способа прочтения современной литературы, помогает решить наболевшую проблему соотношения и/или конкуренции отечественной и зарубежной гуманитарной мысли. Необходимо учитывать, что представителями европейской научной мысли вопрос о том, как возможна взвешенная рефлексия травматического прошлого, активно обсуждается уже более полувека6, в то время как в соответствующем российском социокультурном пространстве он до сих пор четко не сформулирован. Если в западной гуманитарной науке в контексте различных дисциплинарных образований (психоанализа, исторических наук,
5 Липовецкий М. «И пустое место для остальных»: травма и поэтика метапрозы в «Египетской марке» О. Мандельштама// Травма:Пункты: Сборник статей. М.: НЛО, 2009. С. 749.
6 См. например, классические работы Т. Адорно: Адорно Т. Негативная диалектика. М. : Академический проект, 2011. 544 е.; Адорно Т. Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити, 2001. 416 с.
социологии) зафиксированы попытки осмыслить травму аналитически7, то в отечественном социогуманитарном знании удается обнаружить лишь следы обращения к подобным экспериментам8. Причина такого явления лежит в признаваемой рядом ученых нехватке интеллектуальной саморефлексии, обращенной на элементы неартикулируемого, но имплицитно
9
присутствующего в культуре насилия .
Отсутствие в отечественных дисциплинарных или междисциплинарных исследовательских полях традиции описания такого трагического антропологического опыта прошлого столетия, которым является травма, сопряжено также с тем, что в устоявшихся вариантах официального и/или обыденного дискурса «о травме», принято лишь дескриптивно указывать на кризисные элементы культуры10. В таком случае, желание говорить о болезненном культурном опыте с точки зрения «дискурса травмы», т.е. пользуясь аналитическими стратегиями письма, выглядит кощунством. Не менее вероятным кажется и другое предположение: усвоив уже накопленный дискурсом травмы опыт, отечественные исследователи обнаружили непроговариваемую, но заметную неполноценность изучения травмы с помощью легитимных в научном мире языка и речи.
Если культурная травма не поддается концептуализации с помощью классического научного инструментария, постоянно демонстрируя свою иносказательность, изменчивость, то обращение к литературным дискуссиям о культурном травматизме представляется логичным и своевременным11. Обоснованным этот жест делает тот факт, что авторы, к которым мы
7 См. например: Спивак Г. Ч. Террор: речь после 9-11 // Травма:Пункты: Сборник статей. М. : НЛО, 2009. С. 864-901; Spivak G. Ch. Сап the Subaltern Speak? URL: // http://www.mcgill.ca/files/crclaw-discourse/Can_ the_ subaltern speak.pdf; Мирный С. Чернобыль как инфотравма // Травма:Пункты: Сборник статей. М.: НЛО, 2009. С. 209-247 и т.д.
8 См. например: Руднев В. Прочь от реальности. Исследования по философии текста. М. : Аграф, 2000. 427 е.; Рыклин М. Свобода и запрет. Культура в эпоху террора. М. : Логос : Прогресс-Традиция, 2008. 296 с. и т.д.
9 Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 35.
10 См., например, наблюдения антрополога H. Рис: Рис Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. M.: Новое литературное обозрение, 2005. 368 с. Также см. Колмогоров Е. Непережитая война, или 70 лет борьбы народа с одной травмой // Фома. Православный журнал для сомневающихся. URL : // http://www.foma.ru/article/mdex.php?news=5708
11 Липовецкий M., Боймерс Б. Цит. соч. С. 44.
апеллируем, не ставят своей задачей преподнести травму как строгое терминологическое обозначение идентичности. Для них она - прежде всего метафора, которую можно использовать в качестве инструмента для анализа антропологического опыта. В первую очередь этот опыт относится к советскому прошлому и постсоветскому настоящему носителей русской культуры. Однако изучение травмы, вмещающей в себя как единовременное насилие, резко изменившее жизнь группы или индивида, так и патологический процесс, неизменное положение вещей, образ жизни, воздействующий на отношение людей к своему прошлому, настоящему и будущему, приводит писателей к размышлениям о травматической природе оснований русской культуры.
При таком взгляде на особенности ментальности соотечественника литераторы снова предстают полноправными исследователями, поскольку берутся за решение задач, поставленных перед наукой. Так, социологи культуры, например, Л. Гудков, фиксируя сложности аналитической трансформации «как бы психологических или как бы моральных [...] категорий, в которых зафиксирован [...] опыт и язык посттоталитарного общества, оказавшегося не в состоянии справиться со своим прошлым, истерически заболтавшего свои комплексы и травмы, [...] в собственно социологические типологические конструкции и понятия»12, лишь указывают на наличие «травматического опыта советского прошлого, внутри которого стирается возможность рационализации и переосмысления репрессивных структур тоталитаризма»13. Писатели же не прибегают к заведомо излишне драматизирующим отечественную культуру дискуссиям о травме как «негативной идентичности». В их текстах она предстает скорее неизбежным «позитивным» элементом, на котором культура неизменно строится. Если рассуждения о невозможности логического объяснения травмы оказываются не только бесполезны, но и вредны в виду своей закольцованности, то
12 Гудков Л. Страх как рамка понимания происходящего // Негативная идентичность. Статьи 1997-2002 гг. М. : НЛО, 2004. С. 23.
13 Заяц Е. Печали негативности и радости идентичности // Синий диван. 2005. № 6. С. 211.
нестрогий, располагающийся в теле литературы, анализ помогает при исследовании ее ускользающей от точных «замеров» природы. Кроме того, наполненные метафорикой авторские стратегии изучения культурной травмы позволяют сместить оптику научного постижения травмы с попыток ее разложения на психологические, социальные, политические составляющие в сторону комплексного анализа.
Не в меньшей степени актуальность нашего исследования определяется фигурами писателей, к которым мы обращаемся. С одной стороны, будучи представителями русского литературного постмодернизма, В. Ерофеев, В. Сорокин и В. Пелевин используют настолько различные способы конструирования текстов, что внимательное прочтение их произведений позволяет поставить вопрос об особенностях и единстве философско-литературного направления, к которому писателей традиционно относят14. Апелляция к написанному Т. Толстой, Вен. Ерофеевым, Л. Рубинштейном, Д.А. Приговым еще больше увеличивает аналитический потенциал сопоставления того, что называют то «современной литературой», то
~ 15
«литературой постмодерна», то «постсоветской литературой» .
Некоторые исследователи сетуют на категорическое изменение положения и внутренних характеристик постмодернизма, который из альтернативной, другой поэтики превратился в начале 2000-х гг., с успехом романов, скажем, В. Сорокина и В. Пелевина, в мейнстрим16. Мы же считаем, что актуальность постмодернизма с этими трансформациями не уменьшилась, но, наоборот, возросла. Теперь писатели-постмодернисты вынуждены использовать не только протестный заряд привычных еще с позднесоветского времени андеграундных интонаций. Более того, с 1990-х годов они работают в пространстве письма, чей статус трансформировался, поскольку литература перестала быть той единственной площадкой, на которой ранее, в виду
14 См. например: Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. M. : Флинта : Наука, 2007. С. 608.
15 См.: Иванова H. Русский крест: Литература и читатель в начале нового века. М. : Время, 2011. 384 с.
16 Липовецкий М. ПМС (постмодернизм сегодня) // Знамя. 2002. № 5. URL: // http://magazines.russ.rU/znamia/2002/5/lipov.html
отсутствия политической свободы, осмыслялись и рефлексировались
различные стратегии модернизации17. И все же, даже в этих условиях, у
писателей появляется множество подготовленных читателей, которые могут
обнаружить в предлагаемых произведениях знакомые элементы реальности и
18
готовы включиться в постмодернистские игры .
В этой ситуации возникает еще одна сложность, не позволяющая отказаться от дискуссий о постмодернизме. С ростом его популярности, внешние атрибуты письма постмодернизма стали использовать авторы, принадлежащие к литературе иного эстетического и мировоззренческого выбора19. Кроме того, итогом популяризации постмодернизма стал успех эпигонов или «пелевинско-сорокинских клонов»20. Таким образом, сегодня как никогда актуально исследование стратегий письма тех литераторов, которые изначально задавали тон не только постмодернизму как литературному направлению, но и постмодерну как культурной формации21. Анализ текстов В. Ерофеева, В. Сорокина, В. Пелевина, Т. Толстой, а также обращение к постмодернистской эссеистике дает возможность увидеть те основания русского литературного постмодернизма, которые не позволяют списывать его со счетов, а также способствуют пониманию этого феномена во всей его гетерогенности.
Наконец, не стоит забывать о том, что и В. Ерофеев, и В. Сорокин, и В. Пелевин до сих пор играют значительную роль в российском и, пожалуй, мировом литературном мире. Свидетельством этому служат и закрепление за рядом книг указанных авторов статуса международных бестселлеров (например, таковым признают «Русскую красавицу» В. Ерофеева22), и факты
17 История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение. 2011. С. 636.
18 См. например реакцию на выход в 2009 г. романа «Т» В. Пелевина: Ганин М. Виктор Пелевин, t. Рецензия. Портал OpenSpace.ru. URL: // http://www.openspace.ru/Hterature/events/details/13262/
19 Иванова H. Русский крест: Литература и читатель в начале нового века. M. : Издательство «Время», 2011.С. 55.
20 Там же. С. 228.
21 Эпштейн М. Постмодерн в русской литературе. Литература и теория. М. : Высшая школа, 2005. С. 13.
22 Дубинянская Я. Интервью с В. Ерофеевым: «Я редкий свободный человек в России» // Зеркало недели. 07
октября 2006. № 38. URL: // http://zn.ua/SOCIETY/viktor erofeev уа redkiy svobodnyy chelovek_ v.....rossii-
48009.html
представления экранизаций некоторых произведений на международных кинофестивалях (в 2011 году такая судьба ожидала фильм «Мишень», сценаристом которого выступил В. Сорокин), и, наконец, фигурирование имен авторов в лонг- и шорт-листах литературных премий, в том числе и мирового значения (так, имя В. Пелевин в 2011 году указано в инсайдерских списках
23
претендентов на получение Нобелевской премии по литературе ).
При этом, являясь довольно значимыми для мирового интеллектуального сообщества людьми, в России они сталкиваются с крайне неоднозначным отношением как к своим персонам, так и к своему творчеству. Реализация их письма оказывается связана с различной степенью скандальности, с которой аудитория встречает их произведения. Разумеется, резкие акции-выпады отечественных фронтирсменов, например, организации «Идущие вместе»24, не являются маркером общественного отношения к писателям. Однако оценки литературных критиков, которые в сумме призваны сформировать представление об отношении профессиональных сообществ к современной литературе, нередко нагружены такими суждениями, которые повышают градус истерии вокруг текстов, и выглядят попытками облечь в форму интеллектуального высказывания практически физиологическое
"25
неприятие анализируемых произведении .
Так, Виктора Ерофеева обвиняют в том, что его книги «нельзя давать для чтения подросткам. И вообще каждому читателю лучше набраться мужества перед тем, как открыть книгу, а захлоп�