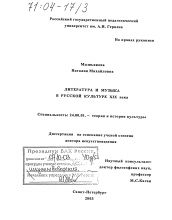автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01
диссертация на тему: Литература и музыка в русской культуре XIX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Литература и музыка в русской культуре XIX века"
На правах рукописи УДК 930.8 (47 + 57)
МЫШЬЯКОВА Наталия Михайловна
ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX ВЕКА
Специальность: 24.00.01. - теория и история культуры
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения
Научный консультант доктор философских наук, профессор
М. С. КАГАН
Санкт-Петербург 2003
Работа выполнена на кафедре художественной культуры Российского государственного педагогического университета имени А. И Герцена
Научный консультант: Доктор философских наук, профессор Каган М. С.
Официальные оппоненты: Доктор философских наук, профессор
Уваров М. С.
Доктор искусствоведения, профессор Тишунина Н. В.
Доктор философских наук, профессор Махлина С. Т.
Ведущая организация: Санкт-Петербургская государственная
консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
Защита состоится " 10 " июня 2003 года в ____часов на заседании диссертационного совета Д 212.199.23 Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт- Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5, ауд. 16.
С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корп. 5.
Автореферат разослан " УЛ " 2003 г.
Ученый секретарь диссертационного совета^ кандидат педагогических наук, доцент
/С. Н. Токарев
2соЗ-А
¿757
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальность темы диссертации. Феномен взаимодействия и синтеза искусств обнаруживает потребность культуры порождать сложные художественные структуры, адекватные многомерности мира, желание выработать универсальный язык. Сложная система связей и взаимодействий культурных компонентов, морфологический колорит времени — один из важней-тих показателей культурной специфичности. Для современной культурологии характерен интерес к явлениям, возникающим на стыке разных художественных языков, и проблема перевода, в том числе —• морфологического, чрезвычайна злободневна. Более того, актуальна мысль об «обратном переводе» (А. В. Михайлов), который осуществляется в ходе культурного развития и исследованием механизма которого занимается историческая морфология, в русло которой написана работа. Актуален и выбор материала, а именно — русская культура XIX в. Классический этап русской культуры именно благодаря огромному научному фонду работ, ему посвященных, обнаруживает оставшиеся дискуссионными некоторые проблемы культурного развития, к числу которых относится тема данной диссертации. Литература и музыка в русской культуре XIX в. рассматриваются в аспекте их взаимоотношений. Предметом специального изучения эта проблема ещё не являлась, что стало условием выбора темы, её актуальности и новизны.
Степень научной разработанности проблемы. Современное искусствознание, накопив огромный опыт и разработав разнообразные концептуальные подходы к изучению проблемы взаимодействия и синтеза искусств, до сих пор находится в состоянии научного поиска. Процессы научной интеграции превращают взаимодействие искусств из «предмета» науки в её неизбежный «инструментарий», позволяющий обнаруживать всё новые и новые траектории художественных перекличек.
Изучение вопросов взаимодействия и синтеза искусств располагается внутри тенденций, во многом исключающих друг друга. На одном полюсе — мысль о неправомерности, невозможности морфологических сравнений и переводов. На другом — гипотетические представления о наличии единого универсального художественного метаязыка, некоего «гумуса» художественности. Оставаясь дискуссионным, понятие «музыкального языка» прочно утвердилось как термин-метафора. Попытки обратиться к категориальному аппарату лингвистики и семиотики во многом конкретизировали существо метафоричности, не отменив её в принципе.
Сопоставления музыки илитературытрадиционно реализуются в двух направлениях. Во-первых, рассматриваются взаимоотношения исторически сложившихся видов искусства — словесного и музыкального. Этот аспект проблемы наиболее исследован (И. И. Иоффе, Б. В. Асафьев, А. В. Михайлов, Ю. А. Крем-лёв, Б. Л. Яворский, Т. Н. Ливанова, И. Ф. Бэлза, В. Д. Конен, М. С. Каган, Н. И. Киященко, Т. Н. Левая, С. Т. Махлина, Л. Мейер и др.). Исследование закономерностей культурогенеза убедительно показывает связь «взлётов» и «падений» различных видов искусства, в частности — музыки и литературы, с процессами «величия» и «дискредитации» рационалистического знания, с тенденциями завоевания «интеллектуальным и эмоцион ^ьньщ^^у^'^^миде
БИБЛИОТЕКА С.Петербург а у / 09
ловеческой психики самостоятельности» (М. С. Каган). Наличие фундаментальной стратегической программы научных исследований не исключает возможности дальнейшего изучения структурных отношений мржду искусствами в историческом аспекте. Развитие культурологического знания позволяет увидеть всё более сложные связи художественных явлений внутри целостного текста культуры, и в этой связи изучение морфологической «картины мира» в её исторической изменчивости всегда актуально и перспективно.
Второе направление в исследовании взаимодействия и синтеза литературы и музыки — сопоставление материалов искусств (В. А. Васина-Гроссман, Е. А. Ручьевская, Б. А. Кац, М. Ланглебен, И. В. Степанова, Т. В. Цивьян и др.). Этот аспект проблемы особенно дискуссионен. Вырастающие из одного «корня», словесный и музыкальный языки по мере увеличения самостоятельности интеллектуальной и эмоциональной жизни человека расходятся по своим специфическим дорогам: «звуко-интонационные знаки музыки» передают «преимущественно эмоциональную информаци», а «знаки словесные — преимущественно интеллектуальную» (М. С. Каган). Принципиальный характер имеет и разграничение устной и письменной форм бытования искусства, так как одно из различий литературы и музыки выражается в самостоятельном существовании письменной литературы и отсутствии такого явления в музыке, существующей только в звучании.
Обращение к первоначальным «корням-напевам» предполагает выход во внехудожественные области и погружение в до-словесные и дго-музыкаль-ные истоки культуры. Тайна «первоначал», ускользающие от точных научных определений «истоки» культуры наделяют проблему художественного праязыка особым зарядом научной рефлексии. Если «составляющие» древнейшего синкретизма многократно описаны, то пропорции и значимость этих компонентов всё ещё вызывают споры.
Остаётся открытой, несмотря на неоднократные к ней обращения, проблема единого категориального аппарата, адекватного природе двух искусств — словесного и музыкального. Идеи непереводимости художественной информации не сдерживаютусилий, направленных на вербализацию морфологической специфичности. Поиски врождённой текстуальности музыки, песенных истоков речи, музыкальности поэтических и прозаических текстов — «отмеченные» маршруты музыкознания и литературоведения.
Речевой генезис литературы и музыки обладает «предметной агрессией» (И. И. Земцовский), оказываясь лейтмотивом не только лингвистических, но и многих иных исследований. Одной из проблемных ситуаций изучения взаимоотношений музыки и литературы является несогласованность уровней исследования: анализ явлений, воспринимаемых на слух, и явлений, представляемых мысленно.
Таким образом, есш магистральные* пути исследования взаимоотношений литературы и музыки получили достаточно полную разработку в современных искусствознании и культурологии, то отдельные частные вопросы взаимодействия этих искусств ещё нуждаются в дальнейшем рассмотрении.
Один из возможных аспектов исследования, получивших в последнее время большое распространение, — интермедиальный (И. П. Смирнов, Н. В. Тишунина, К. Э. Штайн, Л. Л. Гервер, А. А. Гозенпуд, А. Г. Григорян и др.). Зашифрованность культуры различными текстами вызвала
]
к жизни понятие, которое позволяет изучать пути художественной коммуникации между различными видами искусства. Понятие интермедиальности, как правило, применяется при изучении таких художественных явлений, образная структура которых гетероморфна. Интермедиальность — принцип дешифровки, помогающий извлечь закодированную в системе информацию. Интермедиальность характеризует и внутритекстовые связи разных искусств, и целостные метапространство и метаязык культуры. В первом случае интермедиальное исследование приобретает искусствоведческую окраску в соответствии с видовой спецификой «предмета» изучения, во втором — становится культурологическим.
Интермедиальный «узус» изучения обостряет чутьё к скрытому интермедиальному дискурсу, зашифрованному в профессиональном искусствоведческом языке. Интермедиальная специфика подхода позволяет не упускать из вида интертекстуальность как свойство любой художественное 1 и, требует умноженных усилий, интеллектуальной «поливалентности». Интермедиальность и есть канал связи разнородных научных дискурсов, сектор наложения профессиональныхлексик, поиски «своего» среди «чужих».
Научная новизна работы. Морфологические взаимоотношения литературы и музыки впервые рассмотрены исторически на материале русской культуры XIX в. Диссертация представляет собой первое исследование на данную тему. Каждый вид искусства исследуется в двух аспектах: способности активно воздействовать на другое искусство и способности воспринимать и заимствовать элементы родственной художественности. Высказана мысль о «скользящей» активности художественной специфики: в разные исторические периоды в художественной структуре активизируется то его «инфицирующая» способность, то «присваивающая». В русской культуре XIX в. выделен уровень первичных связей литературы и музыки, обеспеченный «присваивающей» способностью искусства, и уровень вторичных взаимодействий, связанный с контактами «оформленных» видов искусства. На каждом уровне взаимоотношений рассмотрены основные сферы и типы отношений между литературой и музыкой и специфическая поэтика каждого искусства.
Объект исследования - русская культура XIX века.
Предмет исследования — взаимоотношения литературы и музыки в русской культуре XIX в.
Выбор XIX в. в качестве историко-культурного материала определяется, помимо личных пристрастий, «классичностью» периода, а главное — противоречивостью отношений словесного и музыкального искусств. С одной стороны, взаимовлияния их очевидны, общеизвестны, с другой — именно классичность русской культуры XIX в., яркость её имён несколько ослепляет, не даёт увидеть специфичности отдельных «актов» литературно-музыкальной истории. Литература и музыка этого периода морфологически «совершенны», суверенны и самодостаточны. Их общение — это сознательный выбор на основе конкордантности. У каждого вида искусства сложные отношения с историей. Принадлежа одному временному «поясу», искусства по-разному ему соответствуют. Кроме того, морфологические встречи — события не только истории, но и исторической памяти, а их соотнесение тоже требует особого перевода и дешифровки.
Цель работы - культурологическое осмысление взаимоотношений русской литературы и музыки, выяснение характера их связи в классический, литературоцентристский период русской культуры.
Любое историке-культурное исследование требует некоторой доли теории. В данной работе встала необходимость уточнить смысл категорий музыкальность, поэтичность, работающих на разных уровнях художественной структуры, но прежде всего, — как стилевых характеристик текстов. В этой связи определены задачи исследования:
— рассмотреть соотношение литературы и музыки в истории культуры;
— исследовать проблему взаимоотношений и синтеза литературы и музыки в современных искусствоведении и культурологии;
— уточнить терминологический объём понятия «музыкальность» словесного произведения;
— выяснить характер влияния музыки на лигера1уру в русской культуре XIX века;
— определить аспекты влияния литературы на музыкальные произведения;
— исследовать характерные для русской культуры XIX века основные типы отношения композиторов к литературным источникам.
Научная гипотеза. История культуры позволяет предположить, что взаимодействие искусств целесообразно рассматривать как некий «палиндром», смысл и значение которого обнаруживается и в энергии «внедряемой» морфологической природы, и в степени морфологической «восприимчивости» принимающего искусства. Таким образом, взаимоотношения искусств осуществляются на двух уровнях — первичного взаимодействия, основывающегося на исконной художественной общности, и вторичного взаимодействия, представляющего собой общение морфологически оформившихся видов искусства.
Методологическая база исследования. Русская культура исследуется в работе в художественно-герменевтическом аспекте, это историко-культу-рологическое прочтение темы. Литература и музыка выбраны в качестве исходных «пунктов», из которых навстречу друг другу «отправляется» художественная рефлексия. Пространство «пути» рассматривается на двух уровнях. Во-первых — на уровне внутритекстовых связей словесного и музыкального произведений. Во-вторых — на уровне характерных для русской культуры этого периода художественных тенденций. В диссертации используются:
— историко-компаративный анализ, выявляющий общие и специфические черты взаимоотношений литературы и музыки в истории культуры;
— функциональный анализ, определяющий роль и значение литературы и музыки в русской культуре XIX века;
— структурный анализ, позволяющий рассмотреть музыкальность и поэтичность художественных произведений с точки зрения их структурных элементов.
Источниковедческая база:
— совокупность художественных литературных и музыкальных произведений русской культуры XIX в.;
— эпистолярная и мемуарная литература (М. И. Глинка, Н. А. Римский-Кор-
саков, П. И. Чайковский, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А А Фет, А. П. Чехов и др.);
— критическая литература этого периода (В. Г. Белинский, В. В. Стасов, А. Н. Серов, Г. А. Ларош, В. П. Боткин, А В. Дружинин др.);
— исследования в области теории и истории культуры, посвящённыепроблеме взаимодействия и синтеза искусств (И. И. Иоффе, М. М. Бахтин, М. С. Каган, Ю. М. Лотман, А. В. Михайлов, М. П. Алексеев и др.);
— классические, труды по истории искусств, филологии, музыкознанию (Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Асафьев, Т. Н. Ливанова, В. А. Васина-Гроссман, Ю. Н. Холопов, Р. О. Якобсон, Т. В. Адорно и др).
На защиту выносятся следующие положения:
— каждый вид искусства обладает способностью воздействовать на другое искусство и готовностью воспринимать и заимствовать элементы близкой художественной природы;
— художественная специфика обладает двойственной («скользящей») активностью: в различные периоды в художественной структуре активизируется то его «инфицирующая» способность, то «присваивающая»;
— в русской культуре XIX в. существует уровень первичных связей литературы и музыки, обеспеченный «присваивающей» способностью искусства, и уровень вторичных взаимодействий, связанный с контактами «оформленных» видов искусства;
— «музыкальность» и «поэтичность» — метаморфологические категории, проявляющиеся на всех уровнях художественной структуры.
Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования:
— теоретически осмыслены и обоснованы понятия «музыкальность» словесных текстов и «поэтичность» музыкальных произведений;
— выделены уровни взаимоотношений литературы и музыки в русской культуре XIX века;
— определены типы и поэтика взаимоотношений словесных и музыкальных произведений.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования: результаты исследования важны для всей сферы культурологических проблем, исторической морфологии и имеют частнопредметный характер в области литературоведения и музыкознания. Материал диссертации и полученные результаты могут быть использованы в дальнейших самостоятельных научных работах по культурологии, литературоведению, музыкознанию; в вузовском преподавании курсов истории русской культуры, истории русской литературы и русской музыки; в специальных курсах по морфологии искусств; в гуманитарном профильном направлении общешкольной образовательной модели.
Апробация. Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры художественной культуры РГПУ им. А. И. Герцена и кафедры мировой литературы Оренбургского государственного педагогического университета; были представлены в докладах на научных конференциях, в том числе — международной научно-практической конференции «Литература в системе искусств: методология междисциплинарных исследований» 23—25 марта 2000 г. в РГПУ им. А. И. Герцена; отражены в ряде публикаций (список основных работ представлен в конце автореферата).
я
Цели и задачи исследования обусловили структуру работы, в которой выделяются три аспекта: историографический, теоретический и исторический.
Во введении определяется место данной проблемы в сфере культурологических и искусствоведческих исследований, обосновываются цель и задачи исследования.
В первой главе рассматривается взаимодействие искусств как культурологическая проблема: литература и музыка в истории культуры и проблемы их сравнительного описания (1.1); состояние изученности данной темы в современных культурологии и искусствознании (1.2).
Вторая и третья главы рассматривают влияния музыки на ли гературу и литературы на музыку.
Несмотря на названия глав, в которых фигурирует понятие «влияние», акцент делается не на морфологической «референции». В качестве основного предмета исследования выбраны морфологические «реципиенты», степень их поглощающей, присваивающей способности. Литература и музыка этого периода уравновешены, умеренны в характере своих декларативных связей. Их «актив» проявляется в воспринимающей способности. Объём принимающего поля, глубина попадания, степень приживаемости иноморфоло-гических вкраплений — не только характеристика морфологической «почвы», но и морфологического «донора». В этой связи влияния приобретают тотальный и неизбежный характер, акцентируя свои онтологические коннотации.
Во второй главе уточняется понятие музыкальности словесного произведения (2.1), делается попытка различить слышимую, видимую и знаемую музыкальность и, одновременно, не потерять их целостность, обрести музыку слова как образ. В разделе 2.2 рассматривается освоение литературой XIX в. акустического пространства русской культуры, явленность звука и музыки в произведениях русских писателей.
В третьей главе проблема «переворачивается» — исследуется влияние литературы на русскую музыку. Раздел 3.1 посвящен выяснению речевых потенций музыкального высказывания и определению уровней, на которых происходит общение музыки с литературными формами. В разделе 3.2 рассматриваются различные типы «омузыкаливания» словесных текстов и изменение подходов к слову, обусловленное временем и общехудожественными тенденциями в культуре XIX в.
В заключении подводятся итоги проделанного исследования.
Библиография (535 наименований) содержит, как правило, современные работы, имеющие непосредственное отношение к избранной теме, и не включает классические философские и эстетические труды.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Взаимоотношения искусств как культурологическая проблема» рассматривается соотношение литературы и музыки в истории культуры и изучение данной проблемы в работах XX в.
1.1. Соотношение литературы и музыки в истории культуры. Известная мысль А. С. Пушкина о «равнодушной природе», вероятно, может быть
экстраполирована и на природу морфологическую: искусства «беззаконными кометами» вторгаются в «чуждые пределы», проявляя беззаботность или равнодушие к тому, как культурное человечество «расчисляет» их законные границы.
Литература и музыка рука об руку проделали длительный путь от древнейшего синкретизма до концептуального синтеза. Звук — субстанция языка, генетически связывающая словесный и музыкальный знаки и, вместе с тем, разъединяющая их. Слово изменило своей первоначальной звуковой жизни, приобретя письменную форму, музыка же сохранила верность звучанию, оставаясь до сих пор именно звучащим искусством. Уже внутри древнейшего художественного синкретизма началась семиотическая работа природы и человека, закрепляющая связи некоторых эмоций со звучанием голоса и превращающая звук в выражение мысли.
Культура располагает множеством свидетельств звуко-ритмического чувства как существенного элемента целостной картины мира. Звук — обязательный компонент семиотического языка культуры. Семантическая ог-руженность звуков наделяет их языковой функцией, превращая в «вер-бально» читаемое послание. Акустический код ценен своей экономичностью и способностью передавать на общепонятном языке сообщения, полученные посредством других кодов. Мелодические и ритмические «орнаменты» — особо концентрированная информация о мировом порядке, синкретическая память культуры.
Голосовые качества являются одними из наиболее значимых в поле невербальных модальностей. Чувствительность к тембровым оттенкам, динамике голоса очень развита в древних культурах и особо существенна для магических и сакральных актов. Ритуальная семантика речи в основном организуется и обеспечивается голосовыми манипуляциями, наделяя именно речь особой магической силой, формируя систему голосовых режимов, табу и оставляя в культуре традицию благоговейного, трепетного отношения к самому факту изречённости.
Развитая система обрядового символизма, характерная для языческой культуры, ритуализировала фоническую систему коммуникации, выработав и закрепив в архаичном фольклоре унифицированные мелодико-ритми-ческие обороты (попевки, заклички и т.п.). Уже в этот период культуры из обычного звукоподражания начинает формироваться семантика регистров, тембров, интонаций, возникает некий «звуковой кодекс», который станет в дальнейшем фундаментом развитого музыкального языка.
Семантизируясь, звук стремительно удаляется от своей чистой «физики», а музыка обнаруживает метафорические экстраполяции и космогонические амбиции задолго до их культурного формулирования. Звук-песня-речь — прочный онтологический синкрезис, каждый элемент которого семантически прихватывает семантические поля других элементов. Онтологическая нечленимость и изначальная метафоричность обеспечивают речевому словесно-музыкальному знаку устойчивость и одновременно — гибкость, обрекая на исторически долгую жизнь и перспективу. «Явленное» и «тайное» («звучащее» и «незвучащее») — одна из традиционных оппозиций культуры. Диалектика их взаимоотношений, как правило, соотносится с понятийной «выраженностью» слова и «невыразимостью» музыки.
Вырастающий из мифологии архаичный эпос во всех культурах являет собой синтетический музыкально-поэтический вид творчества. Реальное бытование морфологического «содружества» искусств спровоцировало длительное и упорное безразличие к уже начавшемуся морфологическому ветвлению. Распавшееся со временем единое «художественное произведение» сделало возможным сопоставление различных искусств, получивших спецификацию и автономию. Именно их разность, отдельность обеспечили феномен сравнения, выявили похожесть и родство.
Первой морфологической «классификацией», вероятно, можно считать наличие муз в греческой мифологической системе, аувеличение их числа, «чёткая специализация», «курирование» определённых видов, родов и жанров искусства говорит о начавшемся процессе размышления «о причинах многообразия способов художественного творчества» (М. С. Каган). Античность подарила культуре образ музыки как гармонии, как идеального образа благозвучия, лада. Напевность или музыкальность всегда будут положительно окра- « шены («всё небо в скрипках»).
Дальнейшая музыкально-словесная биография повествует о драматизации отношений музыки и литературы. Слово проявляет устойчивые качества своей природы, оно традиционно «высоко». В музыке же всё более энергично развивается «дионисийское» начало. Если в античности оно было одним из проявлений музыкальной природы, к тому же — явно не доминирующим, то в средневековой культуре инфернальные «соблазны» музыки — реальная опасность.
Средневековье знает жёсткую иерархию искусств, в которой на самом верху находится слово. Но доминирует в художественной культуре Средневековья слово звучащее, «речение». Средневековая соборная речевая практика ещё не «играет на различиях», она стремится синтезировать «разность» языков, апеллируя к естественно-целостному образу мира. Слово и музыка охвачены общим процессом внутренней морфологической интеграции, благодаря которому осуществляется поиск «музыкальности» и «вербальности» как метаморфологических категорий.
Ренессанс как переходная культура характеризуется интенсификацией морфологических — интегрирующих и дифференцирующих — тенденций. Каждый вид искусства получает официальное морфологическое «гражданство» и предстаёт в своей реальной определённости. Морфологические пристрастия Возрождения не однородны. Живописным, ориентациям художников противостоят взгляды итальянских гуманистов, усматривающих ключ к постижению мира и человека в художественном слове. В художественной культуре Ренессанса литература рождается в качестве зафиксированного неизменного текста, который ренессансная эстетика понимает как синтез индивидуального самовыражения и канонической «сделанности». В связи с этим союз ли 1 ера гуры и музыки потенциально идеален: оба искусства синтезируют в своей природе искомый ренессансный стиль, в котором мощь, «титанизм» человеческого духа находит строгую, рационально фиксированную форму. Словесная культура отвечает ренессансной потребности в ясности, рационалистичности, «мастеровитости». Внутри словесно-музыкальных отношений единодушно признается приоритет слова.
В культуре Нового времени отношения литературы и музыки становятся ещё более сложными. Соотношение музыки и поэзии всё чаще оказыва-
ется предметом специального рассмотрения. Одна из знаменательных тенденций времени — понимание специфики искусства как особого языка, в связи с чем все искусства рассматриваются как прямой аналог искусству слова и даже приравниваются к нему на основе сходства художественного воздействия. Литература демонстрирует умение рассказывать о той ипостаси человека, которая всё более становится интересной — о человеке чувствующем. Она всё более осознаёт себя «важнейшей» в системе искусств, аккумулирующей семантическую, интеллектуальную ипостась культуры.
Письменность, эмансипировав слово от его фонетической формы, окончательно определила особый статус литературы в системе искусств: искусство и литература. Письменное слово провоцировало литературу на экспансии во ^нехудожественные сферы, всё более увеличивая её роль в культуре. Литература начинала влиять на другие искусства, в том числе — на музыку, уже не морфологически, а бьггийно, как адекватная форма мысли. Для культуры Нового времени характерна мысль о единении всех видов искусства, некая «метафизическая морфология».
В XVII в. союз литературы и музыки развивается в русле музыкальной риторики, которая последовательно семантизирует музыкальную речь. Музыкальные фигуры индивидуализируются и последовательно уподобляются фигурам литературного языка, таким образом почти буквально создавая «музыкальный словарь». Слово берёт на себя роль определителя музыкальной характерности. На этом фундаменте выстраивается одна из самых ярких концепций музыкального языка — «теория аффектов».
Рационалистической позиции откровенно противостоит эстетика Барокко, культивирующая иррационализм, эмоциональность, поэтику «деконструкции» существующей системы правил. Метафора, ставшая основой «поэтики остроумия», оказывается связующим звеном, «королевской дорогой» в грядущую стихийность, алогичность, дисгармоничность художественного творчества. Метафора как приём обучает метафоричности мышления, провоцирует вольность ассоциативных связей, наполняет мир подобиями. Основой метафорики часто становится музыкальная стихия.
Диктуемая текстом, музыкальная риторика первоначально выстраивается на материале вокальных произведений, постепенно охватывая «вер-бально» и инструментальную музыку. На язык речевой, вербальной выразительности переводятся «идиомы» других морфологических языков.
Ориентируясь на словесное искусство в поисках морфологического синтеза, музыка интуитивно ищет магистральный путь, который приводит её к драматическим жанрам. Выдвижение в культуре XVII—XVIII вв. на первое место драматического искусства и рождение оперы не могло не повлиять на отношения между литературой и музыкой. Само количество «ингредиентов», составляющих музыкально-драматическое целое оперы, побуждало к новому аспект)' морфологического иг следования Осознаются не только словесные, лексические параллели с литературой, но и синтаксические. Культура «взрослеет»: она начинает предчувствовать свои онтологические коннотации, притязает на языковое объяснение мира. Музыка показывает, что ей внятны зо-словесные смыслы. В историю литературно-музыкальной биографии внедряется мысль о вяемузыкальном, культурологическом значении музыки, музыка понимается как один из кодов культуры.
Внимание к интонациям музыки позволило по-новому взглянуть на музыкальный язык, который оказался самостоятельнее, чем думалось раньше. Музыка не только осуществляет вторичную семантизацию смысла, выраженного словами, но может противоречить, а подчас и отменять смысл слов. Становясь собой, музыка всё чаще оказывается метафорой. Музыкальная ассоциация становится терминологически значимой.
«Золотой век» в описании, сопоставлении литературы и музыки — период Романтизма. Романтизм подчеркнул в музыке не этическое свойство мелодии, способной нравственно исправлять и воспитывать человека, а свойственную музыке потенцию самовыражения. Исторический ракурс культуры, выявляющий исторически конкретные формы искусства, вооружал романтиков неисчислимым количеством примеров музыкального и прамузы-кального существования. Романтики прозрели музыкально-звуковое лицо мира, музыкальную «валентность» бытия. Акцент на невыразимом, тайном изменил само понимание точности выражения. Романтики в лексике своего времени высказывают недоверие к словам, их «определенности», чувствуя то, что приобретёт законченную формулу в поэтической фразе Тютчева, блеском формулировки оспаривающей свой собственный смысл: «мысль изречённая есть ложь».
Чем «контурнее» вырисовывалась «самость» музыки, тщательнее, «ревнивее» оберегалась музыкальная автономия и суверенитет, тем более чётко проступали векторы сравнений. Каждый музыкальный элемент в системе романтических антиномий приобретал свою немузыкальную пару. Впервые была осознана проблема внемузыкального в музыке, вяепоэтического в поэзии. Морфологические миграции усиливали напряжённость романтической поэтики, обнаруживая внутри различных художественных языков антиномии «своего» и «чужого». Складывалась система опознавательных морфологических знаков, узнаваемых в любой чуждой художественной системе, указующих на литературность или музыкальность своей генетической природы.
Реальное бытование музыки в период Романтизма позволяет увидеть относительную самостоятельность жизни по отношению к различным теориям, аппликативный характер их связи. Как бы мастерски ни монтировалась концепция к жизни, всегда есть ощущение некоторого зазора, указывающее на условность сцепления. Общая практика европейской жизни диктовала иные теории, придумывала «лучшие сказки».
Классический XIX в. посмотрел на музыку функционально-онтологически. «Невыразимое» музыки, как «невыразимое» Жуковского, приобрело законный статус, стало осознаваться как нечто естественное, «нормальное». Программно-реалистический концепт наделил любое явление, предмет жизненно-процессуальной «невыразимостью», романной «далью», разомкнул художественную структуру. В реалистическом концепте слово предстало как письменный текст, собственно литература. Распадение термина на поэзию и прозу по-новому осветило взаимоотношения слова и музыки. Отделившись от своей звуковой, речевой природы, письменное слово встало перед необходимостью выработать механизм «различения» для идентификации себя в среде похожих письменных нехудожественных тексюв. Вызревало понятие художественности, в центре которого прочно обосновалось гегелевское «мышление в образах».
XIX век — период особой морфологической зрелости. Длительный опыт не только сосуществования, но и морфологического самопознания обучает искусства осмотрительности. Морфологические связи искусств приобретают характер сотрудничества. Многообразная и всё более «массовая» художественная жизнь приучала искусства к общению. Искусства обменивались досугом, открывая внеморфологическую природу искусства, погружаясь в сферу «удовольствия» от художественных «текстов», написанных на разных морфологических языках, — в удовольствие восприятия.
Роль музыки в деле воспитания «реципиенции» постоянно значительна. Хроническая открытость слуха шлифует механизм различения. Описания искусств, большей частью — музыки, написаны в аспекте художественного восприятия. Вербализация музыкальных переживаний демонстрирует отточенное мастерство словесного искусства. Музыка предоставляет себя искусству слова в качестве трудного упражнения, эпода для увеличения «разреша-ющей способности» вербализации, захватывающей всё более мелкие детали акустических и психологических рефлексий. Музыка оказывает «вторичное» удовольствие через мастерски написанный вербальный текст.
Символизм возродил культ музыки, заговорив о ней как о едином потоке жизненного движения и идеальном выражении символа. Свойственный эпохе символизма синкретизм охотно нарушает автономию искусств, наделяя музыку «литературностью», а литературу «музыкальностью». Звуковая функция языка поглощает семантическую. Взаимоотношения литературы и музыки вступают в новую фазу.
2.2. Проблема связи литературы и музыки в исследованиях XX века. Синтез искусств — естественное состояние культуры. Речеподобность культуры, её коммуникабельность, диалогичность создают сложную систему перекличек культурных языков, «гул» культуры, в котором при различной настройке слышны то отдельные голоса, то весь оркестр. Взаимодействуя, искусства выполняют космогоническую функцию, вступают в «священный брак», порождая метапространство культуры. Литература и музыка — яркие краски морфологической палитры. Общий генезис этих искусств с древнейших времён ведёт их рука об руку, как персонажей близнечных мифов, превращая то в «братьев», «друзей», то в антиподов. Генетическая общность способствует морфологической адаптации.
В культурологии само понятие синтеза оказывается синтезирующим, открытым для разных толкований, корреспондируя с понятиями «культурного диалога», «концерта культур», «морфологических экспликаций», «семантического перевода». Традиционное понимание специфичности, неповторимости отдельных художественных языков сомкнулось с пониманием гетерогенности языка искусства, с понятием метаязыковой структуры. Отсюда — возрастание интереса к художественным явлениям, которые рождаются на стыке разных, «иных» языков, к знакам тропированной художественной природы. Факт различия языков осознаёмся как факт высокой эстетической значимости. Манящим и искомым оказывается то «истинное» произведение, которое обнаруживается в различии, становящимся источником нового смысла.
Экстраполирование понятия текста на невербальные структуры и тотальная текстуализация культуры неизмеримо повысили коэффициент зна-
чимости перевода. Вся культура практически мыслится как история переводов, перекодирования знаков. Обратное раскручивание истории («обратный перевод») призвано не только выйти к языку источника, но и реконструировать его смыслы. Культура и её история — некий бесконечный палиндром.
Концепция знаковых переводов не могла не затронуть сферу морфологических взаимодействий. В аспекте литературно-музыкальных связей проблема обострялась дискуссионностью исходного концепта о языковой природе музыкального знака. Различие лингвистического языка и языка музыкального усматривается в дискретности, грамматике и семантике словесного языка (М. С. Каган). Литература и музыка — тексты, различным образом генерированные: литература — текст, «основанный на механизме дискретности», текст музыки — «континуален». Именно сочетанием дискретного и недискретного текстов порождается ситуация непереводимости, образуется «семантический троп» (Ю. М. Лотман). Таким образом, соотношение литературы и музыки оказывается смысловым «со-бытием», перерастающим сферу искусства и претендующим на статус самостоятельного смыслопорождающего текста культуры.
На протяжении всей совместной жизни музыка стремится к смысловой наполненности, литература — к неопределённости, размытости смысла. Присваивая «чужое», искусства постигают «своё». Долгая жизнь не сделала проблему литературно-музыкальных отношений менее острой, дискуссионной и загадочной. Изнутри сегодняшней культурной ситуации, в которой мир мыслится «написанным», соотношение в тексте культуры «следов» различных морфологических языков приобретает значимость философского, культурологического концепта.
В качестве основных сфер сопоставления литературы и музыки постепенно были выделены ритмика, интонации, композиция, исследование которых всё более расширяет «зону поиска». Сложные структуры гетероморфных культурных текстов требуют сложного инструментария, широкой контекстной среды, культурологического подхода. Формируется «корпус» методологических, базисных исследований И. И. Иоффе, Б. В. Асафьева, Б. М. Эйхенбаума, М. С. Кагана и др. Устанавливаются три основных способа сочетания искусств: конгломеративный, ансамблевый, органический (М. С. Каган). Одна из интересных страниц сегодняшнего искусствознания — работы о семантике тембров, которые мыслятся «индикаторами» музыкальных стилей (Е. А. Ручьевская). В истории культуры были выделены периоды, для которых характерна тесная связь музыки с внемузыкальными компонентами культуры (прежде всего — словесными), и периодов, в которых музыка «свободна» от таких связей (В. Д. Конен).
Перспективно изучение акустического пространства музыки (И. И. Зем-цовский). Именно слышимая музыка осознаётся хранительницей и носительницей этнической, национальной традиции. Артикулированная музыка — озвученные корни культуры, «родимые пятна» языка, звуки народа, местности, звуковая традиция Рода. Без слуха голос умирает. Слух интерпретирует информацию, передаваемую голосом, выявляя одновременно и этническую, национальную специфичность восприятия, и интерзвуковую матрицу звуковой картины мира.
Концептуально и методологически значимой в исследовании соотноше-
ния музыки и литературы является семиотическая теория культуры, представленная работами Ю. М. Лотмана, В. В. Иванова, Р. О. Якобсона, Б. А. Успенского, Ю. С. Степанова и др., демонстрирующими «интеллектуальный синтез», «культуроморфную чувствительность», вскрывающими в культуре её онтологическую нечленимость и неизменно остающимися образцом куль-туроведческого исследования. Философские, культурологические, лингвистические концепции, рассматривающие искусство как особый язык, своей методологией, методом, операционной техникой демонстрируют культуру научного синтеза, необходимого для изучения гетероморфных структур. Этот научный «инструментарий» адекватен «событию» словесно-музыкального синтеза и, в связи с этим, наиболее представителен в современной культурологии. «Содержательная характерологичность мира» мыслится «обусловленной свойствами языка» (В. В. Ильин).
Тем не менее, несмотря на очевидный интерес к проблеме литературно-музыкальных связей, остаются не решёнными многие вопросы, касающиеся и «частных» случаев их контактов, и сложившихся в истории художественной культуры общих тенденций морфологических взаимодействий и отталкиваний.
Литературно-музыкальные отношения в русской культуре XIX в. представляется возможным исследовать с двух сторон: с выяснения влияния музыки на литературу, с определения доли участия «музыкальной школы» культуры в формировании культуры в целом, для чего необходимо остановиться на полисемантизме понятия «музыкальность» словесного произведения, и, наоборот, — с установления роли литературы в становлении русской музыки, с выявления уровней и характера связей музыкального произведения с словесным текстом.
Глава 2 «Влияние музыки на литературу в русской культуре XIX века»
состоит из двух параграфов.
2.1. Проблема «музыкальности» литературного произведения. Понятие исконной, глубинной музыкальности словесного искусства давно и прочно обжилось в литературоведческих работах. Музыковедческая терминология в литературоведении всегда приобретает оттенок сравнения и становится тропированной терминологией, тропом. Но в самом факте сравнения, в его желании, проявлена глубинная языковая логика, бережливость языка, некий алгоритм языкового пути. Мотив метафоры — несомненность аллюзии, такая развитость ощущений, их культура, которая позволяет оперировать именем ощущения как термином.
Музыкальность словесного произведения — интуитивно осознаваемая аллюзия, некая метафора-термин. Словесное произведение должно производить впечатление музыкального произведения. Должны быть схожи ощущения, глубина попадания, текст должен напоминать «музыкальную предметность» (А. Ф. Лосев). Важным представляется определение мотива музыкальной аллюзии, импульс сравнения. Поиски «точных» литературоведческих объяснений всегда в той или иной степени обречены на неудачу. Образ точнее перечня, спасительная метафора именует не приём, а ощущение приёма. При сравнении структуры письменного словесного и музыкального произведений музыкальность оказывается категориейвидимой, тогда как первотолчок к наименованию словесного произведения музыкальным — слуховая
ассоциация. Именно слышимая музыка гарантирует музыкальной аллюзии несомненность, автоматизм, превращает её в универсальную категорию, «музыку для всех».
«Музыкальная предметность» объясняет и выбор музыкальной сферы для сравнения. Музыкальность — не нейтральное эстетическое определение: оно обозначает высшую степень «невыразимого» впечатления, максимальный предел воздействия художественной (и не-художественной) образности.
Исследования звукового сходства слова и музыки наиболее многочисленны. Музыкальными обычно называют те «звуковые комплексы», которые кажутся нам напевными. Это — мелодический тип музыкальности словесного произведения. Напевность в данном случае — не метафора, а реально слышимое качество текста: сгущения сонорных, ассонансы, зияния (По небу полуночи ангел летел; На холмах Грузии лежит ночная мгла; Она твоя, о аш ел мой... и т.п.). При мелодическом типе музыкальности имеет значение протяжённость, долгота мелодической линии, интонация как наиболее психологически и семантически значимый элемент поэтической структуры.
Уподобление словесного произведения музыкальному, слышимому, ставит проблему вербальной выраженности тембра. Семантическая огружен-ность тембров — постоянное свойство звуковой культуры. Литература располагает множеством примеров прямых, лексических указаний на тембровую характеристику музыкальных образов: Девушка пела в церковном хоре; Рояль былвесь раскрыт... и т.п. Средства массовой информации сделали возможным буквально слышать тембр автора, читающего стихи. Но речь о другом. Не слыша голоса Б. Ахмадулиной, мы читаем её строчки (например, изумительно красивые «зияния»: Елизавета и Анна) в лениво-усталой авторской манере артикуляции, низком регистре, медленном темпе. Что побуждает к этому? Почему так удаются пародии на эту поэтессу, в которых звучит не только её лексика, но и её голос (...и тусклый блеск убогого алмаза На безымянном пальчике моём... [А. Иванов]) ? Эту фразу нельзя прочитать в тембре не-Ахмадулиной.
Поэзия более «темброва», нежели проза. Во-первых, тембр вертикален и, следовательно, более близок поэтическому тексту, который требует не горизонтального нарративного развёртывания, а сопоставления, контрапункта. Во-вторых, тембр вертикален и, следовательно, этичен. Отлаженная веками практика музыкального пространства, музыкально-этических вертикалей, закреплённых в регистрах органа, хоровых партиях, голосах и инструментах, создаёт матрицу восприятия, на глубинном, предсознательном уровне контролирует чтение «про себя».
Тембр словесного текста, в отличие от музыкального, меряется более крупными «единицами» (мужской-женский) и более иптонационен, в нём традиционно выдерживается интонационно-эмоциональная вертикаль (например, истерическая окраска располагается в верхних регистрах; гнев, страсть — в нижнем; «волнению» интеллекта удобна «середина»). Естественно, текст может «играть на различиях» и «путать карты», но архетипы очень устойчивы. Интонационные подсказки даёт синтаксис. «Приду в четыре, — сказала Мария. Восемь. Девять. Десять». Так может написать только мужчина. Синтаксис тоже вертикаль, но уложенная в строчку, зеркально сопоста-
вимая с лесенкой Маяковского, которая скорее горизонталь, говорение, поставленное лесенкой.
Тембр текстуален, это врождённое свойство слова. Тембровая характеристика мелодичности текста выводит нас с уровня фонетического на уровень синтаксиса, лексики, темы, в конечном счёте — смысла. Выявление музыкальности поэтического текста на фонетическом уровне или сопоставление литературы и музыки с точки зрения их звукового подобия никогда не могут быть ограничены только эшм уровнем.
Музыкальными также называют поэтические произведения, в которых есть звуковые повторы (в большей степени — аллитерации), производящие впечатление звуковой игры, забавы. Это — собственно звуковой тип музыкальности словесного произведения.
Звуковая игра — это не простое звукоподражание и не «остинатная» демонстрация (Чуждый чарам, чёрный чёлн; Мой милый маг, моя Мария и т.п.). Скорее, это некая фонетическая эквилибристика, звуковое жонглирование, игра звучаниями, лаборатория касаний. Даже труднодостижимые и неблагозвучные звучания могут быть восприняты как игра благодаря своей звуковой виртуозности, артикуляционному атлетизму, «удовольствию от игры».
Таким образом, одна из сторон музыкальности литературного произведения — это музыкальность слышимого звукового ряда. Она может быть двух типов, каждый из которых имеет множество конкретно-стилевых, индивидуально-авторских разновидностей:
1) мелодичность, напоминающая протяжённость, «мелодическую перспективу» собственно музыкальной мелодии, достигаемая сочетаниями гласных;
2) фонетическая игра, удовольствие звукоподражаний, речевых артикуляций, достигаемая касанием согласных.
Факт влияния музыки на литературу на фонетическом уровне трудно доказуем в силу универсальности общего «корня» — фонетики «речения» — и невозможности окончательно определить очерёдность рождения этих художественных феноменов и их «старшинства».
Второй пласт музыкальности литературы — музыкальные темы, факт появления в литературных произведениях реалий музыкальной культуры. Это видимая музыкальность литературы.
Тематическая музыкальность—понятие внутренне неоднородное. В ней можно выделить две сферы.
Во-первых, это сфера звука как такового, область слуховых ощущений, готовность к ним и потребность в них. Есть писатели, поэты, за которыми прочно закрепилась характеристика поэтов «слухового типа» (П. Верлен, А. Рембо, А. Фет, Б. Пастернак и др.).
Доминан1а ¡ой или иний чувственной реакции — симптом ценностной ориентации художника. В этой связи простое количество слуховых образов уже является показателем творческого сознания. Основная же характеристика слуховых образов — их лексическое «лицо», «тембр». Имеется в виду: 1} Нейтральное называние физического источника звука (звуки природы: небесные громы, лесные, морские шелесты и шорохи; звуки бытовые: звуки дверей, окон, мебели, одежды, посуды; звуки живые: голоса людей, животных, насекомых, птиц; звуки труда, праздности и
т.д. Особый вид звуков — звуки ирреальные: неясные звуки тайных сил природы и человеческого сердца, сложные комплексы разнообразных ощущений с едва намеченной доминантой звуковою впечатления [Прозвучало над ясной рекою; Неясных звуков отстающий рой; Какие-то носятся звуки). Как явление ирреальное, звук не поддаётся уяснению, распознаванию; часто он соотносится с состояниями сна, видений, бреда, грёз и т.п. Нейтральные источники звуков всегда содержат в себе интеркультурную акустическую маркировку и говорят о сознательном (или бес/под-сознательном) выборе, т.е. содержат в себе концепт,
2) Характер окрашенности восприятия звука, выбор речевого пласта, из которого взята лексическая единица, называющая источник звука и/или дающая характеристику самому звуку (вьюга воет или поёт; стенанья филомелы или хриплый свист соловьихи и т.п.). Этим выбором создаётся некий культурный акустический «горизонт ожидания» читателя/слушателя, производится культурно-акустическая настройка на жанровый, стилевой, ценностный ранг произведения.
3) Динамика звука, которая может быть охарактеризована двояко: — собственно сила звуков (шёпоты и крики) и — глагольность их обозначения (шёпот или шептали, крик или кричали). Сочетание динамики и статики в художественном образе концептуально значимо и в историко-генетическом, и в онто-гносеологическом аспектах, поскольку в той или иной степени отражает жизнь категории движения.
4) Пространственные характеристики звука: — близость и дальность источника; —чуткость и острота слуха;—адекватность слуховых реакций.
5) Лексический, стилистический, интонационный контекст, который вводит звуковую лексему в широкую культурную парадигму (романтизирует, идеализирует, снижает, завышает, драматизирует, траве-стирует, десакрализирует и т.п.: Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали и Рояль дрожащий пену с губ оближет...). Этот набор характеристик в целом даёт акустический портрет стиля, выявляет музыкальность как способность к слуховой рефлексии, историческая парадигматика которой концептуально подвижна, а феноменология — аксиологически значима.
Вторая сфера тематической музыкальности — реалии собственно музыкальные. Перечень характеристик здесь тот же самый, что и в сфере звука, с той только разницей, что источник звука и сами звуки — музыкальные.
Виды музыкальных реалий многообразны: — названия музыкальных инструментов; — музыкальная терминология; — имена композиторов; — названия музыкальных произведений, их фрагментов, персонажей и т.п.; — описание музыкальных впечатлений и т л
Дальнейшие характеристики музыкальных реалий тоже совпадают с характеристиками сферы звука с учётом «вторичной семиотической» нагрузки, которую несёт в себе культурная реалия по сравнению с реалией природной.
И в сфере звуков (реальных и ирреальных), и в сфере музыкальных реалий интерес представляет не только их «инвентаризация», но и их художественная функция, характер обхождения с ними (любовь — мелодия; волоса-
то, как торс у Бетховена; музыка революции и т.п.), пропорции их соединения, семантические «доминантные очаги».
Третье проявление музыкальности литературы — жанрово-комиозици-онная, музыкальность формы.
Музыкальность формы словесных произведений — одна из самых проблематичных сторон литературной музыкальности. Музыкальность словесной формы (композиция, жанр) представляется наиболее уязвимой прежде всего потому, что простой реакцией на текст, первым впечатлением музыкальная форма, как правило, не определяется. Это — умозрительное сопоставление, видимое, особенно — в прозе. Более того, это знаемое свойство литературного текста, которое открывается только музыкально просвещённому читателю. Музыкальность литературной формы — это некая загадочная музыкальность стиля, которую можно попытаться объяснить литературоведческими понятиями.
Стилевая музыкальность — самая трудно анализируемая ипостась музыкальности, прежде всего, в силу вненаходимости и (одновременно) всеявлен-ности художественного стиля, а, в связи с этим, — многокомпонентности и многоаспектности стилевой музыкальности. Музыкальность в этом случае выражается в стремлении поэта, писателя абстрагировать переживание и выйти в сферу «чистых» эмоций. Апеллируя к чувству, поэт сообщает словесным текстам некоторую неопределённость взволнованных чувств, ту необходимую долю абстракции, которые, повышая степень эмоционального воздействия слова, степень его суггестивности, приближают поэтическое произведение к музыкальному.
Стилевая музыкальность литературного текста — это свойство текста, которое ощущается напрямую, помимо, в обход семантики, вне тематики, разумений («музыкальная предметность»). Здесь уместнее говорить не о влиянии музыки на литературу, а о её магии, архетипе музыкального образа как синониме алгоритма успеха, о «функции», переродившейся в «эффект».
Стилевая музыкальность—это совокупный результат акустической игры, фонических удовольствий, которые создаются и фонетическими приёмами, и системой интонирования, и магическими приёмами, традиционно используемыми в суггестивных текстах (заговорах, молитвах, заклинаниях), некий «полижанровый» знак. Это музыкальность процессуально-психическая, текущая, наркотическая. Такими свойствами обладают очень немногие тексты. На уровне музыкального стиля мы имеем дело с перекодированной «музыкальной предметностью», которая, по сути дела, превращает всё словесное произведение в морфологический троп.
Если же музыка проникает в текст сознательно, как вид искусства, как некая жёсткая организация, как понимаемая и видимая форма, то поле контактов расширяется. При анализе видимой, сознательной музыкальности можно говорить о влиянии музыки на литературу. Здесь оказывается уместным выход за пределы произведения, во внехудожественные источники: высказывания писателей о музыке, свидетельства современников, авторские объяснения собственных музыкальных «сверхзадач», впечатления детства («условия существования», участие музыки в формировании и понимании своего мира ценностей, симпатий и антипатий, ауры аллюзий), знакомства, время препровождения, беседы, круг единомышленников, доминирующие
темы разговоров и раздумий — т.е. вся жизнь по отношению к «центру музыкальности» и «след» этого в литературных текстах.
2,2. Музыка как образ в словесной культуре XIX века. Когда в семидесятых годах XX в. журнал «Вопросы литературы» посвятил один из своих номеров обсуждению проблемы «Классика и мы», уже в самой формулировке прозвучала едва ли не самая концептуальная часть ответа: классика — это не мы. Знак соединения одновременно фиксирует разность.
Отделённость и отдалённость классической модели от современной очертили границы «естественного» реалистического письма, выявили его художественные константы. «Безыскусность» системы реализма, предполагающая, казалось бы, только внимательность к действительности «как она есть» и «правдивость» её воссоздания, всё более приобретает черты закрытой структуры («искусства как приёма»), которая узнаётся не только общим выражением, но и отдельными чертами.
Облик классического XIX в. именно благодаря его осознанному и последовательному жизнеиодобию художественно опознаваем. Интересуясь прежде всего «отношениями к действительности», эстетика XIX в., с одной стороны, снимала эстетическую патину с реальной жизни и требовала не эстетизированного, а прямого, правдивого изображения, с другой — именно интерес к сфере «отношений» к жизни и с жизнью неизбежно формировал облик субъекта этих отношений, более того — субъекта самостоятельно мыслящего, трезво воспринимающего жизнь, а не меряющего жизнь традиционными, умозрительными категориями. В связи с этим художественная картина XIX в. характеризуется и единым предметом художественного творчества, который обнимает все «лики бытия» («войну и мир»), и различными художественными течениями, и множеством индивидуальных стилевых практик. Современникам была больше видна разность мнений, в ретроспекции — многое, ощущавшее себя антиномично, слилось в едином понятии «классики», которая, как стало ясно, имеет свои гербовые знаки.
Классическая русская культура XIX в. — период зрелости отечественной культуры, период особой литературно-философской активности. Сложившиеся в конце XIX в. идеи А. Н. Веселовского о «встречных потоках» культурного развития в русской истории получают особую иллюстративную наглядность: исконно русский генезис и европейские культурные «вирусы», встречаясь, рождали особое «со-бытие» русской культуры. Влияния обогащали культуру «вширь», не меняя самобытной русской ментальности, но оттачивая и шлифуя культурное самопознание.
Не только из «туманной Германии» и не только «плоды учёности» вывозила Россия. Романтическая и потом ставшая «классической» немецкая философия формировала философскую лексику. «Действительность как она есть» отвлекала от романтических идеалов и абсолютов, диктовала собственные тексты, оказывалась «магнитом попритягательнее». Отечественная война 1812 г. показала «простоту» конфликтов, замешанных на антиномиях («своё, чужое — какой покой!», — скажет впоследствии А. Белый). Всё яснее проступало их «единство», а не «борьба» — «примирение противоположностей», по выражению В. Г. Белинского. Не только «претерпевание», но победа в войне с Наполеоном, декабристское восстание, тип и образ участников — всё было так весомо, высоко и значимо, что совершенно не требовало
«пересоздания». Романтизм был естественным состоянием русской истории. Одновременно — это было началом «реального направления», избравшим своим основным «предметом» обыкновенную человеческую жизнь, «частного человека».
Готовность к новому художественному направлению русская культура продемонстрировала восторженной реакцией на пушкинскую поэму «Руслан и Людмила», приняв её за романтическую и хваля за те, якобы романтические, детали, которые были явным нарушением романтической поэтики: нельзя было ставить романтического героя в такую, почти комическую, ситуацию «потери» молодой жены, иного тона требовала и романтическая героиня и т.п. Тем не менее, именно подобного рода реалистические «изюминки» сообщали традиционному жанру феномен лёгкости, естественности своего создания, ту грацию, безыскусность и жизненность, которые уже ждались русской культурой. Главное же заключалось в непринуждённости тона, новой интонационной технике, вытягивающей «дискретные» строчки стихотворной поэмы в «континуальную» линию естественного рассказывания. Прозаический критерий уже примеривался к поэтическим текстам. Стихи не хотели казаться стихами. «Поэзия действительности» говорила прозой.
Проблема морфологического контакта литературы и музыки, казалось бы, далека от такого рода проблем. Но русская культура «сплошь» двигается от поэзии к прозе. Более того, соотношение в культуре прозы и поэзии указывает на долю «музыкального элемента» в культуре. Прозаизация — не внутрилитературная тенденция, а путь культуры, явленный симптом культурной зрелости. Прозаизация литературы — это вербальный бунт, высвобождение естественного слова из дисциплинарных уставов поэзии, поглощение литературы Речью; это жанровый бунт, высвобождение смыслов, жанровая селекция; это семантический бунт, интеллектуализация дискурса, поглощение речи Письмом.
Тотальность прозы — репетиция деконструкции. В культуре XIX в. — истоки громадной «штудии» культуры, порождающей семантический хаос, нонсемантизм, и, одновременно, самим фактом штудирования вырабатывающей противоядие. Культура освобождалась от романтических бинарнос-тей, антиномий, «вершинностей», её уже не удовлетворяла картина видимых (пусть даже глобальных) противоречий. Интереснее было раскапывать антиномии в похожем, близком, подобном, обнаруживать внесистемные элементы. Прозаичность расточительно обходилась с художественным пространством, растягивая, деформируя, меняя очертания традиционных жанровых форм. XIX в. — эпоха великого прозаического «потопа».
Классическая реалистическая литература не только продолжала традиции былинного эпоса, но специфически осваивала западноевропейские романные формы. Невмещаемость авторского концепта в обычную хронологич-ность повествования, в избранного героя, транспонирование сюжета в область психологии, внутри которой обнаруживается «диалектика», несводимость мотива и поступка вылились в новый тип толстовского романа, который явил, с одной стороны, романную форму эпоса, а с другой стороны — романную перспективу. Новые бытийные структуры вызывали к жизни новые языковые формы. Разрушение традиционной языковой конвенции выполняло демиурги-чески-когнитивную функцию.
Сравнение текстов XVIII и XIX вв. поражает увеличением словаря литературного языка. Литература инвентаризироваладействительность, формировала поэтику «лишних подробностей», которые, естественно, оказывались совсем нелишними. Культура буквально означивала жизнь, пытаясь, по-толстовски, «всё соединить».
Изменение «зернистости» жизненной фактуры, вычленение из действительной жизни единиц другого масштаба изменили художественное пространство, темп движения фиксируемой жизни, концентрацию поэтичности —- изменялись параметры слова, его фиксативные возможности. Из литературных и музыкальных форм уходила суггестия, культура осуществляла акт интеллектуального мщения эмоции. После культа «невыразимого» наступал период интеллектуальной сатисфакции культуры. В этой акции литературе принадлежала главная роль. Литература перекодировала жизнь в слово. Смена героев, сюжетов, лавина «лишних» подробностей, высокохудожественная «графомания», вербальный фанатизм — всё это ещё более увеличивало роль литературы как художественно-культурной доминанты.
Одна из тенденций русской культуры — тенденция к морфологической индифферентности. В литературной позиции как будто господствует принцип «каждому — своё». Не только классическая русская проза не нуждается в ином языке, но и поэзия сокращает «музыкальное» и, даже, — «поэтическое». Дело не исчерпывается «вычитанием», литература «присваивает» нехудожественное, которое осознаётся как эпическое. С одной стороны, литература разрабатывает реализм, который много позже Г. Маркес назовёт «будничным». С другой — русская культура обнаруживает в самой действительности эпос русской жизни, первоначально воспринятый литературно. Эпическим осознаются и привычная патриархальность, и особый русский характер, и темп русской жизни. Обнаруживается связь «борозды», «распева», «сказа», которые звучат русской «тоской», той «элегичностью», которая впоследствии осознается как интонация русской ментальности.
Литературоцентричность — традиционная черта русской духовной культуры, «Безбрежность» реалистической картины мира естественно рождалась безбрежным российским геопространством, «открытость» метода соответствовала «бесконечным» русским далям (за далью — даль), текучесть жизненной субстанции становилась естественным состоянием и «предметом» культуры.
Русская литература XIX в., в гении Пушкина прозрев свои возможности и перспективы, перестаёт понимать себя как только литературу. Слово буквально превращается в дело, общественное служение, политическую борьбу. Более того, русская литература, как известно, брала на себя функцию и национальной русской философии. В этой ипостаси слово не могло себе позволить играть «обертонами», «намекать» и «навеивать». Напротив, литература доказывала свою понятийную мощь, лелеяла терминологические амбиции, притязала на .нехудожественную значимость.
С развитием «поэзии действительности», с развитием прозы музыкальный компонент художественного языка убывает. Поэтическая «энтропия» литературы влекла за собой убывание, выветривание музыкальности. Проза отчуждала музыку, превращая её в «объективную реальность», чётко очерчивала её «морфность» и векторы функций. Однако музыкальное представительство культуры широко, разнообразно и концептуально.
Музыкальные влияния в культуре XIX в. — это прежде всего влияния бытийные, первичные — не музыки, а её первоэлемента — звука, его акустической антропности. С древнейших времён звуковой код маркирует живое. Именно звуками мир являет человеку свою особую жизнь, тембром рассказывая о материале звучащего «тела», длительностью воспроизводя движение, процессуальность, «историю», динамикой и темпом — «внутреннее» состояние, экспрессию, «онтологические настроения». Как правило, звуковой пейзаж представляется более одушевлённым и одухотворённым, обжитым. Природа, лишённая звуков, кажется мёртвой.
Внимание к действительности естественно увеличило акустическую чуткость литературы. «Документально» описывая жизнь, литература не могла не прислушаться к её голосу, тембру. Акустической наблюдательности способствовало и общее концептуальное обращение русской культуры к её древнейшим основам, мифологическим истокам, былинному эпосу, синтезирующему разнохарактерные лирические мотивы в эпическую историю, рассказывание и осознающемуся только произнесённым.
В литературе, ориентированной на эпическое воспроизведение жизни, роль музыки в формировании художественной словесной фактуры, на первый взгляд, незначительна. Великие романы Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, даже проза А. С. Пушкина не вспоминаются своей «музыкой», кажется, что её там почти нет, но открываешь, читаешь и обнаруживаешь, «как много в этом звуке», как много «звуков».
Музыка живёт в классическом русском романе своим природным материалом, на правах голоса жизни: в старых домах скрипят двери и половицы, по вечерам слышны голоса лягушек, тренькает гитара, раздаются хохоты и визги. Это, конечно, не «музыкальность», но всё же голос, говор русской жизни, звучание русской культуры. Музыка не может не воздействовать на литературу фактом своего звукового, прамузыкального существования. Прочность обоснования музыки в русской литературе XIX в. именно в естественности, недекларативности её места. В отличие от «музыки» романтиков у неё нет антипода, она неуязвима. Именно в той литературе, где музыки «нет», где она не настаивает на своём присутствии, она онтологически неустранима.
В произведениях русских писателей создаётся акустический образ русской городской и усадебной жизни, её разноголосицы. Все эти дотошно, с умилением или раздражением, «зарегистрированные» звуки поразительно национальны. «Мычания», «скрипы», «карканья», «хлюпанья», «храпения», «бренчанья» и пр. лексически создают образы русских источников звука. Звук в русской литературе чаще всего не деталь, а подробность, действующая «массовидно», «роем». «Гул языка» национален. Каждая культура пестует свою звуковую «геральдику», «эмблематику», вырабатывает сложную лексическую поэтику звуковых образов. В русской культуре звук почти всегда пространствен, глаголен, богат психологическими обертонами, символи-чен. Звуки, музыка в произведениях, в которых они не «сверхзадача», — это те самые «описки», «оговорки», «неструктурности», которые обнажают «сущности». Это влияния первичные, они не проблема, они — впечатление.
Медиатором сферы природного звука и музыкальной культуры является речевой генезис слова и музыки. Естественный речевой фонд питает все сферы русской культуры. Плавность, «певкость» русской речи и крепкое русское
«словцо» определяли регистровый диапазон культурного словаря, объём его звучания. Витиеватость, «заковыристость» народной речи, её острота, смешливость, цепкость «играла» в замысловатых узорах наличников, коньков, прялок, сарафанов, кокошников, буквально «плясала» в «притопываниях», «выходках», «вихрях» народных танцев, «впечатывая» в культуру неутомимость, несгибаемость, жизнестойкость «русского духа».
Но одновременно русская культура пестовала иное своё лицо, иконописный лик, с текущими, «музыкальными» овалами, складками, разливающимся покоем, «умилением». Это грустное, тихое русское лицо — как лицо повзрослевшей античности, уже вкусившей «знания» и «скорбь», но не отрекшейся от «мира», жизни, гармонии и «лада». Это лицо являет себя в мерности, неторопливости, обстоятельности русской сказовости, мягкости рокотов-ских портретов, привычной печальности венециановских лиц и пейзажей, «культурной выдержанности» чеховского письма.
В реалистической культуре XIX в. чу íKocib к устной поэтической тради- •
ции оказалась особо актуальной. Традиция устного слова извлекала из глубин истории феномен первобытного художественного синкрезиса, в котором литература и музыка еще не знали о своих морфологических «границах», но сообща использовали свою коммуникативную магию. И литература, и музыка XIX в. хотят быть речью — понятийной, членораздельной, искренней речью, идущей от человека к человеку.
Настойчивая реализация своей речевой коммуникативности и последовательное обращение к художественным истокам культуры — общий магистральный путь и литературы, и музыки в культуре XIX в. «Гости съезжались на дачу» и «Всё смешалось в доме Облонских» до сих пор осознаются образцовыми формулами не только мгновенной включённости в интригу, мастерства сюжетосложения, но и непринуждённости рассказывания. Текст, сознательно ориентированный на создание эффекта естественного рассказа, принципиально увеличивает роль и значение интонации.
Всенародность аудитории, к которой обращалась литература, активизировала демиургические способности языка, который «напрягался» в поисках слов для воплощения концептуализируемых переживаний. Новый словарь «живого» русского языка в некоторой степени снимал проблему «безмолвствующего народа», позволяя проникать в те социальные, психологические, идеологические «подполья», которые до этого были лишены «речи».
Получив «голос», обыкновенный человек заговорил «о своём», о разном. Это «своё» не помещалось в лексически выраженной информации и приобретало истинность в интонации говорящего. Интонация помещает графическую линейную рядоположенность слов в акустическое пространство живой речи, «топографически» размечая семантические «высоты», «склоны», «лакуны». Принципиальное изменение синтаксиса, замена причастных и деепричастных оборотов придаточными предложениями, инверсионные фигуры, соотнесение лексически разных речевых пластов, подобно музыкальной штриховке, должны были регулировать чтение «про себя» и явились компенсаторным маршрутом письменной формы слова в речевую практику культуры. Симптоматично, что наиболее развитая и обильная штриховка характерна для нотных записей Бетховена. Порвав с произнесением, став молчаливой («алфавитом, в беспорядке разбросанным по странице», как потом
пошутит Ж. Кокто), литература захо 1 ела быть услышанной. Кроме т ш о, ли ге-ратура хочет быть правильно понятой.
Право быть рассказанной и возможность быть воспринятой обыкновенная жизнь приобретала особой доверительностью, искренностью тона рассказчика. В русской литературе, представленной различными интонационными моделями (эпической, сказовой, публицистической, ораторской, сатирически-обличительной, покаянно-исповедальной и др.), последовательно формируется стиль понятийно ясного, «великого и могучего» повествования, способного осваивать концептуальные смыслы, представленные в различных контекстах.
Однако интонация не довольствуется ролью точного воспроизведения смысла текста. Она проявляет склонность к авторитарности, диктатуре, настаивает на своей эмансипации. Семантика тона всё энергичнее обособляется от системы прямых значений слов не зависимо от того, согласуется ли она с ней или вступает в противоречие. Поиски верного тона принципиально меняли структуру реалистического письма: разрастался словарь, увеличивалась морфологическая гибкость слова, в котором возрастала семантическая значимость аффиксов, невероятно усложнялся синтаксис — формировалась особая вербальная скрупулезность, переходящая подчас в «ковырянье», «занудство», «самокопание», раздражающее и читающих, и пишущих.
Как правило, персонажи русской литературы много говорят. Естественно, они многое и слышат. Русские писатели проявляют поразительную акустическую «чувствительность». Многовековая работа по означиванию звуков, семантика тембров и регистров, аксиология и этика звуков — всё оказалось востребованным и органично переработанным. Характерологическая функция голоса в русской литературе огромна. Акустические «добавки» сопровождают описания и говорящего, и слушающего. Желание быть правдивым и точным, описывая состояния героев, побуждает искать слова для фиксации тона разговора, интонаций, тембровых обертонов. Уникальность человеческого голоса понимается и акустически, и психологически, и социокультурно, и эстетически. Симптоматично, что понадобится именно музыкальный термин, чтобы сказать о специфике романов Достоевского. Прозрачность, этическая ясность русской литературы, несмотря на её густую философичность, сюжетную многослойность и психологическую «мелкозернистую» изощрённость («достоевщина») во многом создаётся именно интонационной виртуозностью, чувствительностью к тону. Речевой синтаксис, его интонационная «графика» этически и идейно рефлексогенны. Поле невербальной информации в вербальной системе родного языка обеспечивает «полное» понимание.
Речевая характеристика всё больше выполняет функцию портрета, «замещает» лицо и внутренний мир персонажа. В речевой характеристике появляются лексические и интонационные «лейтмотивы», «водяные знаки» речи, по которым персонаж опознаётся. Именно речевую маску использует автор, желая быть убедительным. Рассказывая о герое, автор играет его речевую роль — использует приём, который литературоведы называют «несобственно-прямая речь».
Акустическая характерология распространяется не только на персонажей, не только является характерологией человеческого голоса. Особая рус-
екая духовность облекается в «материю» звука, мелодии, песни. В интонационной линии речи слышны песенные истоки русской речевой культуры. Русский человек не «делает пением лодку», как мифологический Вяйнямёйнен, он «пропевает» жизнь.
Вторичным влиянием музыки на литературу можно полагать влияние музыки как вида искусства, проникновение в литературные произведения реалий музыкальной жизни.
Такого рода влияния объясняются состоянием быта культуры. Распространённое домашнее музицирование с чужеродными для российских усадеб звуками клавикордов и «домашними» голосами провинциальных певиц (пушкинская реакция: «Богмой!»), распространявшаяся всё интенсивнее >
концертная практика, сложившаяся национальная музыкальная школа, развивающаяся музыкальная критика, дружба художественной интеллигенции — всё способствовало не только «претерпеванию», но и «различению» звуков культуры. Долгие и частые «слушания» музыки отшлифовывали «диалектику души», экзистенциально тревожили, обучали психологизму.
Образ музыки в русской литературе — это прежде всего образ песенной культуры. Кажется пророческой, вещей догадка музыковедов о нисходящей мелодии как о древней, исконной прамелодии. Образ русской песни с её льющейся, опускающейся мелодикой, падающими интонациями вздоха, плача (этот стон у нас песней зовётся) приобретает в этой связи космическое, мифологическое значение, осознаётся как Голос мира (О боги, боги, как грустна наша земля!). Литературно-музыкальная история культуры — это история «голоса» культуры, её «речения». Мифологический образ реки — наиболее выразительный символ этого культурного сюжета.
Классический русский XIX в. наследует долгое совместное «течение» слова и пения. Тем не менее, развитие русской словесности начала XIX в. в своей поэтической речи совершенно не напоминает русскую песню. «Музыкальное» как свойство поэтического было открыто не сразу. «Музыкаль- » ное» как «песенное» пришло сначала в русский романс. Невозможностьчер- ' пать из языка другого искусства в пору собственной «незрелости» — симптоматичная примета, говорящая о морфологическом синтезе как стилевом < качестве развитого художественного языка.
Гений А. С. Пушкина далеко вперёд выдвинул русскую словесность, обеспечив ей место образца для всей русской культуры. Именно в поэтических текстах Пушкина открылась целостная бытийная красота русской национальной ментальности. До сих пор обескураживающая «простота» пушкинских стихов, естественно, не воспринимается как только его «личный» феномен, это — интертекст культуры, диктат языка. Пушкинский текст уже «играет на различии» прозы и поэзии, указывая на их «дьявольскую разницу» и одновременно ставя под сомнение сам факт различия. Пушкин «играет» то на одной, то на другой стороне, создавая текст культуры, который проявляет всё более крепнущее безразличие к тому, что читатели и критика, отдавая дань традиции, продолжали идентифицировать как поэзию или прозу.
Музыкальность пушкинских стихов — музыкальность, взятая не из музыки, это и есть та «певческая форманта», которая обнаруживается в речи. Музыка у Пушкина — это музыка, помнящая своё славное романтическое прошлое. «Любовь—мелодия » — образ, преподносящий одну из романтичес-
ких метафор в реплике эпизодического персонажа и превращающий музыку из философски-концептуальной категории в одно из ощущений обыкновенного человека. Глубокое переживание музыки уже не делает человека исключительным, но то, что минуты высокого и прекрасного переживания музыки доступны обыкновенному человеку, делает музыку очень человеческой — «любовь — мелодия». В пушкинское «наше всё» входит и его отношение к музыке — естественно-человеческое, отношение, в котором есть место разному переживанию музыки. Это не пушкинская традиция, но это — «пушкинское» в русской художественной культуре. Влияние Пушкина на русскую культуру — это влияние и литературы, и музыки, и русского «великого и могучего» языка, еще так не названного. Музыка русской души, а не только музыки, музыка уже как метафора, в которой дышала античная «гармония» и свой, отеческий «лад», формировала особую тональность русского искусства, озвучивая все морфологические языки.
Такой образ музыки характерен для психологической линии русской литературы. Психологический роман небезучастен к музыкальности как состоянию души. Развитие русского романса в его первоначально песенной модификации не только демократизирует музыку «вообще», но и вводит русскую песню в единое произведение русской культуры. Песня маркирует не только народное, но и национальное.
Лирическая песня — «отмеченный» музыкальный образ русской культуры. Трудно переоценить концептуальную, этическую и эстетическую значимость этого культурного феномена. Многовековая история песенного «замещения» всевозможных жизненных «сюжетов» превратила песню в «энциклопедию русской народной жизни». В разнообразнейших песенных жанрах «перечислены» радости, горести, жалобы, желания русского человека, «указаны» его привычные и любимые вещи, растения, животные, выработаны интонационные формулы претерпевания, противостояния, переживания жизни. Долгота русских распевов, опевание слов, ровность и неторопливость мелодического движения соединяли многообразные «фрагменты бытия» в единую текущую «историю», которая не знает перерывов. Лиризм русской песни «простой» эмоциональностью воспроизводил искомую и пестуемую русской культурой эпичность жизни. Не случайно именно лирической песней необъятное и невыразимое Бытие «окликает» слушающих в хрестоматийном рассказе Тургенева «Певцы». Маркированность песней в русской литературе значима не только художественно.
Герои русских романов, как правило, переживают музыку психологически-ситуативно. Музыка заставляет душу работать активнее, что, собственно, и нужно психологическому роману. Музыка (употребляя выражение Фрейда) — «королевская дорога» в глубины психики, где человек существует «слитно» и в которых русская литература настойчиво пытается разобраться.
Чем более роман психологичен, тем разнообразнее и противоречивее проявляют себя музыкальные экспликации. В психологическом романе музыка бесхитростно литературна, вербальна. Философическая нагрузка музыки в произведениях Л. Толстого воспринимается не как художественная концептуальная «задача», а в аспекте индивидуальной манеры писателя, «вообще» склонного к философствованию.
Музыка у Толстого полифункциональна, но, как правило, это — звуковой колорит времени, как французский язык — колорит языковой. В этой функции музыка предстаёт как вид искусства (часто — опера, которая наиболее нелепа) и как предмет светских дискуссий, в которых может высказаться прежде всего сам автор. Музыка как «музыкальное», обнаруживающая «сокровенного человека» русской культуры, у Толстого связана с народной пляской, песней, голосом. В одной из своих ипостасей музыка постоянно сохраняет своё романтическое лицо, символически представляя наиболее «чистое» искусство.
Другая тенденция, характерная для литературно-музыкальных связей в русской культуре XIX в., — гипертрофированная музыкальная чувствительность, унаследованная от романтической концепции музыки, склонность к художественному синкретизму. Представлена эта тенденция прежде всего в поэзии «чистого искусства».
Двигаясь по пути от романтизма к реализму, обретая зрелость и мастерство в понятийном постижении мира, русская литература постепенно всё дальше уходила от музыки как от ингредиента некой идеальной художественности. Культивируя иной состав образа, резко очерчивая семантические контуры слов, литература вытесняла в особую нишу то, что сопротивлялось называнию, тем самым выстраивая антипод точному слову и точному письму — «невыразимое». Доминировавшее как знак идеального, сущностного в культуре Романтизма, «невыразимое» в XIX в. скромно обосновалось в якобы узкой области «чистого искусства».
Музыкальные ориентации «чистого искусства» закономерны и восходят к романтической эстетике. Словарь русской прозы инфицировал увядающую, уже ставшую клишированной лексику романтизма смелостью называния, узаконив новую «дискурсивную практику» не только по отношению к «прозаической» действительности, но и к традиционно сакральным темам высокого искусства. Концентрированный и концептуальный лиризм естественно принимал музыкальный облик. В последовательной аскезе лиризма музыка чувствует себя удобно, не «элементом», но «телом».
Переодевшись в одежды реального звука соответственно времени, музыкальный образ «ревниво оберегает» своё символическое «лицо». «Излишек реальности» повышал статус «невыразимого», «музыкального». В русле этой тенденции литературно-музыкальных связей складывалась новая звуковая эмблематика, готовящая не только звуковую символику А. П. Чехова, символистов, М. Горького, но и «пунктумом» звука формирующая новый антипод теперь уже самому звуку, — феномен молчания.
Поэтика лирической музыкальности развивается в русской культуре в двух направлениях. Во-первых, это стиль музыкально-напевного интонирования. Его характерные черты — интонационная, мелодическая напевность, постепенное и гибкое интонирование эмоций, интонационная градация, отнесение интонационной эмфазы на конец лирического текста. Это слышимая музыкальность текста, мелодийная, песенная структура, интонационно очерчивающая облик текста. Эта поэтика культивирует длящиеся звуковые компоненты текста (гласные, сонорные), нагнетая звуковые «зияния».
Другой тип музыкальной поэтики — стиль интонационной монотонии, ориентированный на музыкальную магию слова. «Музыка» таких текстов
держится на традиционных приёмах суггестии, сообщая произведениям интонацию и силу молитвы, заговора, заклинания. Поэтика таких текстов культивирует повторы согласных, анафоры, эпифоры, рефрены, ассонансные рифмы, кольцевые композиции, т.е. фигуры, призванные обесценить лексическую, смысловую информацию. Такие приёмы сдерживают эмоциональные и интонационные колебания, удерживают чувство'в пределах одного тона. Эмоция как бы лелеется, воздействуя на один и тот же нерв. Музыка как состояние лирического текста — консервант морфологических экспликаций, она семантически-доминантна. В «музыкальных» лирических текстах формировалось иное ощущение вербальной «точности» — по сути до-вербальной и до-художественной. В русской поэзии XIX в. выделяется гетеро-морфный жанр романса. Романс — та потенциально идеальная форма, в которой способен осуществиться синтез слова и музыки.
Символизация как приём, постепенно вырастающая в символизм как мироощущение, неизбежно увеличивает музыкальный коэффициент культуры. Символические наслоения, подобно леонардовскомусфумато, затушёвывают, смягчают вербальные контуры текста, создавая вокруг него символическое поле, которое упруго держит зависающее над текстом облачко «отделившегося» смысла. Такого рода процессы происходят в разных морфологических системах, в разных художественных языках.
Музыка как образ неизбежно в той или иной степени символична, однако не весь символизм музыкален. В символическом тексте культуры понятия «музыкальность», «поэтичность», «лиризм» существуют как синонимы. Так обычно определяется стиль Левитана, Бунина, Чехова. «Поэтичность» и «музыкальность» взаимозаменимы, так как выражают единое метаморфо-логическое переживание художественности, фиксируют эффект художественно-психического резонанса, определяют некую щемящую задушевность тона — «элегичность».
Итоговой в этом отношении является поэтика А. П. Чехова, «закрывающего» классический реализм XIX в. Названия произведений Чехова указывают на то, что он владеет какой-то особой «невербальной» техникой письма. Настроения его рассказов рождаются помимо их тем и сюжетов. Дать рассказу название «Тоска» так же дерзко, как назвать живописную картину «Вечерний звон». Музыкальность художественных текстов в этих случаях — музыкальность метаморфологическая, мифологическая, бытийная. Суверенность, автономность эмоции, её тональная, интонационная явленность—«музыкальная школа» культуры.
Чеховская музыкальность никогда не может разместиться в «форме» его произведений: композиции, жанре, даже в языке. Она располагается где-то, для определения чего нужны дополнительные синкретические определения, символические наращения смыслов. В то же время она может неожиданно, как «апрсльская ведьмочка;.' из фантастического рассказа, явиться в гласной «ё» в названии знаменитого сада и привести в восторг самого Чехова, подобно тому, как в своё время Лермонтов был «без ума» от «ю» во «влажных рифмах». Чеховская музыкальность не всегда выбирает музыку своим проводником. «Звуки музыки» или «просто» звуки — вот её пунктум. Символическим звуком Чехова, как правило, становится звук напряжённый, далёкий, одинокий. Он нуждается в пространстве, чтобы долго длиться, угасать, взывать к молчанию.
Однако взаимоотношения искусств, в том числе литературы и музыки, как известно, характеризуются не только «вводами», но и «расхождениями». Традиция морфологических «отторжений» —давняя традиция. Каждая эпоха по-разному соотносит между собой художественные тенденции к синтезу и самоопределению искусств. Экстрахудожественные цели, которые определяла себе русская культура XIX в., естественно, сформировали особую художественную поэтику, концентрирующую «смысловые фигуры», выстроили морфологическую иерархию, утвердив литературу на её вершине.
С увеличением рационалистических задач художественного творчества возможность и желание обратиться к миру музыкальных аллюзий убывает, литература проявляет нейтральность по отношению к акустической картине мира, она отодвигается от музыки и сохраняет морфологическую автономию. В русской культуре есть произведения, в которых музыка не становится ни темой, ни акустическим фоном действия, ни средством раскрытия характера, существуя на периферии художественной системы. Это так называемое «социологическое» течение русского критического реализма или, как его называли раньше, «щедринское». Та часть русской литературы, которая ставила перед собой задачи сатирического характера, в музыке и музыкальном не нуждалась. Немузыкальна и линия просветительской прозы, намеренно отсекающая все «обертоны» от словесных рационально-логических «арматур».
Казалось бы, что такого рода «понятийные напряжения» должны увенчаться успехом. Однако чем дальше литература продвигалась по этому пути, тем менее она становилась художественно коммуникативной. Долгое сотрудничество искусств осознаётся критически. В нём ясны не только успехи морфологического слияния, но и опасность «самозабвения». Просветительская программа русской культуры, сосредоточенная на решении национальных, политических, нравственных задач, не только способствовала, но и настаивала на активизации понятийных возможностей слова. Литература разъясняла жизнь, «напрягаясь» в поисках художественной адекватности её «правде».
С одной стороны, это выразилось в отведении «части» художественной структуры под обширные «не-художественные» пространства. На первый план выходила авторская мысль, поданная в «чистом» виде. Философские, социологические, педагогические, публицистические вкрапления — тотальная черта русской литературы второй половины XIX в. Востребованный и возрождённый «просветительский реализм» обращался к читателю с «готовыми» знаниями, действительно превращая художественное произведение в «учебник жизни». Этой участи не избежала и психологическая проза, и даже поэзия. Доля подобных «чужеродных» текстов могла быть различной, но сама тенденция с очевидностью свидетельствовав о ценностных орирн-тациях культуры, использующей «все средства» для достижения своих целей. Став «учебником», литература разбивает жизнь на «параграфы» и «абзацы», обводит «рамочкой» её смыслонесущие «центры» —литература использует свою понятийную «дискретность», работает денотатами, активизируя демиургические возможности языка.
С другой стороны, «сила вещей», по выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, и многообразнейгаие отношения человека к ним формировали тенден-
цию социологизации художественного дискурса. Желание просветить, донести до всенародной аудитории «свет истины» побуждал искать средства не только адекватные «правде жизни», но и воспринимающему сознанию.
Словарь наполняется бытовой, вещной терминологией, синтаксис изобилует повторами, вводными конструкциями, темп соответствует неторопливому рассказыванию — автор беседует с читателем, поведывает ему свою историю. Подробности и мелочи всегда погружают человека в ситуацию быта, именно в них читатель узнаёт свою жизнь. Тем пе менее, быт в русской литературе не самодостаточен, в нем скрыты, закамуфлированы его исторические коннотации. «Большая» история «притворяется» бытом, чтобы «контрабандным грузом» войти в народное сознание. Исключительность и редкость удач на этом пути очевидна. В качестве художественной тенденции понятийный аскетизм ожидаем, закономерен, возможен. Как художественный результат— это исключительная редкость (например, М. Е. Салтыков-Щедрин).
Более того, оказалось, что, отказавшись от коннотаций эмоционального ряда, художественное слово вступает в отношения с другим «оппонентом», обнаруживает в себе нехудожественные коннотативные возможности. Слово выявляет в себе врождённую, генетическую коммуникабельность, природную потребность в «другом», свою присваивающую, поглощающую культуру, свою латентную агрессию. Слово реализма — понятийно жадное слово.
Бросая взгляд в другую сторону, вступая в контакт с понятийно рафинированными текстами, литература, естественно, несколько деформирует свои жанровые очертания. Художественно выразительными становятся нехудожественные тексты: знаменитые русские «Истории», «Былое и думы», оставшиеся до сих пор жанровой «проблемой», «странные» тексты М. Е. Салтыкова-Щедрина, в силу инерции продолжающиеся оставаться «романами». Художественные произведения «исследовали» жизнь и читались как исторические документы, а «Истории» увлекали своими «романными» интригами. «Произведения» хотели быть «текстами».
Тем не менее, становится очевидным, что, сохраняя в неприкосновенности, «чистоте» собственную понятийную природу, «культура» слова вырождается, как «самовоспроизводящиеся» династии, лелеющие «чистоту крови», — иссушается «гумус» художественности.
Разрыв родственных связей, по Аристотелю, чреват трагедией. Изгнание из художественного текста музыки, её «подправляющего» участия оборачивается изгнанием художественности, поэтичности. Вместе с музыкой исчезали пейзажи, лирические отступления, задушевность «тона». Речь теряла связность, текучесть, становилась «голой», «плоской», «пустой». Понятийные экспансии во вне-понятийную область терпят неудачу, «невыразимое» настаивает на своей «несказанности».
Слово в реализме возлагается на другой алтарь — гражданственности, социальной справедливости, политической свободы. В русской культуре XIX в. предельное расхождение словесно-понятийной герметичности и словесно-музыкальной «слиянности» представлено именами Некрасова и Фета. Каждый из них демонстрирует «совершенство» «в своём роде».
Таким образом, интенсивность развития русской культуры XIX в. привела к своеобразной стилистической и морфологической полифонии. С одной стороны, реалистическая литература «устала» от романтических «абсо-
лютов», в том числе — музыкальных, почти полностью изъяв из художественной картины мира философическую «риторику» относительно музыкальной «исключительности», «идеальности», «сущностности». С другой стороны — литература возвысила музыку до «просто жизни», тем самым обнаружив в ней поливалентность видовой структуры и акустическую вездесущность. Музыка как вид искусства обрела конкретный облик, психо- и социохарак-терологию, конкретную тематическую и сюжетную нишу, оказалась включённой в живой — исторический, социальный, национальный, местный, авторский и пр. — контекст, стала не «абсолютной», а «разной».
Не настаивая на своей видовой исключительности, музыка растворилась в действительности своей звуковой природой, спровоцировав литературу к поискам вербальных эквивалентов акустическому коду культуры. На этом пути проза и поэзия не противоречат друг другу, а скорее помогают: проза формирует словарь, поэзия — напряжённость личного вслушивания. В итоге—сложившаяся в художественной литературе богатейшая «акустическая школа» русской культуры, внутри которой вызревала и тенденция символизации звуковых впечатлений (чеховские звенящие струны, горьковское песню испортил и т.п.), и блоковское неоромантическое музыкальное возрождение, и обмирщение музыки, например, в поэзии Б. Л. Пастернака с характерной для него дерзкой бесцеремонностью (волосато, как торс у Бетховена).
В третьей главе «Влияние литературы на музыку в русской культуре XIX века» рассматриваются уровни музыкальной структуры, на которых выявляются различные типы взаимоотношения музыки и литературы, и характерные для русской культуры XIX в. тенденции отношения композиторов к литературным источникам.
3.1. Проблема «литературности» музыкальных произведений. Как для художников слова музыка, так и литература для музыканта, — область манящая и во многом образцовая. Осмысленность словесного образа, его поня-тийность, лексическая неизбежность оказались неким идеологическим ориентиром в поисках музыкального смысла. Если для писателей музыка символизировала невыразимое, то для музыкантов словесное произведение — демиург смысла, дарующий имя голосу чувств.
Искусство слова для музыканта — речь, её интонационная выразительность. Художественный текст для музыканта, прежде всего — эталонная речевая интонация. Именно интонации речи обычно называют основным фондом музыкальных интонаций и основой музыкальной выразительности в целом.
Музыканты прежде всего обращаются к поэзии, которая традиционно мыслится как совершенная форма звучащей речи. Ритмическая, звуковая, интонационная упорядоченность поэтического текста своей «ладностью» как бы гарантирует высказыванию истинность. Переориентированность литературы на прозу, на естественную речь изменила и литературные пристрастия музыкантов. Литературная проза акцентировала повествователь-ность, актуализировала эпическую, былинную нарративность, сместила феномен чувства в ряд «объективной реальности» и поставила на его место событие, отношения между людьми, тем самым изменив и размеры художественного пространства.
Как правило, обращённость музыки к литературе, явленность литерату-
ры в музыке обозначается в жанрово-родовых категориях: поэтичность, эпичность, лиризм музыкального языка. Применительно к музыке поэтическое и лирическое обычно функционируют как синонимы, обозначая одну из универсальных стилевых тенденций музыки, относительной противоположностью которой оказывается музыка эпическая. Эти понятия давно покинули литературоведческое терминологическое лоно и стали универсальными, метаморфологическими.
Обращённость музыки к сфере словесного искусства предполагает несколько уровней:
1) Жанровая характеристика музыкального творчества. Жанр — одна из важнейших категорий в истории искусства, генотип, выявляющий и индивидуальные творческие тяготения, и культурный диктат, некий медиатор, связывающий личное и всеобщее, индивидуальный симптом системы. Важен сам факт наличия в творчестве таких жанровых структур, которые по природе своей связаны со словом. Ещё более показателен жанровый диапазон, система жанровых «регистров» (песня — романс — оратория — опера). Простое количество музыкально-словесных форм в творчестве композитора — один из важнейших показателей художественной системы.
2) Уровень персоналий. Имя выбранного писателя, его повторяемость — это вход в стилистику композитора, ключ к его «языку». История «встреч» и «не-встреч» — именно история, роман культуры, её сюжет, приключение. Тем не менее, литературные источники — «опасные связи» музыкантов. Музыка ищет и находит в словесном тексте «своё», а это «своё» может встретиться в очень «чужом» материале.
3) Текстовый уровень. Во-первых, это названия музыкальных произведений. Любое название — уже «программка» восприятия, вектор аллюзий, эмоционально-психический тембр произведения. «Болезнь куклы», «Сирень», «Блоха», даже «Этюд» или «Прелюдия» не могут не быть камертоном эмоции. «Тезаурус» названий — показательная сторона творчества, своего рода шпаргалка, подсказка личностной и творческой позиции композитора. «Имя» художественного произведения — одна из фундаментальнейших категорий в истории культуры. В готовности и способности «назвать», дать имя, слово обнаруживает свою космогоническую природу.
Во-вторых, это тексты литературных произведений, лежащие в основе произведений музыкальных, лексическая «наличность». Связь музыки со словом в данном случае номинальна, это «видимая» связь, её можно исследовать, не слыша музыки. Однако именно наличие словесного произведения, эффект присутствия слова создаёт некий «доминантный очаг» восприятия. Явленное как «живой» текст, слово перестаёт быть эмблемой. Именно в этом случае мы, как правило, имеем дело с терминологической трансгрессией. При наличии словесного текста необходима и «наличность» музыки, нужна «музыкальная предметность», звуковой образ. Ни имя поэта, ни название его произведения не укажет, насколько «поэтично»г «Аирично»«ли (даже) «песенной, «музыкально» музыкальное|првйзй4ЙШЙ*Ййо ая поэта, композитор обнаруживает себя так же, не о( ращался к
| 09 300 акт
слову. Здесь проявляется закон «вхождения автора» в систему, описанный М. М. Бахтиным: автопортрет художника стоит в ряду портретов, а не в ряду художников. Текст изоморфен тексту. При морфологическом слиянии слова и музыки значение имеют только слово и музыка. Морфологическая трансгрессия метафорична и, следовательно, суггестивна, эвристична. Исследование связей словесного и музыкального текстов — это непосредственный выход в стиль музыкального произведения. 3) Стилевой. Это характеристика только звучащей и слышимой музыки, «морфология аллюзий». Так же, как музыкальность словесного текста, поэтичность или повествовательность музыкального произведения — метафора, терминологический троп. Воссоздавая своими средствами представления человека о мире, музыка подчиняется закономерностям не языковой картины мира, а концептуальной, которая не может быть вербализована. «Музыкальная предметность» провоцирует поиски метаязыка, метафорический характер восприятия, побуждает искать вербальную подсказку, экономить средства и определять музыкальные впечатления, пользуясь знакомыми, узнаваемыми образами.
Как правило, речевой генезис музыки и поэзии ощущается в системе интонаций. Интонационная «линия», интонационные «фигуры» рассматриваются как основные единицы речи и музыки. При написании музыки на поэтический текст зависимость музыки от текста на первый взгляд очевидна. Однако очевидно и другое: разные тексты разных авторов «обрабатываются» композитором в сходной манере. Кроме того, известно, что работа композитора не всегда направлена от поэтического слова — к мелодии. С разных сторон «отправляющаяся» рефлексия приводит к одному вопросу: на основе чего в слове и мелодии возникают взаимные притяжения? Работая со словесными текстами, музыкант не омузыкаливает слово, но «вычитает» из музыки музыкальное, «раскапывая» субстанцию языкового. Реагируя на текст, музыка обнаруживает в нём «своё», музыкальное, которое ей нужно лишь «подобрать», как «метафору в траве», пользуясь образом Б. Л. Пастернака. Но, вместе с тем, музыка встречает в словесном тексте дремлющую потенцию синтеза, анабиоз целого — «мифологему начала».
Таким образом, разнообразная система связей литературы и музыки условно представлена противоположными тенденциями: — стремлением музыки обрести свою самостоятельность, совершенствовать свой собственный язык, не «говорить», а «звучать», и — активизацией речевой, коммуникативной возможности музыкального «высказывания».
3.3. Литература как «школа» в русской культуре XIX века. В музыкальной культуре любой эпохи формируется определённая система интонационного реагирования на словесный текст. Естественно, что эта система обусловлена традициями и словесной, и музыкальной культуры. Профессиональным взрослением русская музыка в значительной степени обязана влиянию «большой» литературы. В творчестве титанов русского реализма слово приобретало библейскую семантическую ёмкость, соединяя в себе статус Писания и вещего, пророческого Голоса. Закономерно, что именно литература стала основой, фундаментом морфологического синтеза. Школа
всеназывания, словесного всевоплощения неизбежно увеличивала литературную экспансию, её морфологические экспликации. Все виды искусства были инфицированы идеей своего речевого генезиса.
Одна из основных традиций русской художественной культуры — песня. Феномен песни, или точнее — пения, являет собой не только синтез музыки и слова. Фигуративность мелодической линии, «отмёченные» голосовые тембры, сольное или хоровое пение, доля песенности в изначальном художественном синкрезисе — отдельные культурогенные феномены в культурной истории человечества. Песня — формула, отработанная не музыкой, а культурой. Голос — нрироден. В песне явлен не только синтез слова и мелодии, но союз Природы и Кулыуры.
Русская лирическая песня — особое, наиболее ценное достояние русской культуры, музыкальный код национальной ментальности, отражающий тянущиеся очертания полей и знаменитой русской тоски, символически являющий женский, материнский образ русского мира. Русская песня — одновременно и поэтический, и музыкальный жанр. Литературно-музыкальная биография антропоморфна: песня — «детство», романс — «отрочество». Песенный опыт поэзии готовит романсовый опыт музыки. Романс — один из показательнейших жанров для уяснения характера взаимоотношений литературы и музыки.
История романса — arbor mundi музыкально-поэтического союза, в ветвлениях которого находят место изначальные «корни-напевы», разнообразнейшие песни, всевозможные разновидности собственно романсов — от цыганских до строго академических, романсовые «истоки» и «следы».
Романс — не только «любовная тема» (М. Петровский), он сам — любовный синкрезис культуры, взаимное отдавание слова и мелодии, гармония «своего» и «другого». Русская старина, фольклор, усадебная жизнь русской интеллигенции, «дядьки» и «няньки» русской культуры нашептали, набаю-кали, наиграли, напели о «грусти девушек», о «красных сарафанах», о «чёрных воронах». XIX в. — время, когда песня и романс осознали множественность своих интонационных истоков. Логика культуры отдавала предпочтение экстравертным формам творчества как более демократичным. Песня обосновалась в массовой культуре, постепенно сменив лиризм на революционность, а романс открыл в себе способность к этно-психо-социомутаци-ям, став «бытовым», «городским», «цыганским», «жестоким», «камерным». О романсе можно сказать словами Э. Золя, которыми он шутливо определил жанр романа: «это всё что угодно». При всей своей опознаваемости, романс удивительно подвижен в своих жанровых модификациях, он жизне- и рече-подобен, «мутагенен». Романс осознаётся потенциально идеальной формой морфологического литературно-музыкального синтеза. Именно романс становится исходной формой для авторской песни в XX в., которая в лучших своих образцах наиболее близко подходит к тому, чтобы стать искомым «идеальным» синтезом слова и музыки.
Одна из тенденций, сложившихся в культуре XIX в. в отношении музыки к литературе, — пафос постижения своей автономии, область до/сверхвербального, другая — желание стать речью, притязание на понятийное постижение и выражение мира. Именно литература предоставляет культуре свои «интертексты». Уже в первых шагах классической русской музыки
проступает до-литера! урная, до-художественная власть (.лова, влияния не литературы как вида искусства, а эпичности, нарративности как извечных свойств бытия.
Начало классической русской музыки — М. И. Глинка. Глинку часто называют пушкинским композитором. Глинку трудно петь, как трудно декламировать Пушкина: нужно передать феномен лёгкости, естественности творческого процесса, воплотить не только «геи» гениальности, но и особую высочайшую отмеченность «этоса». Глинка труден, так как естественно-классичен. Пушкинская гармония и русское ладовое мышление Глинки — сопоставимые категории. Пушкинская культура стиховой речи и глинковский «интонационный словарь» адекватны распевности русского народного мелоса.
Тем не менее, основная характеристика глинковского стиля—эпичность. Эпическое — одна из любимых категорий XIX в. Под эпическим прежде всего понималась многомерность, сферичность образной системы, принцип широкого обобщения, монументальность сцен и образов. Эпичность осознавалась национально-онтологически. Оперы Глинки оказались теми ехетр1а, которые вписывались в грандиозную эпопею русской национальной истории, не нарушая её торжественности и высочайшей одухотворённости.
Оперы Глинки демонстрировали не только «особость» музыкального языка и музыкального пути, но и невозможность морфологического сравнения. То, что написал Глинка, было не гетероморфно, но полистилично. Музыкальный материал опер Глинки полифактурен. В его стиле — влияние не литературы, а словесной культуры. На Глинку влияет не Пушкин, а пушкинская культура.
Пушкинское слово сыграло решающую роль в становлении композиторской позиции А. С. Даргомыжского, опыт которого выделяется внутри литературно-музыкальных контактов.
Глинка и Даргомыжский представляют различные эпохи русской культуры. Если Глинка, несмотря на хронологическое «отставание», традиционно соотносится с пушкинским временем, исходя из пушкинской роли, которую он играет в становлении русской национальной музыкальной школы, то Даргомыжский соотносим с периодом натуральной школы, с жанровыми картинами Федотова. Даргомыжский — музыкальный жанрист, его романсы — музыкальный рассказ, новелла, сценка, литературно-психологический портрет, изобразительный «жанр». Даргомыжский тяготеет к сильным, именно драматическим сюжетам, демонстрируя изменившиеся ориентиры культуры: от былинно-эпического ощущения национального — к предчувствию драматических коллизий «большой» истории и истории «частной».
Интонационный аналитизм Даргомыжского перекликается с «мелкозернистой» фактурой физиологических очерков, «лишними» подробностями натуральной школы. Даргомыжский демонстрирует «типичный» литерату-роцентризм русской реалистической культуры. Музыкальные искания Даргомыжского обш ащаЮ! русскую культуру опытом именно музыкально-правдивого слова. Пафос мелодии, идущей за словом, ему свойствен больше, чем другим русским композиторам. Работа Даргомыжского с литературными текстами — это последовательное, добросовестное омузыкаливание словесного текста, вокализация речи. Упорство Даргомыжского феноменально. При невозможности достичь цели (идти точно за словом), он невероятно увеличил «речевой коэффициент» музыкального высказывания.
Д ля культуры морфологических общений практика Даргомыжского значительна своей негативной результативностью. Даргомыжский принадлежит к той тенденции литературно-музыкальных связей в русской культуре XIX в., в которой музыка хочет стать речью. Но Даргомыжский демонстрирует такой тип литературно-музыкальных отношений, в котором музыка сказала «нет». Способность сказать «нет» — симптом культурной зрелости, морфологической суверенности. Творческие усилия Даргомыжского обнаружили в литературе и музыке небезграничность самоотречения. Слово предоставляло себя музыке в своей речевой конкретике, эмоционально-психической актуализированное™, своём коммуникативном желании. Слово было изоморфно «графике» музыкальной интонации и становилось не музыкально, а изобразительно выразительным, а музыка—мимической, сценически-драматической, «визуальной» музыкальностью. Семантическая экспликативность чужда музыкальному миру Даргомыжского. Опыт Даргомыжского — это «унисонный» тип морфологической связи, тип морфологического слияния музыки и слова: возможность различными голосами петь одно.
Ещё один представитель речевой тенденции музыки — М. П. Мусоргский. Мусоргский создаёт новый тип связи слова и музыки — хоральный, соборный, с очевидной доминантой целого, собирательности. Ощущая драму во всём, он создаёт музыку массового, хорового высказывания. Мусоргский — выразитель процесса прозаизации культуры. Он вырабатывает совершенно новый тип речитатива. Метод Даргомыжского — синтагматическое озвучивание речи, метод Мусоргского — лексическое, он «ловит» каждый звук фразы и каждую микроединицу интонации. Мусоргский обращает внимание на изменения, происходящие в человеке, как он выражается, от «пустых» причин, тем самым обнаруживая своё острое чутьё не только к словесному тексту, но и к новому тексту культуры: он чует «пустоты» текста, его «зияния», его онтологический хаос. Тут веет Достоевским {вот вы обедали, а я веру-то и потерял). «Пустые» причины, меняющие выражения лица, голос, интонации, подтачивают аналитический, причинно-следственный реализм XIX в. Здесь уже намечены «полифуркации», «провокации» и «соблазны», о которых заговорит культура XX в.
Мусоргского называют «некрасовским» композитором. Если рассматривать творчество Мусоргского как энциклопедию музыкальной речевой ска-зовости, аналогия с Некрасовым закономерна. Полиморфность авторского сознания, характерная для поэтической системы Некрасова, «смешанный хор» некрасовского повествования — проявление характернейшего движения русской культуры XIX в. к многомерности, сферичности художественного охвата действительности. И Некрасов, и Мусоргский виртуозно «ловят» многообразные народные голоса, их интонационные «мимику» и «жесты», владеют и искусством «сольных партий», и искусством «хоровой», «анонимной» сказовости.
Как истый кучкист, Мусоргский ориентирован на народную песню. Но он слышит не только народную песню, он слышит, как её поют «мужики и бабы», слышит «нечистоту» её звучания. Мусоргский дублирует не только народный интонационный материал, но и принцип его развития. Не интонационная колористика текста, но надтекстовая аура слова, огруженность значениями, разбухание смыслов, «избыточность» музыкальной семанти-
ки становится принципом литературно-музыкального сращения. Работа Мусоргского со словесными текстами — тип не только синтагматического, лексического, но и семантического проникновения в слово, выявление его «внутренней формы». В «Борисе Годунове» Мусоргский, изменяя пушкинский текст, добивается воплощения за-текстовой семантики. Мусоргский не только озвучивает речь, он озвучивает видимое, читаемое слово (народ безмолвствует), он буквальнолитературен. Утратив эпизод, сцену, Мусоргский не потерял «семантику духа». Таким образом, слово и музыка синтезируются и в феномене художественного восприятия: именно читатель станет слушателем, услышит в музыке ранее читанный, «увиденный» пушкинский текст.
Тип литературно-музыкальной связи в творчестве Мусоргского — это не столько мелодически-графическая интонационная характерология, сколько богатейшая живописная полнота, эпически-романная полнокровность — онтологический синтез. В нём не ощущается никакой надуманности, целепола-гания, это естественный голос смысла, говорящего на языке музыки, музыкально организованный концепт. Метод Мусоргского — это не только ому-зыкаливание разговорной речи, это литературность, усвоенная до утраты ощущения влияния литературы на музыку, пример творческой свободы музыки, берущей «не глядя» морфологический инструментарий, музыки, прошедшей школу литературных амбиций, вышколенной пафосом вербализованной интеллектуальности.
В поэтике Мусоргского проявляется движение художественной культуры к кинематографическому принципу объединения разнородных структурных элементов, при котором целое монтируется одновременно и «по горизонтали», и «по вертикали», с наращением семантики — «контрапунктически». Мусоргский семантически огружает композицию, «идеологизирует» структуру, наделяя целое эпохально-притчевой значимостью. В этом смысле Мусоргский сопоставим скорее с Л. Толстым, для поэтики которого характерно прорывание в монтажный принцип культуры XX в., авторская тоталитарность, густота смыслов, мифологичность микро- и макросоединений. В творчестве Мусоргского музыкально явлены драгоценные русские национальные идеи соборности, «роевого начала». Мусоргский — пример погружённости художника в «мир», совпадения судьбы и творчества.
Одновременно Мусоргский — пример драматического разрывания целостности, разрастающейся экспрессивности, интеллектуализации «тема-тизма», тотальной диалогичности. Тенденция к «деконструкции» классической модели, как правило, связывающаяся в литературе с Достоевским, в музыке представлена феноменом Мусоргского. Описания поэтики Достоевского почти полностью приложимы к характеристике музыкального языка Мусоргского: обнажение изнуряющей работы мысли, плотность письма. Эффект безжалостного самииОнаружения, физического присутствия бытия, «овеществлённость сознания» (М. М. Бахтин) — явления времени, пренебрегающие морфологическими границами. Наличие в произведениях русского искусства не внешне драматической коллизии, локализованной в центральной интриге, а длящейся, хронической напряженности, которая неумолимо просачивается сквозь границы художественности, — специфически русское качество искусства, постоянно мешающее решать чисто эстетичес-
кие проблемы и превращающее «художественные особенности» в «национальные черты».
Пример равноправной связи литературы и музыки —творчество «Могучей кучки». Для композиторов-кучкистов характерен наиболее естественный вид литературно-музыкальных отношений. В их творчестве литература и музыка, оставаясь собой, «считаются» друг с другом, это морфологическая «дружба». При всей разности талантов, индивидуальных складов мышления и музыки, кучкистов объединяет уровень отмеченности, одарённости не только музыкальной, но и этической. Пафос народности, естественности, природности, характерный для творчества кучкистов, наделил естественностью и их эстетическую программу. Этика «Могучей кучки» знаменательна, она имеет в своём центре одну из самых драгоценных проблем русской интеллигенции — проблему народа, который понимается не как политическая сила, а как «меньшой брат». Кучкисты ощущают себя прежде всего художниками национальными. Лелеющие русскую народность, композиторы «Могучей кучки» чутко распознают её растворенной в современной литерату-роцентристской культуре как её естественное состояние, они списывают её «с натуры». На них влияет не литература как вид искусства, а вербальность как состояние культуры, литературность как адекватная форма мысли. Всё, что написано композиторами-балакиревцами, производит впечатление «разумности», интеллектуальной выверенности, «проговорённости».
Знаменитые оперы Н. А. Римского-Корсакова и А П. Бородина — пример органического слияния словесного и музыкального языков. Это тип контакта, который можно было бы назвать «профессионально-доверительным». Бородин — одно из самых замечательных и дорогих явлений в «Могучей кучке», самый последовательный глинкианец, любитель устойчивости, ла-довости, тяготеющий не к музыкально-драматургической конфликтности, а к тому, что усмиряет драму, к тому, что в русской культуре обозначается как «благость». Музыка Бородина — музыка редкого душевного эстетического комфорта.
Принцип Бородина — это принцип музыки, говорящей только на своём языке, музыки инстинктивно самостоятельной. В этом смысле стиль Бородина — анахронизм. Музыка как будто не знает, что нужно быть ориентированной на литературу, на речевую выразительность. Литература предстаёт не столько культурным авторитетом, сколько вдохновляющим примером «самости», творческой возможности, побуждающим стимулом к собственному письму. Это сознательный отказ от морфологической мимикрии, морфологическая «разумность», «лессингианство».
Творчество Н. А. Римского-Корсакова — одна из доминант музыкального XX в., олицетворённый академизм. Тематическая сказочность, фольклорность, «чудесность» у Римского-Корсакова органично сочетаются с фольклорным музыкальным языком, оправданным не установкой метода, а сюжетом, темой, характерологией. Выбор литературного источника мотивируется не местом словесного произведения в русской культуре, а личными пристрастиями, убеждениями, симпатиями (инстинкт «разумного эгоиста»). Поэтика Римского-Корсакова разумно свободна. Римский-Корсаков одновременно музыкально повествователен и музыкально изобразителен, его оркестр образцово «нагляден». В музыкальной речи Римского-Корсако-
ва проступает общенародное, национально-поэтическое, «языковое». Его музыкальная эпичность архаична, в ней слышится ритм, темп былинной ска-зовости, естество неторопливой, обстоятельной устной речи.
На примере музыки кучкистов ярко проявлена инструментальная «литературность», процесс все большей семантизации инструментальных тембров, последовательная и осознанная программность. В русской культуре программа — не только закреплённый вербально вектор ассоциаций, семантическое лоно восприятия. В программности проявляется традиционное благоговейное отношение русской культуры к Слову, вера в его великие художественные возможности. Программность отражает стремление культуры к конкретной образности, активизирует семантический поиск культуры. Программа обращает внимание на такие семантические сферы, которые музыка выразить не может. Генезис программности — фиксированная ассоциация, звуковая семантика.
Программность — широко понимаемая категория культуры. Она захватывает не только собственно «программные» произведения, но становится стилевым качеством, авторской концепцией. В любой программности есть элемент просветительства. Программа аккумулирует коммуникабельность, она риторична в самом широком смысле слова, в ней есть желание публичности. Программа вербально и семантически деспотична. Одновременно — это мощнейший генератор стихии интерпретации. С доминированием литературного начала связана и обусловленная программой свобода музыкальной интерпретации.
Феномен программности обнаруживает «странности» в истории морфологических коммуникаций. Прежде всего — программность (в широком смысле этого слова) неумолимо тоталитарна, она постоянно, неуклонно увеличивает свою зону в культуре, настаивает на своей «первичности».
Растущая информация нуждается в информационном авангарде. Выбрав слово в качестве основного носителя сообщения, средства коммуникации, культура открыла «золотой прииск» морфологических взаимодействий. Слово получило «особый допуск» в любую морфологическую систему. Начав с вне-художественного локуса, долгое время предваряя тексты различной языковой природы, программность прочно обосновалась в названии произведений. Однако художественная структура, хотя и далеко не сразу, почувствовала, угадала в названии «своё», постепенно поглотив, присоединив название в качестве одного из своих художественных элементов. С одной стороны, это свидетельствовало о врождённой активности художественности, её концентрированной инфекционности. С другой — намекало на врождённую текстуальность любой морфологической природы, демонстрировало программность как генное качество художественного дискурса.
Программность, сконцентрированная в названии, просачиваясь в художественную материю произведения, «гранулировала» её в некие «семантические примитивы» (А. Вежбицкая). В музыке на этом пути вырастала «теория аффектов», «музыкальная риторика», что, в свою очередь, формировало акустическую грамотность слушателя. Программность как понятийно выраженный смысл, естественно, обладает разной степенью концентрации. Риторическая эпоха делает программным прежде всего восприятие художественного произведения. Название «Симфония», если это симфония Моцар-
та, более программно, нежели «Зимние грёзы» или «Утес». Все более программный дискурс проявляет увеличивающееся безразличие к названию как локализованной программности: можно назвать симфонию «Бонапар-товской», можно — «Героической», это неважно, так как «героическое» содержится в музыкальном «тексте».
Программность — ярчайший пример и доказательстве её собственной невозможности. Отыскивая тождество слова и музыки, программность фиксирует их несовместимость, их ускользающую непредсказуемость. Программа упорно выстраивает свой антипод — интерпретационный простор. В функции программы были опробованы жанры, этнические, национальные «указатели», концепты, герои, даты, «грёзы», «фантазмы» и пр., с неоспоримостью проиллюстрировавшие неизбежность «интерпрограммы» слушающего. Как следствие — превращение названия, например, в указание количества времени, которое потребуется для восприятия музыкального произведения, как это было сделано Дж. Кейджем.
Программный принцип в русской культуре — проявление «русского персонализма», особо острый смык личного и эпически-эпохального. Русская программность повествовательна, «романна». Программный тип объединения словесного и музыкального, словесного и изобразительного текстов характерен для союзов «Лермонтов-Рубинштейн», «Лермонтов-Врубель». Рубинштейновская трактовка «Демона» — прочтение поэмы глазами человека, прошедшего выучку не только у Лермонтова-поэта, но и у Лермонтова-прозаика, прошедшего школу литературоцентризма, физиологического очерка, толстовского психологизма, лирической доминанты Чайковского. В «Демоне» Рубинштейна сочетаются и собственно лермонтовский «демонизм», и философский «крупный план», воспринятый из общего состояния русской культуры (известная рубинштейновская «ораториальность»), и бытовая, этнографическая («физиологически-очерковая») конкретность.
Рубинштейновский «Демон» — пример обмирщения романтических тем и образов в музыке. Это опера — характерное явление эпохи, в которой бытовая интонация не воспринимается как «снижение», а скорее — наоборот. Рубинштейн испытывает влияние литературы, которая изнутри претерпевает синтезирующие тяготения. Эпическое и лирическое уже не ощущаются как антиподы. Демон Рубинштейна — не символ вечного зла, а лирический герой времени, узнаваемо чувствуемый современник. В русской опере это был первый «индивидуальный» тип героя, который не только раскрывался психологически изнутри, это был тип героя, для которого принцип внутреннего психологического движения был основным характерологическим показателем. Это был более Печорин, нежели Демон.
Особая ветвь влияния литературы на музыку — влияние музыкальной критики. Уже в XVIII в. русская критика располагала обширным сводом высказываний о народной песне, о музыкальном театре. Литературно-критическая деятельность В. Ф. Одоевского заложила основы профессионального критического анализа музыкальной жизни России. В. Ф. Одоевский сформировал традицию широкого ракурса музыкально-критических выступлений, позволяющего говорить не только о музыке, но и о культуре в целом. В русской культуре XIX в. особо выделяются две личности, которые не только являли собой примеры талантливых и влиятельных музыкальных критиков,
но и олицетворяли различные принципы отношения музыки к словесному тексту. Это — Г. А. Ларош и В. В. Стасов. Их деятельность ярко иллюстриру-рт расслоение, ветвление русской культуры, в которой тенденции интеграции и дифференциации художественных процессов приобретали всё большую всепроникаемость.
«Вершинным» проявлением литературно-музыкального взаимодействия в русской культуре XIX в. является творчество П. И. Чайковского. Как А. С. Пушкин представляет русскую словесную культуру, так П. И. Чайковский представляет культуру музыкальную. Чайковский — это музыкальное «всё». Отношение Чайковского к пушкинским текстам — ярчайший пример его личностной и творческой самостоятельности, и, одновременно, показатель изменившейся общекультурной ситуации: обогащения культуры рефлексией, предэкзистенциальностью, этической диалектикой. Чайковский — явление уникальное но интенсивности, масштабности, органичности процесса личной переработки глобальных проблем культуры.
Фундамент интонационной системы Чайковского — городская музыкальная культура, бытовое музицирование. Модель музыкального мира Чайковского — дом, усадьба. Он создаёт контекст тихой, светлой русской культуры. Его музыка созвучна картинам Венецианова, «Запискам охотника», прозе Чехова. Показателен принцип выбора литературного источника композитором. Чайковский неоднократно высказывал своё преклонение перед Пушкиным, но пушкинская поэзия воспринимается им не столько в реальной мелодической красоте стиха, сколько в своей «непереводимой» целостности, «невыразимой» красоте. Чайковский тяготеет к текстам, в которых есть некоторая «неопределённость» образов. Для романсов Чайковского не характерен какой-то один тип интонирования. В этом смысле он вообще не литературен: он пишет не под диктовку слов, их речевой или даже напевной интонации, а под что-то в словесном тексте, что создаёт ощущение музыкальности словесного произведения, под диктовку настроения текста, его музыки. Музыка Чайковского безошибочно узнаёт «своё».
Сохраняя романтическую приверженность «сверхмузыкальной» значимости музыки, Чайковский погружён в иную атмосферу русской процессуальное™ с её глубокой рефлексией, психоаналитикой, предощущением глобальных катастроф. Литературность, вербальность русской культуры, ясность мысли, обширность проблем, многомерность литературной картины мира — школа, которую Чайковский усвоил на редкость глубоко, он прозрел её перспективы. Чайковский не только наследник моцартианства, но и современник Толстого и Достоевского.
Чайковский оказался чуток к пушкински-толстовской линии культуры, отдающей предпочтение текучей жизненности, в которой размыты границы типов и характеров, и персонаж психологически вибрирует. Чайковский близок Толстому по принцип}* воспроизведешь«! индивидуального. Он касается персонажа сплошь, «проливается» сквозь него, обеспечивая ему интимное, личное, текучее самообнаружение, проживание в целом. Чайковский первым из русских композиторов музыкально показал нечленимость жизни на поэзию «высоких страстей» и прозу «низкого быта». Симптоматично, что Чайковский извлёк из пушкинского текста то, от чего в своё время отказался Глинка. Глинка «отяжелял» лёгкую, грациозную поэму «Руслан и Людмила» былинной монументальностью, освящая именем Пушкина актуализируемое в рус-
ской культуре чувство национальной истории. Чайковский, хотя и много колеблясь, не побоялся «снизить» литературный источник («Евгений Онегин») до «бытового» уровня, оставив только «горестные заметы сердца», переакцентировав иерархию персонажей. Он «не стесняется» скромности, покойности русского усадебного быта, меланхоличности русской природы, как не стыдятся русские художники русского бездорожья, хляби, промозглости русских природных периферий (околиц, опушек, двориков и т.п.). Он «говорит» об этом богатейшей интонационной музыкально-лирической «лексикой».
Но стилистика Чайковского — это уже не стилистика классической русской прозы, это стилистика прозаичности. Чайковский чувствует то, на чём концентрируется вся русская культура, — драму прозы. Это — предчеховс-кая стилистика, глубочайшая экзистенциальная интроспекция, подтачивающая самые основы классического «объясняющего» реализма, снимающая внешние детерминанты и обращающаяся к той целостности, которую можно разрушить, только уничтожив, — к целостности души. Это — уже итоговая поэтика русской классики, это прорастание в экзистенцию. Не случайно позже Чайковский обратится к такому тексту, в котором не будут варить варенье, веселиться на именинах, к тексту, в котором он разглядит экзистенциальный ужас выбора, тотальную фатальность, драму как бытийную категорию, — «Пиковой даме». Чайковский — первый в мире композитор, который рассмотрел подсознание как реальность. Он «подсмотрел» невероятные тайны перерождений, «бесовства», душевного «подполья», инфернальной экзистенции, чреватой истерией, болезнью. Чайковский превращает Пушкина в Достоевского.
Чайковский являет собой ту стадию литературности русской культуры, в которой происходит разъедание «чистой» литературы нехудожественными формами письма. Уже в произведениях Л. Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина трудность различения художественного и нехудожественного, философического, публицистического, эссеистского представляется тотально непреодолимой. Свободный переход от традиционно художественных форм к философским жанрам станет обычным для экзистенциальной литературы. Если Мусоргский музыкально компенсировал пушкинскую ремарку (безмолвствует), её читаемую семантику, исчезающую в театре, то Чайковский помечает не читаемое публикой либретто гениальной ремаркой: «говорит говорком» о партии Графини. Это — симптом совершенно нового ощущения текста, письма, автономности знака. Чайковский подводит итог литературности русской культуры XIX в. Музыка после Чайковского знает всё.
Пройдя долгую литературную школу, музыка острее прочувствовала свою специфичность. Благодаря этому на рубеже XIX—XX вв. возникают новые морфологические «встречи», подчас более тесные, эксцентричные, синтезирующие. XX в. — новая «школа» культуры, в которой теперь уже музыке суж-дена одна из определяющих ролей.
Заключение. История художественной культуры выявляет хроничность, непреходящность рефлексии проблемы морфологического синтеза. Синтез искусств — в буквальном смысле «проблема», ситуация противоречия. Однако культура выработала такой тип восприятия, для которого интерес к процессу, к развитию «сюжета» культурного текста важнее информации о его «развязке». Существо «интриги» и «акты» музыкально-словесного «дей-
ства» обладают магией художественности, они неизменно увлекательны, ге-донистичны. «Художественное произведение» культуры не читают, а перечитывают. Искусства как образные системы предоставляют себя друг другу в «готовом» виде. Взаимодействие искусств — это событие морфологической памяти, актуализирующей свои эвристические способности и наделяющей образы музыки и поэзии коннотативными сообщениями. Распавшись, первобытный синкрезис оставил на «поверхности» культуры множественные, глубокие и лёгкие, кракелюры. Изучение этих замысловатых узоров — ещё один текст культуры, хроника её герменевтических приключений.
Самодостаточность художественного текста, его абсолютная автономность и категорическая невозможность описать произведение «извне», сообщают ситуации морфологического взаимодействия особую остроту. Генетическая гетероморфность природы литературы и музыки ещё более усложняет проблему Каждая морфологическая система чувствует свою неизбежную онтологическую интертекстуальность и, в то же время, — одиночество. Речевой ген словесного искусства и звуковой ген музыки сближают проблему морфологического синтеза с проблемой онтологизации языковых структур. Языки искусств включены в единое общее языковое пространство мира, участвуя в описании его характерологичности.
С древнейших времён путешествуя рука об руку, словесное искусство и музыка превратили «поэтичность» и «музыкальность» в универсальные термины-кочевники. Всеобщая текстуализация культуры последовательно умножает число этого терминологического сословия. Образы музыки и поэзии — вечные странники культуры.
Классичность русской культуры XIX в., с одной стороны, итожит многие культурологические проблемы, с другой — обнаруживает свою способность участвовать в создании нового культурного текста.
Первичный, «матричный», онтологический синтез слова и музыки гарантирует поэтическому и музыкальному образам всепроникаемость и универсальную приживаемость внутри различных художественных систем. Поэтический и музыкальный образы — образы «первой группы», они могут быть «влиты» в любой морфологический «организм», но сами принимают только «своё». Первичные «музыкальность» и «поэтичность» — не приёмы, не метафоры, это свойство «онтологического реализма». Такие «музыкальность» и «поэтичность» не вмещаются в морфологические границы музыки и литературы, эта метаморфологические категории. В аспекте эйдетического синкрезис не может исчезнуть.
Интерес и внимание к «объективной действительности», к онтологии как семантическому центру культуры именно этот, первичный, уровень отношений словесного и музыкального искусств в культуре XIX в. сделали наиболее явным и значимым. С одной стороны, естественное бытование слова и музыки — некая культ урная белле1 рисшка, которая не требует объяснения и понятна сама по себе. С другой — именно естественность, непереводимость в другие «формы жизни» превращает любое явление в некий Сфинкс, задающий загадки. В результате — провокации и к интуитивному постижению жизни, и к научному ее исследованию. Культура русского XIX в. последовательно и осознанно синтетична, так как стремится к постижению единства мира, его «роевого», «соборного» начал.
Вторичные, собственно морфологические взаимодействия историчны и
представлены романтической и реалистической художественными моделями. Романтические тенденции культуры культивируют интуитивный тип познания, который более «удобен» для познания объектов «нечистой» художественной природы, объектов с «диффузными» морфологическими границами. В связи с этим романтизм, во-первых, более активен и открыт для морфологического синтеза, во-вторых — предпочитает художественные тексты с музыкальной доминантой. Реалистическая модель, возросшая на позитивистском типе мышления, откровенно рационалистична и, в связи с этим, — литературоцентрична. Реализм — «здравомыслящая» система, для него характерно стремление к морфологической «самости», «разумному эгоизму» структуры.
История художественной культуры предоставила каждому искусству громадный выбор возможностей и для морфологического самопознания, и для морфологических общений. Каждый «микроэлемент» структуры обнаружил в себе «синтетические» возможности. Слово научилось выражать «невыразимое», стало наиболее концентрированной вербализацией интуитивных прозрений, делая понятийно доступными «смыслозначимые каркасы мира» (В. В. Ильин). Тем не менее, в культуре XX в. слово теряет свои позиции, предоставляя массовую сферу культуры визуальному искусству, а элитарную — музыке. Звук же — наоборот — продолжает свою экспансию не только в область музыки, присваивая «музыкальное», но всё более расширяет своё представительство, «посольство» в культуре.
Долгая практика семантической аккумуляции не только превращает звук в знак, но и мифологизирует его, побуждая генерировать смыслы. Одно из самых синтетических искусств XX в. — кино — не случайно давно экспериментирует именно со «звуковыми дорожками», чувствуя в звуке фатальную суггестивность и семантическую эмблематичность. Голос, с его «дипломатическим статусом» тембра, интонационной рельефности, артикуляционными, ритмическими и метрическими особенностями произнесения, темпом речи, становится акустическим классификатором современной речевой «проблемы» в фильмах К. Муратовой или, например, в популярном молодёжном мультике О. Куваева про Масяню. При очевидной визуализации культуры звук всё более настоятельно притязает на реализацию своей онтологической «этимологии» — это зов культуры, её оклик. Звук сообщает визуальной информации антропные черты, наделяет «картинку» длящейся, далеко распространяющейся характерологией, смещая, стягивая на себя семантический центр сообщения. Голос — персонализированный, интимный инструмент коммуникации. Увеличивающаяся понятийная нагрузка акустических проявлений культуры делает ретроспективный взгляд на соотношение вербальной и акустической семантики концептуально значимым.
Список основных публикаций
1. О музыкальности лирики А. А. Фета // Проблемы совершенствования анализа художественных произведений в вузовском преподавании: Материалы Всесоюзной межвузовской конференции — май 1974. — М„ 1976. С.89—92.
2. О колорите лирики А. А. Фета // Проблемы художественного метода и жанра в истории русской литературы ХУ1Н-Х1Х вв.: Сб. тр. — М., 1978. С. 76—86.
3. Фет и русский психологический роман // Стилевые традиции русской реалистической прозы XIX века: Межвузовский сб. научн. тр. — Челябинск, 1983. С. 19—35.
4. Жанр «мелодии» в лирике А. Фета // Жанры в литературном процессе: Межвузовский сборник научных трудов. — Вологда, 1986. С. 15—27.
5. К вопросу о творческом методе А. Фета // А. А. Фет. Проблемы творческого метода, традиции. — Курск, 1989. С. 4—20.
6. О месте и возможностях курса МХК в структуре гуманитарного образования // Проблемы преподавания мировой художественной культуры в педагогическом вузе: Тезисы сообщений на Всероссийском совещании-семинаре. — Л., 1990. С. 60—61.
7. О роли учителя в интеграции предметов гуманитарного цикла // Проблемы интеграции учебных предметов в современной школе: Методические рекомендации. —Л., 1991. С. 10—11.
8. Пути гуманитаризации школьного образования и их осмысление педагогами // Гуманизация образования взрослых: Методические рекомендации. — Л., 1991. С. 67—68.
9. Искусство книги: Словарь-хрестоматия. — Оренбург, 2000. — 56 с.
10. Мировая художественная культура. 4.1. Мифология: Учебно-методическое пособие. — СПб., 2000. — 48 с.
11. К проблеме «музыкальности» литературного произведения (фонетический уровень текста) // Интеллектуальный потенциал высшего педагогического образования: Материалы научно-практической конференции — 25—26 апреля 2001 г. — Оренбург, 2001. С. 67—68.
12. Литературно-музыкальные контакты как художественная традиция // Человек и общество: Материалы международной научно-практической конференции — 15—17 ноября 2001 г. — Оренбург, 2001. С. 124—125.
13. Мировая художественная культура. 4.2. Художественная культура Древнейшего и Древнего мира: Учебно-методическое пособие. — Оренбург, 2002. — 80 с.
14. Мировая художественная культура: Программа экспериментального курса для 6—11 классов общеобразовательной школы. — Оренбург, 2002. —76 с.
15. Изучение детской книги в курсе «Мировая художественная культура» (школа и вуз) // Воспитание языковой личности и изучение литературы: Сб. научн. ст. — СПб., 2002. С. 67—70.
16. Литературные влияния в русской музыкальной культуре XIX века // Культурологические исследования" 02: Сб. науч. тр. — СПб., 2002. С. 292—296.
17. Виды искусства: Словарь-хрестоматия Ч. 1—4. — Оренбург, 2002. —183 с.
18. Литература и музыка в русской культуре XIX века: Монография. — СПб.—Оренбург. Изд. РГПУ им. А. И. Герцена. — 2002. — 160 с.
19. Опыт интермедиального анализа (музыкальность лирики Фета) // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2002. — № б (декабрь). С. 55—62.
Отпечатано в РТП ООО «САГА» Санкт-Петербург, 196035, пр. Гагарина, д. 21, к 300 тел./факс (812) 373-56-05 Формат 60x90/16. Тираж 100 экз. Подписано в печать 20.03 2003
2.0 о^-Д
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора искусствоведения Мышьякова, Наталия Михайловна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. Взаимодействие искусств как культурологическая проблема.
1.1. Соотношение литературы и музыки в истории культуры.
1.2. Проблема связи литературы и музыки в исследованиях XX века.
ГЛАВА 2. Влияние музыки на литературу в русской культуре XIX века.
2.1. Проблема «музыкальности» литературного произведения.
2.2. Музыка как образ в русской культуре XIX века.
ГЛАВА 3. Влияние литературы на музыку в русской культуре XIX века.
3.1. Проблема «литературности» музыкальных произведений.
3.2. Литература как «школа» в русской культуре XIX века.
Введение диссертации2003 год, автореферат по культурологии, Мышьякова, Наталия Михайловна
Тема работы не относится к числу новых, и исследование не претендует на то, чтобы восполнить исторические пробелы в отечественных музыкознании и литературоведении. Напротив, работа обращает нас к проблеме, к которой традиционно приковано научное внимание, - глобальному вопросу взаимодействия и синтеза искусств.
Синтез искусств - естественное состояние культуры. Речеподобность культуры, её коммуникабельность, диалогичность создают сложную систему перекличек культурных языков, «гул» культуры, в котором при различной настройке слышны то отдельные голоса, то весь оркестр. Каждое искусство в той или иной мере занимается эстетическим восполнением того, что средствами другого искусства выражено быть не может. Взаимодействуя, искусства выполняют космогоническую функцию, вступают в «священный брак», порождая метапространство культуры.
Понятие «художественная культура» включает в себя содружество всех видов искусства, проявляющих себя по-разному в различные эпохи. Совместная жизнь искусств всегда больше, чем «простое соседство»1. Идея «границ» и «стыков» различных форм знания и творчества исторически изменчива. «Автономия искусства, - писал М.М.Бахтин, — обосновывается и гарантируется его причастностью единству культуры, тем, что оно занимает в нём не только своеобразное, но и необходимое и незаметное место.Систематическое единство культуры уходит
1 Художественная культура в докапиталистических формациях: Структурно-типологическое исследование. - Л., 1984. Т. 1. С. 41. в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле».2 Целостный организм культуры никогда не может быть наблюдаемым в аспекте отдельного действия, мы можем констатировать лишь результаты взаимодействий.
По мнению И.И.Иоффе, «само деление искусства на замкнутые обособленные области: литературу, живопись, музыку, скульптуру, архитектуру с ревниво оберегаемой спецификой - исторически сложившееся явление, а не свойство самих искусств».3
Целостность и органичность художественной культуры становится ещё более очевидной благодаря общепризнанной непереводимости языка одного искусства на язык другого. Однако мысль о единственности языка, на котором каждое искусство говорит с нами, мысль о том, что у каждого языка, в том числе и у языка искусства, существует единственный способ обозначать реальность, не кажется сейчас такой уж очевидной и бесспорной. Сам факт различия языков осознаётся как факт высокой эстетической значимости и начинает особо «ревниво оберегаться». Более того, как пишет М.Бланшо, размышляя над текстами В.Беньямина, «перевод никогда не ставит целью устранить различие. Напротив, он играет на нём.».4 Манящим и искомым оказывается именно то «истинное» произведение, которое обнаруживается в различии, становящимся источником нового смысла.
Феномен взаимодействия и синтеза искусств обнаруживает желание культуры порождать сложные художественные структуры, адекватные многомерности мира, желание
2 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975. С.25.
3 Иоффе И.И. Синтетическая история искусств (Введение в историю художественного мышления).-Л., 1933. С. ХУ1.
4 Бланшо М. О переводе // Иностранная литература. - 1997. - № 12. С. 184. морфологических коммуникаций, «символических обменов», желание выработать универсальный язык. «Чем глубже ситуация непереводимости между двумя языками, тем острее потребность в общем для них метаязыке, который перекидывал бы между ними мост, способствуя установлению эквивалентностей», — пишет Ю.М.Лотман.5
Желание культуры ощутить себя большим Текстом очевидно не только в рамках современности. Искусства всегда движутся по пути «сближений» и «расхождений», которые, по мысли Ю.Н.Тынянова, «оправдывают небывалые преобразования в области данного искусства».6 Именно пытаясь выйти за свои «границы», искусство (любое), оставаясь в своих пределах, открывает в себе новые возможности, обогащая собственную природу и устремляясь к тому центру, где обнаруживается «чистая возможность сопряжения всего».7 Кажется, что искусства ведут себя по-человечески, то протягивая друг другу руки, собираясь вместе для вершения общих дел, то отталкивая друг друга.
Сложная рецептура связей и взаимодействий культурных ингредиентов, морфологический колорит времени - один из важнейших показателей культурной специфичности. Литература и музыка - яркие краски морфологической палитры. Общий генезис этих искусств с древнейших времён ведёт их рука об руку, как персонажей близнечных мифов, превращая то в «братьев», «друзей», то в антиподов. Генетическая общность способствует морфологической адаптации.
5 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек - Текст - Семиосфера - История. -М., 1999. С.48.
6 Тынянов Ю.Н. История литературы. Поэтика. Кино. - М., 1978. С. 317.
7 Бланшо М. О переводе // Иностранная литература. - 1997. - № 12. С. 185.
Союз литературы и музыки - особый. Связь этих искусств как-то особенно чиста и возвышенна. Их любовь почтительна, самозабвенна и жертвенна. Слово умирало в мелодии, мелодия дробилась на отдельные звуки и инкрустировалась в словесную ткань - литература и музыка предоставляли себя друг другу, замирали, уходили в тень, радуясь триумфу другого. В то же время в истории литературно-музыкального общения есть периоды морфологических разрывов и дискриминаций.
Трудности в изучении литературно-музыкальных взаимодействий и взаимовлияний связаны не только (и не столько) с фактом их долгой жизни, а прежде всего с тем, что жизнь эта чрезвычайно разнообразна.
Несмотря на солидный возраст, идея синтеза, осмысленная как таковая в эпоху романтизма, не утратила своей актуальности. Современное искусствознание преодолело прежнее понимание художественного синтеза как слияния, соединения. Оказалось востребованным и по-новому осмысленным известное высказывание Б.В.Асафьева о невозможности полной гармонии между поэзией и музыкой: «это скорее "договор о взаимопомощи", а то и "поле брани" А единоборство"». Здесь может оказаться уместным и выражение Ж.Бодрийяра, правда, сказанное по другому поводу: «дуально-дуэльная форма».9
В культурологии само понятие синтеза оказывается синтезирующим, открытым для разных толкований, корреспондируя с понятиями «культурного диалога», «семантического обмена», «концерта культур», морфологических экспликаций», «семантического перевода». о
Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - Л., 1963. С.233.
9 Бодрийяр Ж. Соблазн. - М., 2000. С. 149.
Синкрезис - хроническое состояние культуры. Постоянно распадаясь, он и постоянно регенерирует. По мнению авторов одной из культурологических работ, «триадический цикл синкрезис — анализ — синтез выступает постоянным источником и механизмом культурно-эволюционного процесса».10
В интегративных мегатенденциях культуры, как правило, усматривается её «активно-созидательное начало, присущее человеческой деятельности вообще и художественной в частности», некое противоядие энтропии. Как правило, в переходные моменты культурного развития, на путях выхода из драматических ситуаций истории усиливаются интегративные художественные процессы. «Узкопрофессиональная задача» синтеза искусств, как отмечает В.П.Толстой, связана с «общими вопросами мировой культуры и имеет универсальное значение».11
Однако взаимодействие искусств - это не только взаимное художественное обогащение, но и ограничение, морфологические уступки, компромиссы, конфессии, протекающие иногда в ситуации равноправия искусств, подчас -в условиях их строгой иерархии, диктатуры. Традиционное понимание специфичности, неповторимости отдельных художественных языков сомкнулось с пониманием гетерогенности языка искусства, с понятием метаязыковой структуры. Отсюда — возрастание интереса к художественным явлениям, которые рождаются на стыке разных, «иных», языков, к знакам тропированной художественной природы.
10 Пелипснко Л.Л., Яковсико И.Г. Культура как система. -М., 1998. С.20.
11 В.П.Толстой. XX век: Итоги и кануны // Художественные модели мироздания: XX век. - М., 1999. С. 14.
Троп мыслится как структура, изоморфная «механизму творчества».12 Экстраполирование понятия текста на невербальные структуры и тотальная текстуализация культуры неизмеримо повысили коэффициент значимости перевода, который определяется Ю.М.Лотманом как «основной механизм сознания».13 Вся культура практически мыслится как история переводов, перекодирования знаков. В этой связи «главный метод истории культуры как науки», по словам А.В.Михайлова, — «обратный перевод».14 Осмысление истории как постоянного перевода культурных явлений на «первоначально чуждые им культурные языки, часто с предельным переосмыслением их содержания»,15 побуждает искать и вырабатывать всё более тонкие, «совершенные», приёмы чтения разнообразных культурных текстов. Обратное раскручивание истории призвано не только выйти к языку источника, но и реконструировать его смыслы. Культура и её история - некий бесконечный палиндром.
Концепция знаковых переводов не могла не затронуть сферу морфологических взаимодействий. В аспекте литературно-музыкальных связей проблема обострялась дискуссионностью исходного концепта о языковой природе музыкального знака. В «Философских работах» Л.Витгенштейна есть фрагмент об игре одного музыканта (Лабора), напоминающей рассказывание. С характерной для него мягкой рефлексией Л.Витгенштейн пишет: «Как странно! Что же было в этой игре такого, что напоминало речь? И сколь удивительно, что признание сходства с речью для нас не поверхностное сравнение, но нечто важное и великое!
12 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров.С. 58.
13 Там же. С. 69.
14 Михайлов A.B. Обратный перевод. - М., 2000. С. 16.
15 Там же.
Музыку, и особенно некоторую музыку, мы готовы называть языком, некоторую же музыку языком не назовёшь».16
Является ли музыка языком до сих пор остаётся одной из самых острых проблем музыкознания. Конференции в ФРГ (1971) и в Санкт-Петербурге (1989) были специально посвящены обсуждению вопросов сходства и отличия музыкального и вербального языков. Интерес к языковой природе музыки объясняется, во-первых, всё более активизирующейся научной тенденцией XX века найти «унифицирующее начало», которое позволит «создать единую концепционную схему для разных по природе объектов», и, во-вторых, - увеличивающимся «интересом к проблемам мышления».17 Нейропсихологические исследовании А.Р.Лурии показывают, что артикулированный язык построен не из звуков и что церебральные механизмы, отвечающие за восприятие шумов и музыкальных звуков, совершенно не похожи на те, которые позволяют воспринимать звуки языка (например, поражение левой височной доли разрушает способность к анализу фонем, но оставляет нетронутым музыкальный слух).18
Как правило, музыканты утверждают автономию музыкального языка по отношению к вербальному. Однако часто отмечается и их значительное сходство. «Смысл музыки, — пишет Ю.Кон, - лишь в редких случаях можно считать состоящим в референции. Музыкальные интонации в большинстве случаев не имеют денотатов, но располагают большим "веером" коннотаций. И в этом сходство музыки с поэтическим языком.Лад есть такая ступень абстракции,
16 Витгенштейн JI. Культура и ценность // Витгенштейн JI. Философские работы. Ч. 1. -М., 1994. С.469.
17
Денисов A.B. Музыкальный язык в семиозисе художественной культуры // Рукопись диссертации.канд. культуролог. - СПб.,2002. С.6.
18 См.: Лурия А.Р. Язык и сознание. - М., 1979. которая соответствует языковому уровню вербальной коммуникации. Проявление лада — интонации - индивидуальны и находятся на речевом уровне».19
Различие лингвистического языка и языка музыкального, о котором, по словам Р.Барта, «мы ничего не знаем»,20 усматривается в дискретности, грамматике и семантике словесного языка, как точно обозначил это М.С.Каган.21
Как правило, музыковеды называют музыкальным языком устойчивые типы звукосочетаний {интонации) и правила их употребления. Однако интонации - только типы звукосочетаний, а не конкретные устойчивые образования, не знаки в строгом смысле слова. Семантическое поле интонаций не имеет чётко определённых границ, а значение и форма неотделимы, что исключает проблему перевода с одного музыкального языка на другой. Кроме того, непереводим не только «язык» музыки, но и её «речь». Таким образом, «музыка языкоподобна», «музыка - это язык, но не язык понятийный».22
Эмоциональная жизнь, - пишет М.С.Каган, -континуальна, а не дискретна, тогда как работа мысли понятийно "квантована"».23 Литература и музыка - тексты, различным образом генерированные: литература - текст, «основанный на механизме дискретности», текст музыки — «континуален».24 Именно сочетанием дискретного и недискретного текстов порождается «ситуация непереводимости», образуется «семантический троп».25 Таким
19 Кон Ю. Г. Избранные статьи о музыкальном языке. - СПб., 1994. С. 88,90.
20 Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». - М., 1975. С. 124.
21 Каган М.С. Музыка в мире искусств. - СПб., 1996. С.42.
22 Адорно Т.В. Социология музыки. - М.-СПб, 1999. С. 44.
23 Каган М.С. Музыка в мире искусств. С. 42.
24 Лотман. Ю.М. Внутри мыслящих миров. С.46.
25 Лотман Ю.М. Там же. образом, соотношение литературы и музыки оказывается смысловым «со-бытием», перерастающим сферу искусства и претендующим на статус самостоятельного смыслопорождающего текста культуры.
Степень научной разработанности проблемы. Внутри морфологического изучения художественной культуры проблема синтеза искусств родилась далеко не сразу. Как правило, морфологический анализ занимался сопоставлением отдельных видов художественной деятельности, подчёркивая именно разность языка искусств. В основу первых классификационных таблиц положен принцип дифференциации искусств на различные «виды» и «подвиды», объясняющийся не только различающим взглядом формирующейся эстетической науки, но и господствующей нормативной поэтикой, а также «соблазнами» естественнонаучных классификаций. Эстетика Х1Х-ХХ веков пережила искус идеей синэстетизма, породив неисчислимое количество терминологических транспозиций и накопив доказательства «от противного» непереводимости морфологических «дискурсивных практик» («сопротивление знака»). «Оппозиция между литературой и «^литературой уступает место типологии дискурсов», — отмечает Ц.Тодоров.
Для современной науки характерен интерес и к структурным отношениям между искусствами, и к истории их совместной жизни. Начиная с античности, в истории эстетической науки формировался последовательный морфологический анализ художественной культуры, теоретически сложившийся и осознанный в конце XVIII века. Однако проблема взаимоотношений и синтеза искусств рассматривалась в работах чаще только попутно, интеркуррентно, она более
26 Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. - М., 1984. С. 368. предчувствовалась, чем исследовалась. Только с романтиков, как известно, начинается концептуально практическое и теоретическое стирание границ между искусствами. В Романтизме берут начало две основные тенденции, характеризующие историю морфологических отношений: синтез искусств и их самоопределение, автономность, «различение».27
В отечественной науке мысли о взаимодействиях искусств, их естественной связи начали появляться в начале XX века. Можно сказать, они списывались с натуры. По мысли А.Блока, русская культура исконно синтетична, и синтез искусств на
40 русской почве - её характерная национальная черта. Рубеж Х1Х-ХХ веков давал повод для подобных заключений, так как являл собой небывалый всплеск художественного синкретизма. С одной стороны, многогранная образованность людей искусства давала возможность наблюдать синестезию «изнутри», с другой - эта синестезия оказалась культурно востребованной. В докладе, прочитанном в Петербургской Вольной философской ассоциации в 1921 году, А.Лурье провозгласил синтез искусств, «не механическое их соединение. а естественный, непринуждённый переход с чистого языка одного искусства на язык другого» задачей XX века.29
Заявление А.Лурье оказалось пророческим. Не только художественная практика XX века оказалась чревата морфологическим «бунтом», но и теория искусств, казалось, развивалась под лозунгом «Лессингу и не снилось». Дело не только в том, что время как будто бы проверяло на прочность природу, материалы, формы искусств, а в том, что на их обломках, в их деформации, вырастала новая эстетическая
27 См.: Мурина Е.В. Проблемы синтеза пространственных искусств. - М., 1982.
28 Блок А.А. Собр. соч. в 6 т. - М., 1971. Т.5. С. 531-532.
29 Лурье А. На распутье: Культура и музыка // Стрелец. - СПб., 1922. С. 163. формация, демонстрирующая себя до понимания законов, по которым она существует. Разрушенная форма становилась новым «видом», «жанром» искусства, претендующими на место в классификационных таблицах. Синтез искусств приобретал статус культурологической проблемы.
Современное искусствознание, накопив огромный опыт и разработав разнообразные концептуальные подходы к изучению проблемы взаимодействия и синтеза искусств, до сих пор находится в состоянии научного поиска. Как правило, именно углубление в проблему расширяет горизонты исследования, усложняя научные маршруты. Процессы научной интеграции превращают взаимодействие искусств из «предмета» науки в её неизбежный «инструментарий», позволяющий обнаруживать всё новые и новые траектории художественных перекличек.
Изучение вопросов взаимодействия и синтеза искусств располагается внутри тенденций, во многом исключающих друг друга. На одном полюсе — мысль о неправомерности, невозможности морфологических сравнений и переводов. На другом - гипотетические представления о наличии единого универсального художественного метаязыка, некоего «гумуса» художественности. В итоге - интенсивный и плодотворный процесс дискуссий, вовлекающий в орбиту разговора не только искусствоведческие науки, но и лингвистические, психологические, философские, семиологические. Категория художественности, как будто бы абсолютно снимающая проблему морфологического перевода и наделяющая произведение искусства презумпцией неприкосновенности, утверждающая его недоступность для иных языков, в то же время сообщает проблеме морфологических переводов возбуждающую притягательность.
На искусство, «рассматриваемое как язык, особым образом организованный», были перенесены «методы изучения естественных языков».30 Тем самым была намечена канва научных сопоставлений и выбран терминологический тезаурус. Оставаясь дискуссионным, понятие «музыкального языка» прочно утвердилось как термин-метафора. Но «метафорические формы», по выражению Ж.Бодрийяра, «и есть то, что можно назвать магией».31
Попытки обратиться к категориальному аппарату лингвистики и семиотики (М.Арановский, Л.Акопян,
Т.Бакурадзе, Т.Бершадская, М.Бонфельд, Б.Гаспаров, Ю.Кон, В.Медушевский, Е.Ручьевская и др.) во многом конкретизировали существо метафоричности, не отменив её в принципе. Мотив аллюзии трудно вербализуется и постоянно ускользает.
Сопоставления музыки и литературы традиционно реализуются в двух направлениях. Во-первых, рассматриваются взаимоотношения исторически сложившихся видов искусства — словесного и музыкального. Этот аспект проблемы наиболее исследован. Долгая практика культурного «сожительства», культурная востребованность всё более сложных художественных структур, в свою очередь возникающих для реализации усложняющегося «содержания» и «форм» человеческой жизни, побуждали искусства к обсуждению правил художественного общения, определяя морфологические границы, возможности, симпатии и антипатии, — морфологический этикет».
30 Ржевская Н. О семиотических исследованиях в современном французском литературоведении // Семиотика и художественное творчество. - М., 1977. С. 75.
31 Бодрийяр Ж. Америка. - СПб., 2000. С. 76.
Культурологический подход к изучению исторической жизни различных искусств способствовал активизации интегрирующих научных тенденций. Начало исторической морфологии, объясняющей специфику и закономерность выдвижения на первое место или уход в тень того или иного вида искусства в определённом историческом периоде, было положено знаменитыми лекциями по эстетике Гегеля и продолжено после долгого перерыва фундаментальными работами М.С.Кагана. К настоящему времени накоплен огромный «корпус» работ, не только описывающих сосуществование разных художественных форм в различные исторические периоды, но и объясняющих закономерности соотношения видов искусств и общекультурных тенденций художественного развития.
Исследование «закономерностей культурогенеза», последовательно проводимое М.С.Каганом, убедительно показывает связь «взлётов» и «падений» различных видов искусства, в частности - музыки и литературы, с процессами «величия» и «дискредитации» рационалистического знания, с тенденциями завоевания «интеллектуальным и эмоциональным механизмами человеческой психики самостоятельности».32 Более того, в работах М.С.Кагана описаны и объяснены механизмы сближений и расхождений более «мелких» морфологических единиц: типов письма (поэзии и прозы), жанров, течений и направлений, художественных стилей.
Наличие фундаментальной стратегической программы научных исследований не исключает возможность дальнейшего изучения структурных отношений между искусствами в историческом аспекте. Развитие культурологического знания
Каган М.С. Морфология искусств: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. Ч. 1-3.-Л., 1972. С. 215. позволяет увидеть всё более сложные связи художественных явлений внутри целостного текста культуры, и в этой связи изучение морфологической «картины мира» в её исторической изменчивости всегда актуально и перспективно.
Второе направление в исследовании взаимодействия и синтеза литературы и музыки - сопоставление материалов искусств. Этот аспект проблемы особенно дискуссионен, а наиболее полное и значимое его освещение тоже принадлежит М.С.Кагану. В своём основном виде принцип сравнения литературы и музыки охарактеризован им в работе «Музыка в мире искусств» (1996).
Указывая на речевой генезис слова и музыки и коммуникативную значимость речи, исследователь подчёркивает, что «связь человека с человеком не может ограничиться их интеллектуальным контактом, но должна включать в себя и эмоциональное их единение». Вырастающие из одного «корня», словесный и музыкальный языки по мере увеличения самостоятельности интеллектуальной и эмоциональной жизни человека расходятся по своим специфическим дорогам: «звуко-интонационные знаки музыки» передают «преимущественно эмоциональную информацию», а «знаки словесные — преимущественно интеллектуальную».33 Принципиальный характер имеет и разграничение устной и письменной форм бытования искусства, так как одно из различий литературы и музыки выражается в самостоятельном существовании письменной литературы и отсутствии такого явления в музыке, существующей только в звучании.34
33 Каган М.С. Морфология искусств. С.216.
34 См. там же.
Обращение к первоначальным «корням-напевам» предполагает выход во «нехудожественные области и погружение в до-словесные и до-музыкальные истоки культуры. Синтез, по словам А.Ф.Лосева, стимулирует и определяет «элементы, функционирующие за пределами чисто художественной образности».35 Тайна «первоначал», ускользающие от точных научных определений «истоки» культуры наделяют проблему художественного праязыка особым зарядом научной рефлексии. Если «составляющие» древнейшего синкретизма многократно описаны, то пропорции и значимость этих компонентов всё ещё вызывают споры.
Остаётся открытой, несмотря на неоднократные к ней обращения, проблема единого категориального аппарата («терминологического тезауруса»), адекватного природе двух искусств — словесного и музыкального. Идеи «непереводимости художественной информации» не сдерживают усилий, направленных на вербализацию морфологической специфичности. Поиски врождённой текстуальности музыки, песенных истоков речи, музыкальности поэтических и прозаических текстов - «отмеченные» маршруты музыкознания и литературоведения.
Речевой генезис литературы и музыки обладает, пользуясь выражением И.И.Земцовского, «предметной агрессией»,36 оказываясь лейтмотивом не только лингвистических, но и многих иных исследований. Одной из проблемных ситуаций изучения взаимоотношений музыки и литературы является несогласованность «уровней» исследования: анализ явлений,
35 Лосев А.Ф. О понятии художественного канона // Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. - М., 1973. С. 11. 3 Земцовский И.И. Апология слуха//Музыкальная академия.-2001.-№ 1.С.1. воспринимаемых «на слух», и явлений, представляемых «мысленно».
Таким образом, если магистральные пути исследования взаимоотношений литературы и музыки получили достаточно полную разработку в современных искусствознании и культурологии, то отдельные частные вопросы взаимодействия этих искусств ещё нуждаются в дальнейшем рассмотрении.
Один из возможных аспектов исследования, получивших в последнее время большое распространение, - интермедиальный. Зашифрованность культуры различными текстами, её, по выражению Ю.М.Лотмана, «полиглотичность», вызвала к жизни понятие, которое позволяет изучать каналы художественной коммуникации между различными видами искусства. Понятие интермедиальности, как правило, применяется при изучении таких художественных явлений, образная структура которых гетероморфна. Интермедиальность - принцип дешифровки, помогающий извлечь закодированную в системе информацию. Понимание культуры как большого текста, написанного на множестве различных языков, с одной стороны, открывает перед категорией интермедиальности завидные перспективы, с другой - несколько затуманивает контуры определения.
Интермедиальность характеризует и внутритекстовые связи разных искусств, и целостные метапространство и метаязык культуры. В первом случае интермедиальное исследование приобретает искусствоведческую окраску в соответствии с видовой спецификой «предмета» изучения, во втором - становится культурологическим.
Уязвимость интермедиальных исследований — неразработанность терминологии, категориальная недостаточность». Как правило, интермедиальные исследования имеют жанровое уточнение — опыт. Тем не менее, результаты этих опытов бывают очень интересны и значимы.37 Несмотря на «присваивающий» тип терминологической культуры, поле интермедиальных исследований весьма плодотворно. Интермедиальный «узус» изучения обостряет чутьё к скрытому интермедиальному дискурсу, зашифрованному в профессиональном искусствоведческом языке.
Интермедиальная специфика подхода позволяет не упускать из вида интертекстуальность как свойство любой художественности, требует «умноженных» усилий, интеллектуальной «поливалентности». Интермедиальность - и есть канал связи разнородных научных дискурсов, сектор наложения профессиональных лексик, поиски «своего» среди «чужих» {«иное или слишком и//ое», как выразился А.В.Михайлов о музыке А. Веберна ).
Изучение взаимоотношений литературы и музыки предполагает интермедиальность как специфический ракурс культурологического исследования. Тем не менее, идентификация данной работы как интермедиальной не является предметом рефлексии, работа не ставит своей задачей выработать интермедиальную терминологию или определить границы и специфику интермедиальности. Исследование мыслится как культурологическое, призванное рассмотреть
37 См., например: Тшцунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств: опыт интермедиального анализа. - СПб., 1998; Смирнов И.П. Порождение интертекста: Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Пастернака. - СПб., 1995; Интертекстуальные связи в художественном тексте. - СПб., 1993; И.Е.Борисова. Интермедиальный аспект взаимодействия литературы и музыки в русском романтизме. - Автореф.канд. культ. - СПб., 1999 и Т
См.: Михайлов A.B. Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна // Михайлов A.B. Музыка в истории культуры. - М., 1998. взаимоотношения литературы и музыки в контексте русской культуры XIX века.
Источниковедческая база исследования - совокупность художественных литературных и музыкальных произведений русской культуры XIX века, эпистолярная, мемуарная, и критическая литература этого периода; классические труды по истории и теории культуры, истории искусств, филологии, музыкознанию.
Теоретико-методологическая основой диссертации являются исследования отечественных и зарубежных философов, культурологов, теоретиков и историков искусства, филологов, музыковедов: Б.В.Асафьева, Б.М.Эйхенбаума, И.И.Иоффе, М.М.Бахтина, Ю.М.Лотмана, М.С.Кагана, А.В.Михайлова, В.В.Иванова, Т.Н.Ливановой, И.И.Земцовского, В.А.Васиной-Гроссман, Ю.Н.Холопова, В.Н.Холоповой, Р.О.Якобсона, И.Г.Дройзена, Т.В.Адорно, К.Дальхауза и др.
Объект исследования - русская культура XIX века.
Предмет исследования - взаимоотношения литературы и музыки в русской культуре XIX века.
Выбор XIX века в качестве историко-культурного материала определяется, помимо личных пристрастий, «классичностью» периода, а главное - двойственным и противоречивым характером связей словесного и музыкального искусств. С одной стороны, взаимовлияния их очевидны, общеизвестны, с другой — именно классичность русской культуры XIX века, яркость её имён несколько ослепляет, не даёт увидеть специфичности отдельных «актов» литературно-музыкальной истории. Литература и музыка этого периода морфологически «совершенны», суверенны и самодостаточны. Их общение — это сознательный выбор на основе конкордантности. У каждого вида искусства сложные отношения с историей. Принадлежа одному временному «поясу», искусства по-разному ему соответствуют. Кроме того, морфологические встречи - события не только истории, но и исторической памяти, а их соотнесение тоже требует особого перевода и дешифровки.
Целое русской культуры исследуется в работе в художественно-герменевтическом аспекте, это историко-культурологическое прочтение темы. Литература и музыка выбраны в качестве исходных «пунктов», из которых навстречу друг другу «отправляется» художественная рефлексия. Пространство «пути» рассматривается на двух уровнях. Во-первых - на уровне внутритекстовых связей словесного и музыкального произведений. Во-вторых - на уровне характерных для русской культуры этого периода художественных тенденций.
Цель работы - культурологическое осмысление взаимоотношений русской литературы и музыки, выяснение характера их связи в классический, литературоцентристский период русской культуры.
Любое историко-культурное исследование требует некоторой доли теории. В данной работе встала необходимость уточнить смысл категорий музыкальность, поэтичность, работающих на разных уровнях художественной структуры, но, прежде всего - как стилевых характеристик текстов. Без этих понятий невозможно исследовать взаимоотношения литературы и музыки.
В этой связи конкретными задачами исследования стали: -выяснение терминологического объёма категорий «музыкальность» словесного произведения и «поэтичность» -музыкального; - определение типов взаимоотношений литературы и музыки в конкретном историческом периоде -русской культуре XIX в.
Научная новизна работы заключается в том, что морфологические взаимоотношения литературы и музыки впервые рассмотрены исторически на материале русской культуры XIX в. Диссертация представляет собой первое исследование на данную тему. Каждый вид искусства исследуется в двух аспектах: способности активно воздействовать на другое искусство и способности воспринимать и заимствовать элементы родственной художественности. Впервые высказана мысль о «скользящей» активности художественной специфики: в разные периоды художественного развития и при решении различных художественных задач в художественной структуре искусства активизируется то его «инфицирующая» способность, то «присваивающая». В русской культуре XIX века выделен уровень первичных связей литературы и музыки, обеспеченный присваивающей способностью искусства и уровень вторичных взаимодействий, связанный с контактами «оформленных» видов искусства. На каждом уровне взаимоотношений рассмотрены основные сферы и типы отношений между литературой и музыкой и специфическая поэтика каждого искусства.
Актуальность исследования. Для современной культурологии характерен интерес к явлениям, возникающим на стыке разных художественных языков, и проблема перевода, в том числе - морфологического, чрезвычайна злободневна. Более того, в современной культурологии актуальна мысль об «обратном переводе» (А.В.Михайлов), который осуществляется в ходе культурного развития и исследованием механизма которого занимается историческая морфология, в русле которой написана работа. Актуален и выбор материала, а именно -русская культура XIX в. Классический этап русской культуры именно благодаря огромному научному фонду работ, ему посвященных, обнаруживает оставшиеся дискуссионными некоторые проблемы культурного развития, к числу которых относится тема данной диссертации.
Цели и задачи исследования обусловили структуру работы, в которой выделяются три аспекта: историографический, теоретический и исторический.
Во введении определяется место данной проблемы в сфере культурологических и искусствоведческих исследований, обосновываются цель и задачи исследования.
В первой главе рассматривается взаимодействие искусств как культурологическая проблема: соотношение литературы и музыки в истории культуры и проблемы их сравнительного описания (/./); состояние изученности данной темы в современных культурологии и искусствознании (1.2).
Вторая и третья главы рассматривают влияния музыки на литературу и литературы на музыку.
Несмотря на названия глав, в которых фигурирует понятие «влияние», акцент делается не на морфологической «референции». В качестве основного предмета исследования выбраны морфологические «реципиенты», степень их поглощающей, присваивающей, «абсорбирующей» способности. Литература и музыка этого периода уравновешены, умеренны в характере своих декларативных связей. Их «актив» проявляется в воспринимающей способности. Объём принимающего поля, глубина попадания, степень приживаемости иноморфологических вкраплений — не только характеристика морфологической «почвы», но и морфологического «донора». В этой связи «влияния» приобретают тотальный и неизбежный характер, акцентируя свои онтологические коннотации.
Во второй главе уточняется понятие музыкальности словесного произведения (2,1), делается попытка различить слышимую, видимую и знаемую («узнаваемую») музыкальность и, одновременно, не потерять их целостность, обрести музыку слова как образ. В разделе 2.2 рассматривается освоение литературой XIX века акустического пространства русской культуры, явленность звука и музыки в произведениях русских писателей.
В третьей главе проблема «переворачивается» — исследуется влияние литературы на русскую музыку. Раздел 3.1 посвящен выяснению речевых потенций музыкального «высказывания» и определению уровней, на которых происходит общение музыки с литературными формами. В разделе 3.2 рассматриваются различные типы «омузыкаливания» словесных текстов и изменение подходов к слову, обусловленное временем и общехудожественными тенденциями в культуре XIX века.
В заключении подводятся итоги проделанного исследования.
Библиография (535 наименований) содержит, как правило, современные работы, имеющие непосредственное отношение к избранной теме, и не включает классические философские и эстетические труды.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Литература и музыка в русской культуре XIX века"
«Объяснения требует то, что длится, — пишет Р.Барт, — а не то, что "мелькает"».^^ История художественной культуры выявляет хроничность, непреходящность рефлексии проблемы морфологического синтеза. Синтез искусств — в буквальном смысле «проблема», ситуация противоречия. «Звук и слово, - пишет А.Ф.Лосев, - взятые как отвлечённый принцип, абсолютно несовместимы, ибо одно даёт чистое качество и до предметность, другое же - оформленность и структурность. Но когда слово теряет свою первоначальную оформленность (а это происходит со всяким, например, поэтическим словом), то здесь получается почва для более или менее глубинного синтеза звука и слова. Отсюда - чем поэтичнее текст, тем он музыкальнее (не в смысле внешнего благозвучия и музыкальности, но в смысле качественной эйдетической характеристики). Или лучше сказать: музыкальное бытие, по существу бесформенное, чем дальше развивается, тем становится оформленней и в конце этого процесса рождает из себя структуры, как первичная туманность — Солнечную систему. Музыка напрягается до слова, до Логоса».^*^ В этих «простых» словах — вся история словесно музыкального содружества. Однако не напрасно культура выработала такой тип восприятия, для которого интерес к процессу, к развитию «сюжета» культурного текста важнее информации о его «развязке». Существо «интриги» и «акты» музыкально-словесного «действа» обладают магией художественности, они неизменно увлекательны, гедонистичны.^^ Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М., 1989. 280-281 Лосев А.Ф. О музыкальном ощущении любви и природы... 605-606.«Художественное произведение» культуры не читают, а перечитывают. Более того, по мысли М.Фуко, главным всегда оказывается сам интерпретатор. Искусства как образные системы предоставляют себя друг другу в «готовом» виде.Взаимодействие искусств - это событие морфологической памяти, актуализирующей свои эвристические способности и наделяющей образы музыки и поэзии коннотативными сообщениями. Распавщись, первобытный синкрезис оставил на «поверхности» культуры множественные, глубокие и лёгкие, кракелюры. Изучение этих замысловатых узоров - ещё один текст культуры, хроника её герменевтических приключений.Самодостаточность художественного текста, его абсолютная автономность, из чего вытекает его «нетранзитивность»
(Ц.Тодоров) или «нереферентность» (В.А.Лукин) и категорическая невозможность описать произведение «извне», сообщают ситуации морфологического взаимодействия особую остроту. Генетическая гетероморфность природы литературы и музыки ещё более усложняет проблему. Каждая морфологическая система чувствует свою неизбежную онтологическую «интертекстуальность» и, в то же время, — одиночество. Речевой ген словесного искусства и звуковой ген музыки сближают проблему морфологического синтеза с проблемой онтологизации языковых структур. Языки искусств включены в единое общее языковое пространство мира, участвуя в описании его характерологичности. С древнейших времён путешествуя рука об руку, словесное искусство и музыка превратили «поэтичность» и «музыкальность» в универсальные термины-кочевники. Всеобщая текстуализация культуры последовательно умножает число этого терминологического «сословия». Образы музыки и поэзии - вечные странники культуры.Русская культура XIX века - «великий интерпретатор» словесно-музыкального синтеза и, одновременно, - «предмет» очередных истолкований. «Классичность» русской культуры XIX века, с одной стороны, итожит многие культурологические проблемы, с другой - обнаруживает свою способность участвовать в создании нового культурного текста.Первичный^ «матричный», онтологический синтез слова и музыки гарантирует поэтическому и музыкальному образам всепроникаемость и универсальную приживаемость внутри различных художественных систем. Поэтический и музыкальный образы - образы «первой группы», они могут быть «влиты» в любой морфологический «организм», но сами принимают только «своё». Первичные «музыкальность» и «поэтичность» - не приёмы, не метафоры, это свойство «онтологического реализма». Такие «музыкальность» и «поэтичность» не вмещаются в морфологические «границы» музыки и литературы, эта метаморфологические категории. В аспекте эйдетического синкрезис не может исчезнуть.Интерес и внимание к «объективной действительности», к онтологии как семантическому центру культуры именно этот, первичный, уровень отношений словесного и музыкального искусств в культуре XIX века сделали наиболее явным и значимым. С одной стороны, естественное бытование слова и музыки - некая культурная беллетристика, которая не требует объяснения и понятна «сама по себе». С другой - именно естественность, непереводимость в другие «формы жизни» превращает любое явление в некий Сфинкс, задающий загадки.В результате - провокации и к интуитивному постижению жизни, и к научному её исследованию. Культура русского XIX века последовательно и осознанно синтетична, так как стремится к постижению единства мира, его «роевого», «соборного» начал.Вторичные^ собственно морфологические взаимодействия историчны и представлены романтической и реалистической художественными моделями. Романтические тенденции культуры культивируют интуитивный тип познания, который более «удобен» для познания объектов «//ечистой» художественной природы, объектов с «диффузными» морфологическими границами. В связи с этим романтизм, во первых, более активен и открыт для морфологического синтеза, во-вторых - предпочитает художественные тексты с музыкальной доминантой. Реалистическая модель, возросшая на позитивистском типе мышления, откровенно рационалистична и, в связи с этим, - литературоцентрична.Реализм - «здравомыслящая» система, для него характерно стремление к морфологической «самости», «разумному эгоизму» структуры.История художественной культуры предоставила каждому искусству громадный выбор возможностей и для морфологического самопознания, и для морфологических общений. Каждый «микроэлемент» структуры обнаружил в себе «синтетические» возможности. Слово научилось выражать «невыразимое», стало наиболее концентрированной вербализацией интуитивных прозрений, делая понятийно доступным «смыслозначимые каркасы мира»."*"* Тем не менее, в культуре XX века слово теряет свои позиции, предоставляя массовую сферу культуры визуальному искусству, а элитарную — музыке. Звук же - наоборот - продолжает свою экспансию не ^ ' Ильин В.В. Язык - Понимание - Культура//Язык и культура... 271.только в область музыки, присваивая «музыкальное», но всё более расширяет своё представительство, «посольство» в культуре.Долгая практика семантической аккумуляции не только превращает звук в знак, но и мифологизирует его, побуждая генерировать смыслы. Одно из самых синтетических искусств XX века - кино - не случайно давно экспериментирует именно со «звуковыми дорожками», чувствуя в звуке фатальную суггестивность и семантическую эмблематичность. Голос, с его «дипломатическим статусом» тембра, интонационной рельефностью, артикуляционными, ритмическими и метрическими особенностями произнесения, темпом речи становится акустическим классификатором современной речевой «проблемы» в фильмах К.Муратовой или, например, в популярном молодёжном мультике О.Куваева про Масяню. При очевидной визуализации культуры звук всё более настоятельно притязает на реализацию своей онтологической «этимологии» — это зов культуры, её оклик. Звук сообщает визуальной информации антропные черты, наделяет «картинку» длящейся, далеко распространяющейся характерологией, смещая, стягивая на себя семантический центр сообщения. Голос — персонализированный, интимный инструмент коммуникации.Увеличивающаяся понятийная нагрузка акустических проявлений культуры делает ретроспективный взгляд на соотнощение вербальной и акустической семантики концептуально значимым, призывая к «теоретическому сомнению» и «критической бдительности».^ "^ Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. - М., 2001. 302.
Список научной литературыМышьякова, Наталия Михайловна, диссертация по теме "Теория и история культуры"
1. Ланглебен М. Мелодия в плену у языка. С. 95.
2. Витгенштейн Л. Культура и ценность // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. -М., 1994. С. 486.
3. Стасов В.В. Искусство XIX века // Стасов В.В. Избр. соч. в 3 т. М., 1952. Т. 3. С. 720.
4. Ларош Г.А. Избр. статьи. Л., 1974. С. 63.
5. Серов А.Н. Критические статьи. СПб., 1895. Т. 3. С. 1305.
6. Каган М. С. Музыка в мире искусств. СПб., 1996. С. 54.
7. Иоффе И.И. Синтетическая история искусств (введение в историю художественного мышления). JI., 1933. С. 275.
8. Даргомыжский А. С. Автобиография. Письма. Воспоминания современников. — Пг., 1922. С. 119.ч/вСеров А. Н. «Русалка». Опера A.C. Даргомыжского // Серов А.Н. Статьи о музыке. Вып. 2.-М., 1986. С. 75.
9. Чайковский П.И. Поли. собр. соч.: Литературное произведение и переписка. М., 1953. Т. 2. С. 149.
10. Гаккель Л.Е. Девяностые: Конец века глазами петербургского музыканта. СПб., С. 14.
11. Лосев А.Ф. О музыкальном 01цущении любви и природы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. С. 607.
12. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 280-281
13. Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001. С. 302.Библиография
14. Абрамова Н.Т. Являются ли несловесные акты мышлением? // Вопросы философии. 2001. - № 6. С. 68- 78.
15. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. - 448 с.
16. Агапкина Т.А. Звуковое поле традиционного календаря // Голос и ритуал: Материалы конференции. Май 1995 г. М., 1995. С. 9-11.
17. Адамян А. Принципы поэтики Шекспира в музыке //Адамян А. Статьи об искусстве. М., 1961. С.297-331.
18. Адорно Т.В. Избранное: Социология музыки. М.-СПб., 1999. — с.445.
19. Адорно Т.В. Философия новой музыки. М., 2001. - 343.с.
20. Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века. М., 2001. - 398 с.
21. Азначеева E.H. Музыкальные принципы организации литературно-художественного текста Ч. 1-3. — Пермь, 1994. 131 с.
22. Аймермахер К. Знак. Текст. Культура. Пер. с нем. М., 1998. — 258 с.
23. Акимова Т.М. «Русская песня» и романс первой трети XIX века // Русская литература. JI.f 1980. - № 2. С.36-45.
24. Акопян Л.О. Теория музыки в поисках научности: методология и философия «структурного слышания» в музыковедении последних десятилетий // Музыкальная академия. 1997. - № 2. С.110-123.
25. Алексеев М.П. Взаимодействие литературы с другими видами искусств как предмет научного изучения // Русская литература и зарубежное искусство: Сборник исследований и материалов. — Л., 1986. С. 5-19.
26. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование: звуковысотный аспект. М., 1986. - 40 с.
27. Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни. М., 1988. - 236 с.
28. Ален. Суждения. Пер. с фр. М., 2000. - 398 с.
29. Алпатов М.В. Этюды по истории западно-европейского искусства. -М., 1963.- 425 с.
30. Альшванг A.A. Русская симфония и некоторые аналогии с русскимроманом //Альшванг A.A. Избранные сочинения в 2-х т. М., 1964.Т.1. С.73-96.
31. Амброс A.B. Границы музыки и поэзии: Этюд из области музыкальной эстетики. СПб.-М., 1889. - 144 с.
32. Анализ вокальных произведений. JI., 1988. - 349 с.
33. Андреев Ю.А. Взаимодействие художественной литературы с аудиовизуальными видами искусства: К методологии исследования проблемы // Методологические вопросы науки о литературе. — Л., 1984. С. 147-198.
34. Аникст А. Синтез искусств в театре Шекспира // Классическое и современное искусство Запада. Мастера и проблемы: Сборник статей. М., 1989. С.92-114.
35. Ансерме Э. Статьи о музыке и воспоминания. М., 1986. - 225 с.
36. Антипова Т.В. Пути исследования смыслов музыки: Введение в структурную эстетику // Дисс. канд. искусств. М., 1995. - 154 с.
37. Античная музыкальная эстетика. М., 1960. - 304 с.
38. Античные мыслители об искусстве. М., 1937. - 275 с.
39. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. -СПб., 1998.- 726 с.
40. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления. М., 1974. - 336 с.
41. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. М., 1991. -317 с.29