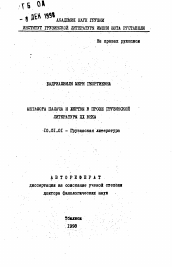автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Метафора палача и жертвы в прозе грузинской литературы ХХ века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Метафора палача и жертвы в прозе грузинской литературы ХХ века"
- О АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИИ
ИНСТИТУТ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУШ ИМЕНИ ¡ЮТА РУСТАВЕЛИ
На правах рукописи
ВДРИАШВШИ ЫЕРИ ГВОРШ03НА
МЕТАФОРА ПАЛАЧА И ЖЕРТВЫ В ПРОЗЕ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI ВЕКА
10.01.01 - Грузинская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук
Тбилиси
\ 1998
>>
Работа выполнена в Институте грузинской литературы имени Шота Руставели АН Грузии.
Консультант!! доктор филологических наук, профессор Ш.ЧИЧУА
Эксперт: доктор филологических наук, профессор Г.ЛСШДЗЕ
1с Доктор филологических наук, профессор Р.ШШВЕЛАДЗЕ
2. Доктор филологических наук, профессор С.СИ1УА
3. Доктор филологических наук, профессор Н.ХЕЛАЯ
Ведущая организация - Тбилисский государственный педагогический университет имени Сулхан-Саба Орбелиани.
в " \С " часов на заседании диссертационного совета при Институте 'грузинской литературы иг/. Шота Руставели АН Грузии / Р.10.01 С Л 3 /.
Адрес: ЗС0008, г.Тбилиси, ул. М.Костава, 5.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института.
Автореферат разослан & 1598 г.
Официальные оппоненты:
Защита диссертации состоится
Ученый секретарь диссертационного совета доктор филологических наук
/ АРАБУЛИ АД. /
- 3 -
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДА
Актуальность гены. Метафора - форма художественного мышления, основная категория системы художественных образов. Метафора палача я жертва - это один конкретный образ, оказавшийся весьма ёмкяи как для решения художественных проблем, так я для раскрытия сущности общественной история.
Исследование художественного произведения с точки зрения метафоры палача и жертвы расширяет аспекты восприятия, понимания в осмысления сочинения и под новым углом освещает его стилистическую систему, одну из главных проблем эстетики - метафорическую природу художественного образа. Вместе с тем она расширяет социально-политическое, культурологическое самосознание общества. Углубление в эту проблему помогает человеку лучше осознать своп роль и функцию в социальных взаимоотношениях. То, какую трансформацию испытывает эта метафора при переходе во вторичную действительность, т.е. в художественное творчество, ясно показали результаты исследования. При определении актуальности теш необходимо учитывать философские и художественные аспекты вопроса. Философский аспект связан с процессом постижения сущности самой метафоры, так как она подчинена действующей реальности и направлена к выражению мысли от глубинных структур то вовне, то к внутренней сущности. В таких отношениях сознание человека ярче выявляет февомев метафоры как один из важнейших аспектов художественного произведения, объективной сущности его идейно-эмоционального содержания ■ основы его интерпретация. Метафора, как "образ видения сходства между предметами" (Аристотель), является такой микросистемой, где взаимоотношения конкретной модели и контекста представляют собой верное средство "для живого и четкого изображения предмета".
Художественный аспект вопроса связан с исследованием конкретных текстов и его результатами. В этом отношении интересен анализ произведений отдельных авторов на основе т.н. модели единства противостоящих в sas Форш символического понимания сознания, которая гак se символически отображает взаимоотношение палача и жертвы.
Мировосприятием этого вопроса порядок и систематичность, характерные черты общеё интенция жизни„ признается движущими силами вселенной ж внутренних духовных процессов человека. В процессе ис-следованЙЯр функции этих художественных образов участвуй в углублении значений и расширении концептуального пространства. Модель единства противостоящих создает некий стержень для ориентировочного движения художественных образов палача и жертвы в пространстве значений. Это - глубокая, концептуальная модель, в которой отражаются исторические в бытовые архетипы, как вестники смены функций и нравственной катастрофы» Применение этой модели подразумевает и учет общекультурного контекста, к которому органически приобщена сущность данных художественных образов, разработанная на основе индивидуального мироощущения.
Актуальность теш определяется также исследованием конкретных сфер, дапдих нам представление об особенностях национального мировосприятия; тем самым, представленные контексты, с философским и художественно-эстетическим анализом, ясно выявляет необходимость такого исследования предметов н явлений посредством метафоры палача и жертвы.
Цели и задачи исследования. Как известно, на протяжении своего существования человечество использовало, износило и выбросило на свалку истории многие формы правления. А взаимоотношение палача и жертвы является той формой правления, которая движет
.селенной и вечна подобно ей. Это - одна из основных форм сущеся-юваняя человечества, особенности проявления которой была исщгаа-ш им на самом себе0 на собственной плоти а крова, начиная о Как-ш и Авеля до распятия Христа и до наших дней. Более того, начи-шя с насекомого, попавшего в сета лаука и кончая человеком - со* зсеуничтожающим оружием в руках, который в силе целиком унячто-иать весь живой и неодушевленный мир. Так вынес человек приговор замому себе, как жертве и стал самым великим палачом в мире.
Из-за масштабности вопроса невозможно исчерпать эту проблему. Целью труда является рассмотрение метафоры палача и жертвы в контексте одной эпохи, а именно в творчестве К.Гамсахурдиа ,М„Дяа-вахшвили а Гр.Робакидзе.
Отношение художника к оригинальному образу я вложенной в него сущности аналогично отношению человека к миру. Познание вселенной - исконное желание человека. Кавдая попытка, кавдое движение в этом направлении равноценны порядку, утвердившемуся от хаоса, - а порядоке в свои очередь, является выражением законодательства Всевышнего.
Процесс реализации метафоры палача и жертвы представляет собой систематичный принцип, трансформированный в мировоззренчески обусловленную художественную ткань; он - плод потребности новшества, и подчиняется неосознанной логике символического мышления.
Множество взаимоотношений, которые ровдаются окружающим ш-роы в феномене палача и жертвы, - это антропологическое явление и исчерпать его невозможно. Поэтому, мы посчитали целесообразным вести исследование не в направлении установления конечных значений, а в направлении описания способов их возникновения и иате-грацчи.
Выбор модели единства противостоящих,, достоверность которого в данном случае, в этом вопросе была обусловлена предварительным наблвдениемр естественно привел нас к той целеустремленности, исходя из которой возникла необходимость исследовать эту проблему ш по мкфамр и по произведениям, изображающим историческую и бытовую реальности0
Нашу работу направлял научный интерес установления тех соответствий е которые существует между палачом в жертвой„ представленными в реальности„ е одной стороны„ и их формой, интерпретированной художественным мышлением„ - с другой»
Всесторонний анализ в труде сущности этой метафоры определяет место модели единства противостоящих, как возможного метода для подхода к вопросу в деле изображения„ развития г исследования исторических и художественных процессов, а в частности - в грузинской прозе XX века. В исследовании выявлены библейские источники 0 исторический фон» и установлены взаимоотношения художественных образов палача и жертвы. Религиозныее философские, художественно-эстетические воззрения отдельных авторов рассмотрены в спектре отношения к западному культурному миру, что четко выявляет познавательную ценность данной проблема»
При исследовании главным было отнести модель единства противостоящих, как нового видения ыгра6 к эстетическим ценностям. В представленном труде именно под этим углом выявляются особенности художественного мышления кавдого автора.
Методические основы труда. С целью всестороннего осмысления проблемы мы используем как исторически-сравнительный метод, так и семантнко-структуралистическую методологию.
Сравнительно-исторический метод означает такой подход к яв-
леняям, который содержат исследование тенденций их происхождения и дальнейшего развития, рассматривает их как в аспекте прошлого» так и будущего. Этот метод подразумевает признание необратимости и характера наследственности изменчивости предметов, чем стая одним из важнейших принципов науки и который дал возможность о»- • крыть закономерность его развития.
Сравнительно-исторический метод, как правило * исследовандя и решения различных явлений есть то средство, которое при установлении сходства по форме событий установит их генетическое родство, его исходный пункт представляет восстановление и сравнение древнейших элементов, которые является общими для сфер материальной культуры и различных знаний. Он, как метод, представляет важнейшую предпосылку обобщения путем противопоставления объектов, в той числе, по схожести и различия (либо того и другого одновременно) с целью их выявления. Сравнительно-исторический метод рает болылув роль в выводах по аналогии. В суждениях, представляющих результаты анализов этого метода, преследуется цель пояснения содержания понятий о сравнительных объектах.
Для семантико-структуралистического метода характерно повышенное внимание к исследуемому объекту, как чрезвычайно актуальному вопросу, выяснение присущих ему внутренних вневременных свойств, стремление к полярно различным исследуемому объекту я средств исследования и, соответственно, отказ от приоритетов изолированных и фиксирование фактов исследуемой системы или направленности между элементами. При изучении объектов структуралиста-ческий метод подразумевает движение в рамках исследуемой задача от первичной организация на&лщаемых фактов к выявлении и описи внутренней структуры объекта (между элементами различных уровне®
- 8 - .
ее иерархии и взаимосвязей) и затем к созданию теоретической модели объекта по его интерпретации в "исследуемом материале»
Семантико-структуралистический анализ предмета строится на основе отделения структурального состава в социальных системах и их роли (функций) по отношению друг к другу. Как особенное методологическое направление он сформировался в рамках общей антропологии (БоМаливовский,, А.Радклиф-Браун), беря в основу анализа структуральное различие мевду категориями (систему ценностейв социальные нормы0 роль типов единства и их участников),, н функциональное (самосохранениер интеграция„ достижение цели и адаптация). Он руководствуется идеалистической точкой зрения и основным регулятором социальных взаимоотношений считает систему ценностей а норы,, которая выполняет объединительную функцию со- . шальной структуры. Хотя в процессе функционирования общества прочного союза швду структуральными элементами ш определенными функциями яе существует» Семая'х'яко-структуралистический метод строит аппарат аналкза аа особенной функциональной основе,, он различает полезные и вредные результаты функции системы (функция и дисфункция) а во их явственносгЕ участнику системы (открытая и тайная или латентные функция)» Все вида функции объединяет в модели анализа структурально-функциональных социальных событий -парадигме.
Семантико-структуралистический метод - это особое действенное средство в изучении социальных явлений установления проблемы в пределах теории при переходе на конкретное социальное исследование. Он не противостоит историческому (генетическому) подходу, а исходит от единства с ним, что дает возможность всестороннего, конкретного изучения объекта исследования.
. ■ - 9 - '
Научным новшеством диссертации является то, что материал, оцененный с этого угла зрения, выявляет новые грани, пополняет новыми значениями знание и представление, которыми располагает читатель в отношении предмета исследования. В труде комплексно я систематически изучена и воспринята метафора палача и жертвы, ее значение в синхронном и диахроаном аспектах хода времени. Труд подобного масштаба в отношении этой проблемы выполняется впервые. На основе изучения сочинений грузинских писателей выяснена роль модели единства противостояния и ее значения в истории литературы, в частности грузинской. Выяснилось, что означенные метафорические образы первейшее выражение формы существования человечества, в результате чего возникла необходимость пересмотра некоторых мнений, существующих в научной литературе.
В труде впервые использована символическая природа художественных образов для лучшего осмысления проблемы, для понимания ее фялософо-психологической сути. Выдвинута и теоретически под-тверадена необходимость интерпретационного подхода в пределах литературоведческого анализа текстов.
Указанная метафора изучена как художественно-эстетический феномен, установлены ее мировоззренческие и культурные корни, ориентации. Показана функция художественных образов в текстуальной ли, историко-бытовой ткани и формировании новых значений.
Исследована специфичность модели единства противостояния, присущие ей пути и средства в деле изучения этой проблемы от хаотических аморфизмов до конкретных изысканий, с учетом последовательного изменения их значений на глубинных и поверхностных пластах. Изучены изобразительные аспекты метафоры, их функции ж средства эстетического влияния.
-10-
Эта проблема, как особое свойство изобразительного образа, рассмотрена в связи с актами познания и понимания, общие основы сознания и культуры показаны в процессе символизации»
Практическая ценность труда состоит в том, что он как идея, выполняв? определенную методологическую роль в объединении меж-дисцишшнарннж исследований явлений культуры, в сближении различит наук (философия, литературная критика, социология, психология 1 т.д.) с учетом их специфичности.
В исследовании, представленном для диссертации, разработана актуальная теоретическая проблема - метафора палача и жертвы,как одна аз основных фора существования человечества, которая в последнее время стала предметом пристального интереса западной гуманитарной науки. Новое прочтение и научная оценка грузинской как современной, так и классической литературы сегодня немыслима без учета модели единства противостояния, одновременно опирающейся на теоретические достижения отдельных наук (философия,психология, история, теология и т.д.).
В труде определен вопрос реализации метафора палача и жертвы как на отдельных ступенях общего хода истории, так и в развитии грузинской литератур! и ее назначении на литературном поприще. Результаты исследования важны не только для истории грузинской литературы, но собственно и для лиц, заинтересованных этой проблемой, для кого суть этих понятий есть сама философия существования, научная литература,связанная о этой проблемой, предусмотрена и рассмотрена на фоне противопоставления палача а жертвы.
Полученные заключения интересны в любой сфере, любом аспекте жизни общества и могут быть предусмотрены при исследовании
- II -
дальнейших вопросов грузинской литература.
Изучение модели единства противостояния в диссертационном «руде имеет важное практическое значение длй нашего литературоведения, в частности, с точки зрения развития литературы. Труд будет способствовать во время текстуального анализа конкретных произведений внедрения вышеуказанной модели, как метода исследования» в высшие школы я аспирантуру, серьезной разработки метода ва теоретических и практических учебных курсах, помокет молодым научным кадрам в разработке методологического подхода по отношению к творчеству того или иного писателя.
Структура труда. Структурно труд достроен так, чтобы максимально полно представить суть метафоры палача я жертвы в контексте мифа я произведений, изображающих историческую и бытовую реальности на фоне грузинской литературы XX века.
Диссертация состоит из вступления, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Содержание состоит из стандартных страниц, список использованной литературы из отре-ниц..
Апробация труда. Основные результаты диссертации апробированы ва заседаниях отдела грузинской литературы XX века Института грузинской литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузам и научных сессиях. Основные положения и заключения предотваленного труда опубликованы в статьях и тезисах (смотрите прилагаемый перечень)¿
- 12 -
.СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во вступлении речь вдет об актуальности к важности темы, предмете исследования, дана краткая история вопроса исследования. Ва поставленные вопросы даются ответы в отдельных главах труда.
В первой главе рассмотрена семантика метафоры палача и жертвы« И сфера искусства„ и социально-политические явления склонны к созданию так называемых символических систем или оригинальных художественных образов0 которые стремятся выполнять роль проводника информации определенного типа, пополняющих наше сознание к представление на предметы н явления новыми значениями общефилософского смысла о 1
Художественный образ содержит в себе неиссякаемые аспекты толкований и пониманий. Это особое, истинное знание о мире, которое выносится на поверхность интуицией и так утверждается в видимом поле мышления. Потому и является художественный образ жизненным импульсом; потому и олицетворяется в ней эпоха и вечные идеалы цивилизаций.
Творчество, как средство действенного выражения проблематики, характеризуется расширением парадигматического ареала путем перехода от логического к художественному воображению. Литературоведческий анализ данного вопроса подразумевает интерпретацию я направлен на активизацию эстетического уровня. Литература осуществляет актуализацию всех тех символических и реальных возможностей художественных образов, которые таятся в сущности образа. В свою очередь они вытекают из природы литературы, как вымышленного и реального, и находятся в корреляции с той моделью "новых возможных отношений", которые олицетворены аспектами самого быта. Происходит взаимное проникновение функций и назначений палача и
сертвы, отмежевание которых друг от друга может иметь место в ш>-следувдей перспективе магической метаморфозы. Метод, избранный нами, своими познавательными я мыслительными операциями мировоззренчески связан со всем ходом истории и выражен в установления тех условий, которые способствовали формирование художественных образов палача я жертвы. Каждая попытка на пути исследования должна считаться шагом к Познани» вселенной. В любом случав акт интерпретации, как и творческое деяние - это акт понимания а представляет собой существенную экзистенцию бытия человека.
Импульс разрешения проблемы вселенной, сознания и бытия постоянно диктует человеку желание нахождения и утверждения новых символов и художественных образов; в них запечатлено уникальное отражение отношения национального сознания к миру.
В метафорическом пространстве палача и жертвы осмысливается противоречие между историей и человеком, культурой и личностью, так как в сущности этих художественных образов неосознанно оседает философия существования человечества. Она, как необычное выражение коммуникации, подчиняет бытовой уровень проблемы возвышенной интенции, восстанавливая те интенции культурных ценностей, которые осознанно или неосознанно носит в себе поэтический образ.
Жертва, - вещь или живое существо, принесенное в жертву какому-либо божеству, пострадавшее либо погибшее в результате насилия - это жертва насилия, а отказ от личных благ - приносить себя в жертву. И у палача, и у жертвы, кроме основной сутЯ, имеется множество аспектов. Палач и жертва - это метафорические образы единства противостоящих. Суть этих понятий - это философия существования. За время существования человечества форма
- 14 - .
управления палача и жертвы извечна как вселенная. Палач правит и управляет жертвой. Эти две сути неразделимы друг от друга.
По своей природе человек подчиняется концепция агрессии, стремление к власти его безраздельная и важная потребность. Он действует согласно созданным его сознанием и неписанным законам морали, и поскольку мораль (одна из форм общественного сознания, социальный институт, который выполняет функции регулирования поведения людей во всех сферах общества), - как таковой, у нации не имеется (у нации есть определенная система ценностей), давление на поступки лвдей происходит антропологическими импульсами.
Палач порождается свободой воли и поэтому он просто животное с такими же животными инстинктами, убивающий во имя своего же существованияс Из моральных законов свободный разум становится стимулом абсолютно злой воли.
Сколько затихших и бушующих страстей уничтожаются в человеке вместе с его смертью, однако эти погасшие и бушующие чувства являются движущей силой человечества. Имеет ли кто право убить или изувечить другого человека? Божеская заповедь строга: "Не убий", - почему-то в этом понятии подразумевают только физическую смерть, богословие же учит, что все одно - подумаешь ли ты, скажешь ли, сделаешь ли! Ты уже убил, если даже подумал в мыслях! Ты убил языком, словом и это страшнее убийства физического. Биологическим истреблением человеку один раз причиняется боль, -"Язык неистребимое зло", - говорит Господь, - языком же можно несчесть раз убить человека, даже не подозревая о том, что ты человекоубийца, такой же преступник, как и тот, который отнял у человека жизнь.
Господь наш, Иисус Христоо, ради нашего спасения принявший
на Себя мучения, был жертвой, агнцем жертвенным, - хотя для не выполняющих его заповедей он станет Высшим Судьей. И тот, кто ие подчиняется заповедям Божьим, кто не ходит путями любви и истины становятся палачом самого же себя.
Свойства палача в зачаточном виде заложены во всех. Условно ' они делятся на две категории: одни - добровольные, другие - невольные. Понятие палача можно рассматривать во множестве аспектов. Добровольный палач, как единство социальных, моральных, физических, территориальных, имущественных инстинктов, выражен в агрессии.
Палач, назначение которого очищение общества от вредных элементов, - всего-навсего исполнитель, это его профессия.
Фактор смертной казни придает обществу ощущение какого-то спокойствия, хотя защита подобного рода иллюзорна и похожа на песню ребенка, боящегося темноты.
Невольный палач - продукт давления существующей реальности, которым движет инстинкт самосохранения, какой меч поднимешь, от него и погибнешь!
Жертва, как и палач, может быть добровольной и невольной. Невольная жертва - плод трагических обстоятельств, политических депрессий, катастроф, чужих разборок и т.д. - жертва агрессии.
Добровольная жертва - жертвование собой во имя интере<5дй общества, жертвование собственной жизнью ради другого, жертвование собственным счастьем ради блага другого, - жертва моральная, жертва социальная, жертва этическая.
Жертвенность подразумевает получения награды, скажем, словесной, действенной, материальной. Каждая жертва является сдер-живапгчш фактором катастрофических процессов. Бескорыстная жертва
- вто последняя форма отчаяния апелляция к Всевышнему, надежда на £»> непостижимую справедливость. Жертва - это условие восстановления равновесия. Это сдерживание процесса есть результат, а не награда, учитывающий прогнатическую сделку меаду жертвой и принимающим ее, и весьма похож на ситуацию прошения награды. Идея жерт вн связана с концептами свободы, спасения и будущего.
Во всех обществах существует момент соотносительности и противоречивости» Они пополняют и уравновешивают друг друга. Одно не существует без другого, одно всегда подразумевает другое. Модель палача и жертвы - модель психолого-социальная, и сдвигающие ее комплексы следует искать в более глубоких социальных в психических сферах,, На основе этого каждый художественный образ прилагает все жизненные усилия на обретение в сохранение функций положенным им судьбойо И поскольку это воля судьбы, оба, и палач к жертва, слепо следуют этой воле.
Во второй главе рассмотрены метафорические образы палача и жертвы в контексте мифа.
Миф - это большая одиссея борьбы в любви, в которой ищущий разум изначала ищет начала, пытается пояснить вселенную, происхождение греха и жизни. Мяф применяется с целью создания концептуальных моделей на мировоззренческом уровне, а ва языковом - в виде образов, метафор, символов.
Формой выражения задуманного писатель избирает миф, чем затрагивает глубинные начала человека своей эпохи. Человек отдале! от этого начала и путем "вспоминания* мифа вновь соединяется с ним. Художник оживляет тот миф, который более всего недостает духу эпохи, и посредством его возроадения и трансформации касается проблем индивида, - в национальных, я общечеловеческих.
Ф.Ницше и А.Бергсон придавали мифу огромное значение как вечной, стоящей вне времени, живой сущности. Эрнест Касирер считал . его главнейшей символической формой творчества человечества» Миф - это универсальная модель проблемы, дающая возможность путей его интерпретаций раскрыть общечеловеческое психологическое начало как с реальными, так и потенциальными проявлениями.
Национальных мифов нередко связывают с национальными моделями психики; М.Хайдеггер считал их источником национального рока. По мнению же К.Г.Шга ми^ы "представляют собой психические манифестации, которые выражают сущность духа" и при каждом соприкосновении превращаются в пространство новых значений и интерпретаций. В национальном менталитете подсознательно таятся такие струя-туры, которыми избирается лишь определенный миф. Миф - это не только генетический источник развития художественного мышления, но, в определенном смысле, и его "вечная модель и существенный элемент".
В литературу миф вторгается как мировоззрение. Его роль особенная з процессе ретрансляции из эпохи в эпоху, поскольку в нем проявляются закономерности национального характера и бытие« его отношение к миру. По современному понятию идеологии, миф - это возврат к первичным непорочным формам сознания, которые были утеряны человечеством на пути истории. Миф - это универсальная система знаний, к которой в пору сложностей постоянно возвращается сознание человека.
Самые обобщенные мифологические мотивы одинаковы для всех времен и народов, так же, как и архетишше символы, возникшие и сформировавшиеся вслед за мифами.
Это, весьма примечательное соображение К.Г.Ейга хорошо
рбъясняет теоретически-психологические основы проблемы, которая выражена в особом устремлении литературы к архетипу, к мифу, как к устоявшейся структуре. Миф переходит в историю; история как отрезок, тяготеющий к иссяканию, становится принадлежностью вечности о тем самым миф ускользает от "смерти" и оставляет за собой шанс будущностио
Различные культур!, при исследовании какого-либо проблематичного предмета о отличаются друг от друга спецификой путей и способов познания» Специфика путей познания дает нам представление не только о стиле индивидуального мышления народов, но и об особенностях их национального видения„ Новое познание мифа посредством метафоры, осуществляемое художественным мышлением, является основой нового аналитического подхода к изучаемому вопросу. Через поэтический образ мифология способна приблизиться К такому плану изображения, когда функция художественного образа связывает сущность предмета о ее субъективным восприятием. В мифологии это субъективное восприятие отражается как реальная сущность а основа отношений между объектами.
У Гр,?обакидзе метафора палача а жертвы осмыслена из контекста мифа как прочное взаимоотношение мифа и реальности«, Реальный образ переходит в художественный образ; художественный образ раскрывается посредством мифа я во связи с ним, хяе мы видим сложнейший путь формирования или умирания личности, ее своеобразное распятие и потом воскресение и вознесение.
Герой романа "Умерщвленный дух" - Тамаз Энгури своим литературным псевдонимом избирает имя пострадавшего божества Тамуз, а тем самым определяет свою судьбу и подчеркивает то духовное родство, которое связывает его с важнейшим божеством шумеров. В
судьбу Тамаза Энгури не случайно вторгается Тамуз, - его, похищенное божество Скак желанного для преисподни и в то же время опасного для нее, так как в нем таится фантом феникса), спасает богиня любви ассирийцев - Иштар; так же и своего Тамаза спасает прекрасная Ната, хотя это спасение равноценно умерщвлению ее морального "й", Тамазом же свобода воспринимается как ощущение смерти духа.
Лреет Тамаза Энгури сотрудниками ШУ - это взаимоотношение палача и жертвы. Для человека, хотя бы однажды всмотревшегося смерти в глаза, начинается сакральное раскрытие духовного взора, вследствие чего он либо окончательно становится на путь Господа, либо приходит к отвержению Бога. ;
Создав образ Тамаза Энгури, Гр.Робакидзе тем самым показывает нам весь трагизм жертвы, т.е. попавшего в руки палача человека, "вредителя", - весь тот ужас, который умерщвляет в человеке божественное. Жертвой и палачом своего "я" Тамаз Энгури стал в результате давления со стороны существующей реальности. Поэтому писатель значительное место уделяет художественному выявлению той силы, для утоления страсти которой постоянно необходима жертва. Жестокость большевистского режима лишает человека достоинства и, в силу этого, превращает в испуганное и беспомощное существо. Эта тотальная сила является обобщенной тотальной сатанической силой, то есть палачом в больших масштабах, что больше всего проявилось в ее вождях.■
Биологическое умерщвление лишает человека жизни, но эТим не достигается овладение его бессмертным духом. Убийцы отнимают у духа лишь временный покров, т.е. разлучают от тела душу и тем самым сии же открывают перед жертвой путь в вечному Божьему
Царствиюс достичь которое возможно лишь испытав изучения и боли.
В романе "Хранитель Грааля" символика чаши уже само собой подразумевает жертву: одну - обязательно-посвященную, избранную, в многих других - на пути ее поисков, так как ее надо завоевать.
Помимо посвященного, к захвату ее всегда стремится и чуждая села в которая является для всех .желающих приобрести ее палачом, дабы посредством чаш исполнить свою злую волю. Сам Грааль, со слитым в нее кровью, так же наделен миссией кровавой жертвы в древних языческих и других нехристианских традициях. Кровь - то символическое выражение божественного содержания, приобщение с которым вызывает катарзис в душе человека я открывает путь к получению мистериального знания«
Отрешение к Граалю, или обобщенно - сокровище - это не , поиск конкретной чаши, а то вечное искомое, которое человеческий разум будет искать до эсхатологического конца мира. До этого же рыцари Грааля одолевают сложнейший путь и лишь таким образом достигают приобщения к этому сокровищу, хотя стяжание его связано со многими жертвами к жертвоприношениями„
В романе Грааль осмыслен как символический эквивалент Грузии, а его Хранитель - Леван Орбели земным воплощением человека с исключительной миссией, который должен бороться с темной силой большевизма для спасения Грааля, т.е. традиции, национальной духовности. Ему помогает Норина, северная невеста, отношения с которой способствуют духовному бодрствованию в инницаанте. Их любовь дает возможность писателю изобразить их символами чаши Гра- . аля? Леваяа в виде чаши, Норину - в виде иконы, которая соответствует крови. Леван и Норина также сознательно связаны со сеоими символическими архетипами - с Исис-Осирисом, с братом и сестрой,
с мужем и жевой, из которых один должен пострадать, а вторая спасти его.
Грааль несет в своей сущности Логос, как образ плодородия я как оберегаемое сакральное сокровище, "расточение" которой вызывает разрыв связи с божественным, а без божественной силы он превращается Лишь в простой символ, или в материальную вещь. Без благодати Логоса Грааль - это уже не истинный Грааль. В последнее главе романа Леван Орбели, тот же персонифицированный Грааль.изображен в виде пылающего сердца, которое, даже обреченное, способно перейти в сердца других как благодать Грааля.
В произведении "большевизм" и Вельский представлены в виде палача, миссия которого до конца привести в исполнение приговор и обезглавить обреченную на смерть жертву, т.е. победить духовное мужество грузин и окончательно уничтожить Грузию. Большевизм я Вельский - это параллельные символы, как и Грааль и Грузия.
Гр.Робаквдзе наблюдает за трансформацией мифа о Граале в различных мистериях, собирает его символические .архетипы и создает совершенно новый синтетический поэтический образ. В этом мифе ов созерцает эзотерическую глубину и связывает ее с теми или иными историческими явлениями, чем и восстанавливает вечные ценности мифа. И доколе будет существовать сей мир, вместе с ним будет существовать и миф, дабы приобщать ищущий разум все к новым и новым глубинам.
Вся греческая мифология подчиняется закону единства я борьбы противостояния. Так же как и лвди, боги стремятся к власти, которая переходит к ним либо по наследству, либо они захватывают свержением чужой власти и тирании, чем порождают в смертных глубоки1» экзистенциальный страх, о чем свидетельствую* огромные
" 22 - \ храмы Люксора и лабиринты дворцов Кроноса, циклопические стены Миккен и ТиренЫо За этими стенами человек искал убежища, однако одолеваемый чувством собственной ничтожности.
Зевс, высшее греческое божество, также стал повелителем трона - отца Кроноса бросил в ад, поверг титанов, защищающих тронс к вместе с тем разумно разделил все сущее. Он стал неограниченным властителем, хотя а подчинялся судьбе (в данном случав палачу), как и смертные. Он часто нарушает законы в сфере нравственности, хотя в общем является их несчастным стражем, устанавливает порядок, жестоко расправляется с преступниками, тем самым защищая гармонию вселенной.
Власть Зевса высочайшая, но не универсальная. Власть богов многосторонняя и человек не сможет ее ограничить, но ограничены сами боги & у каждого из них своя функция« Зевс - идеальный образ нового порядка в все же непостижима его строптивость. Для чего ему понадобилось влюбить Оиневса в родную дочь Горге и родить от нее Тидевса? Или как позавидовал добродетельному Герифанту, превратив его в ястреба только из-за того, что его любил народ? Эта извечная реальность - мания величия своей единственности и незаменимости, что присуще всем тиранам, не чуждо и Зевсу, он насильно душит свободные стремления и требует слепой покорности. Это закон единства противостояния, где меньший подчиняется большему, кто добровольно, а кто и насильно.
В третьей главе труда метафора палача и жертвы рассмотрена в произведениях, изображающих историческую и бытовую действительность, что по своими причинно-последственными связями относится к ходу всей истории.
Во внутренних противодействиях, в борьбе противостоящих . .
- 23 - '
выступает основная цель поэтического образа, главный принцип существования общества в определенном периоде истории народа. А поскольку метафора палача и жертвы находит опору в эпоху каждого художника, то поэтому необходимо,сущность художественного образа соотнести к условиям, в которых они возникают, т.е. к среде - о ее общественным устроением; и уроваем духовного развития человека, философским мироощущением и религиозными представлениями, или просто образом жизни.
Спеодфика назначения и сущности мира, народа, человека отражается в осмыслении чрезвычайно сложных социально-политических, философских, этических процессов, в выяснении их бесчисленных нюансов в действительности взрывоопасной среды. В этом подлунном мире нет ничего нового, и тем более не нова та форма взаимоотношений палача и жертвы, которую можно увидеть во всех сферах социальных отношений: это царь и подданный, хозяин и раб, врач я пациент, судья и подсудимый, покупатель и продавец, чародей и его клиент, учитель и ученик, редактор и автор и многие другие.
Библия - это мистическое единство противостояния, как признак высочайшего порядка вселенной. Бог Авраама и страх Исаака управляют всем миром и всем живым его составляющим. Эль Шадай, Бог Всемогущий, мстящий, спросит с сынов за греха отцов в третьем и четвертом колене. Кто не подчинится Божьему закону, сам становится палачом себе, сам же выносит приговор для себя как жертве, ибо земля извергнет его (Левит. 20,22).
Сама вселенная со своей иерархической структурой - точная копия строгого порядка, установленного Творцом. Даже сама кисть руки одно из несомненных подтверждений оппозиции большого я малого, нет ничего равного под солнцем: и даже единство Святой Троицы
-24- .
подразумевает подтекст большого в малого. Отец есть первопричина всего,, от Него порождается и от Него исходит Святой Дух. И Есе же Христос ставит Отца выше Себя; "Отец Мой превыше Меня", хотя он наделен всеми правами Отца. Отец не родивший и безначальный есть Начало всего. Вселенная есть порядок, выделенный из хаоса. "И сказал Бог; сотворим человека по образу Нашему, по подобию нашему™ (Быт.1-26)о В "нас" уже подразумевается Сын и Святой Дух, я несмотря на это, Отец Велик! Ему подчиняется весь видимый и невидимый мир«, Выходит, что для миропорядка необходима схема старший - младший. Большое подчиняет себе малое, но кто устанавливает это над и под? - поскольку всякая власть от Бога, как выражение высочайшего фатализма, сам Творец устанавливает человеку судьбой те функции, для реализации которых он пришел в этот мир. И сам Сын Божий подчиняется строжайшему персту судьбы: "Отче! В руки Твои предаю дух Мой!„о"
Эта покорность отнюдь не синдром страха, оно глубоко по своей сути я подразумевает любовь, которая единственная и крепчайшая нить между живой и неживой материей. Отец больше сына, сын больше своего сына и так до бесконечности. В мире множество сильных зверей и птиц, но человек сильнее всех, ему подчиняется все живое, он же Всевышнему - "умерщвляющему и оживляющему, возводящему я низводящему, унижающему и возвышающему ... Ибо не силою крепок человек" (I Цар.2-6-9), И вот почему гармонии, установленной.Всевышним, нужны и жертва, и палач, и именно их единство есть выражение высочайшего миропорядка.
Мантия палача обязательный атрибут любого властителя, как неизбежная необходимость. Сам великий Давид не смог избежать секиры палача и принялся "умерщвлять народ пялами, железными моло-
тилами и секирами" (I Пар.20-3). Во время его царствования было истреблено множество народа. Однако именно он сложил псалмы, славящие Господа, как жест равноценный-искуплению грехов. И что оправдает человека перед Господом, когда Он судит даже Ангелов,самых покорных служителей небесных! (Иов 21-22).
История насчитывает множество любителей властвования в самых различных сферах. И везде шаржированный образ Господа проводит "высший суд" над своими подчиненными. Только великий инквизитор Фома Торквемада сжег более одиннадцати тысячи лвдей, Гименей -пять тысяч. Папской теократии, ее неограниченной власти было пожертвовано миллионы человеческих жизней, которая завладела церковными и мирскими браздами правления по всей Европе. Однако время - самый неумолимый палач - расправилось с сим католическим чудовищем и повергло его (и велико было сие свержение!). Солнце папского величия погреблось в Авинион. Под слабыми лучами "солнца мертвых" все же продолжали свою тысячелетнюю деятельность властолюбивые, изворотливые и развратные папские тираны. Прискорбно, но факт, что на всем протяжении папского правления, вряд ли назовешь, хоть одного, достойно служащего Христу.
Наверное не осталось преступлений, не свершенных папами: бесчисленное число убийств, предательство, попрание сотен девственниц, суд над мертвыми, содомский грех с мальчиками, кровосмешение - и еще множество не менее умопомрачительных преступлений обычное явление в истории папства. "Умопомрачительное преступление" - тегда несколько обветшавшая, хотя преступление может' быть новым. Папство со своей тысячелетней историей переплетено со всеми главными моментами всемирной истории - будь то материальное, духовное, либо военное поприще. Папские празднества слишком
дорого обходились миллионам, чтобы об этом умалчивать. Поэтому лвди слагали историю борьбы и мышления ценой собственной крови, разоблачая посланников тьмы, сопротивляясь инквизиции, которая своей разрушительной, карающей силой превосходило светскую власть.
На одной из карикатур изображен Господь с поднятой карающей дланью, который говорит Петру: "Я свергну Рим, как Содом!" "Затруднишься, Боже!" - отвечает апостол, - Рим не то что Ты, но даже папы не смогли повергнуть*"„ К сожалению, это история, а не сказка. Весьма ущербный "образ божий" от осознания собственного ничтожества использует власть, как компенсирующее средство. Словно выражая этим протест и возвращая на землю потерянный рай, однако рай этот тень от тени, причем перевернутой, или может рай -этот создан по своему представлению? Ведь уже прошло слишком много времени, чтобы точно помнить ту гармонию в этом искаженном воображении! Когда-то жертвой обольщения выбрана некрофильная профессия, отнимающая у народа радость бытия. Куда исчез божественный дух, с которым человечество получило огромный заряд добра и любви я которое опять должно возвратиться к своей первопричине, как искра к пламени!
В творчестве любого писателя можно выделить такой слой художественных образов, который лежит в основе его художественного мира и представляет собой тот стимул для вдохновения, с чего и начинается течение самобытной творческой мысли.
Истинный творец является собственником того художественного образа, который содержит в себе глубочайшую тайну и Еедичайшую правду жизни. Метафорической идее придается решающее значение для эстетики художественного произведения.
Метафора палача и жертвы в романе Константина Гамсахурдиа "Десница великого мастера" еще один раз подтверждает, что в сей подлунном мире нет ничего нового; оппозиция большего и меньшего всегда было и будет; каждый человек использует ту власть, которой облачен, все равно, какая эта иласть - неизмеримо большая или не- • значительная, в обеих случаях она - оружие в руках обладающего ею, направленное на угнетение более меньшего, чем сам он. Велика власть царя Георгия, хотя и у него есть оппозиция в лице царицы Марин, католикоса Мелхиседека и Фаромана Перса. Каждый из них своими вразумлениями выполняет роль некоего палача по отношению к царю. Мантия властителя не так уж легка и прекрасна для ношения, как это кажется внешнему взору. Царь тоже, подобно простым смертным, страдает от любви, так как наего чувство Шорена не отвечает. Социально-политическое положение является тем палачом, из-за которого его сердечному огню никогда не суждено угаснуть. Надменный царь не смог простить своему сопернику в любви - зодчему - завоевание сердца Шорены и то, что тот посмел стать.равным царю; поэтому разгневанный царь приказал отрубить десницу тому, "кто недобре воздвиг" храм Светицховели. Он воспользовался своей., властью и стал палачом для творца преславного памятника, хотя для самого царя явилась еще большим палачом беспомощная на первый взгляд и нежная женщина; в сердечных делах царю не помогла и его великая власть.
Мелхиседек сдерживает и ограничивает власть царя, царь своих подданных; Фарсман Перс своим таинственным волхвованием во всем - для всех.преграда; самому Фарсману Персу царские воины вынесли жестокий приговор за то, что тот не захотел раскрыть тайну закалгэания сабель и булатов, - они не смогли заставить его вы-
- 28 -.
молвить хотя бы слово даже выдернув ему ногти, и так среди мучений умертвили некогда могущественного и влиятельного старца.
В мире все подчиняется более сильному, великому, облаченному властью, непознаваемому. Меньший подчиняется большему, слабый отдается сильному, бесправный покоряется властеимущему, а перед непознаваемым отступает все, так как оно рождает страх, а страх -самый великий, самый могущественный властелин и управляющий человеческой волей»
Отношения человека к внешнему миру многообразны. Однако это многообразие все же вмещается в одни определенные рамки - во взаимоотношения палача и жертвы, несмотря на то, какой статус имеет человек в обществе. История во всем своем проявлении непреложно подтверждает нам то, что палач одновременно являет себя и в концепции жертвы, или наоборот, - их единство противостоящих является признаком порядка и гармонии в мире.
В романе К.Гамсахурдиа "Похищение Луны" о необыкновенной эпической ясностью выражена великая правда нового времени.
Tapan Эмхвари я Арзакан Звамбия - это два мира, два весьма колоритных типа времен тридцатых годов; это две различные точки зрения, разные подходы к тем эпохальным сотрясениям, которые с ревом парадов н беспощадным рушением патриархального быта пробивали путь новой Грузии. В жизненном конфликте двух этих личностей, в йх скрытой или явной схватке остро ощущается пульс времени. Тараш Эмхвари последний представитель феодальной Грузия. Он прекрасно понимает, что время уже вынесло приговор его сословию; иногда он даже думает, что терпеливо взвалил бы на себя ярмо новой эпохи, если бы его чистосердечию поверили. Решив одним махом руки стряхнуть с себя темное одеяние классовой гордости и noce-
литься в отдаленной горной Сванетии, независящие от него причины и в этом помешает ему, и вновь он - надменный представитель рода Эмхвари - разочаруется в жизни, в истинной любви. Хотя он практичный человек и бесплодному скитанию в мире грез предпочитает заниматься делом. Он представляет в университет диссертационный труд, но и здесь его ожидает разочарование - в университете его диссертацию не одобряют. Несмотря на пережитые разочарования, оа все же верит в верность любви и именно до зову этой любви бросает скакуна в бушующую Энгура, и в, неравной борьбе со стихией, желая увидеться с любимой, погибает.
Сложнейшие конфликты его эпохи ясно показаны в романе в последовательном раскрытии тех противоречий, которые возникли межцу отцом и сыном - вцепившегося в старый строй и древние обычаи Кац Звамбаия.и молодым коммунистом Арзаканом Звамбаия.
Новая революционная Грузия Еыяесла приговор тем лвдям, сделав их лилнями, чьи сословные и интеллектуальные преимущества совсем недавно для всех были очевидны,.
Вставшее на дабы красное чудовище взвалило на себя миссию физического и морального палача, а все остальные люди, несмотря на то, слились они с ритмом новой жизни шш нет, все равно стал* жертвами нового веяния.
В романе К.Гамсахурдиа "Цветение лозы" переданы все те трудности грузинской деревни в предвоенное и послевоенное время, которые возникали в жизни деревенских трудящихся в эпоху победившей коллективизации.
По почину Вахтанга Коринтели и Годердзия Эланидзе на дикой земле, е селе Бермуха, было начато возрождение грузинской дозы, что является фактом обобщающего значения и подчеркивает правму-
щества колхозного труда.
Бермуха - это сама Грузия в уменьшенном масштабе. Все радости а боли этой деревня, большинство хозяйственно-социальных и морально-этических проблем представляет собой чрезвычайно острую проблематику грузинской деревни тех времен.
Каждый поворот в истории имеет свой неповторимый оттенок и оригинальную общественную психологию. Остались позади годы сомнений „ выяснения позиции, создания первых коммун и уничтожения кулачества; победоносному шествию социализма в Грузии светит всеоб!г-емлющий зеленый свет, однако время принесло с собой и новые заботы. Одна часть лвдей, отягченных пережитками прошлого и отказавшихся от открытой борьбы против нового строя, занимается лишь стяжательством, накоплением имущества. В традиционной схватке добра и зла некоторые из них погибают, другие, тяжело травмированные, опускаются на землю, хотя все еще слышны стоны несокрушимого духа грузинского человека: "Вновь возродятся в Алгети волчьи щенки!.."
Новое время принесло новые трудности. Оно, подобно палачу, беспощадно уничтожает все старое, а блаженные иллюзии о возвращении к прошлому приносятся ему в жертву..
В романе К.Гамсахурдиа "Давид Агыашенебели" последовательно передана бурная жизнь и деятельность этого великого государя, начиная с того дня, когда он, еще совсем юный царевич, в первый раз надел доспехи, чтобы помочь своему отцу, и кончая тем днем, когда он справил последнюю битву со смертью. Под царской тогой у Давида Строителя бьется пылающее любовью к жизни сердце; его жизненная трагедия, помимо тяжелого положения страны, вызвана и тем, что царские митра и скипетр иногда становятся невыносимо тяжелыми, и тогда его безмерная, ничем не ограниченная власть превращается в
оковы. Все величие образа Давида Строителя состоит в том» что это гимн борьбе за внутреннюю свободу человека, и именно этим становится автор "Песни покаяния" нашим современником.
Дизнь Давида Строителя очень схожа с жизнью библейского царя Давада, ибо и он, подобно псалмопевцу, отдал за единство своего царства - Грузии - великую жертву, а также воспел новый псалом -"Песнь покаяния" из-за тех "грехов", которые он совершил опять зв во благо Грузии.
Метафора палача и жертвы - особая форма самовыражения и самобытности народа; в ней отражается вера в неразделимое единство человека и вселенной, поскольку она осмыслена как основа поэтического восприятия мира. .
Глава четвертая. В мире каждый человек, каждый предмет и каждое явление имеют свой собственный архетип в виде поэтического образа, на основании которого они получают жизненную функцию. Метафора палача и жертвы своей сущностью отображает художественную модель мира. В ней специфическая национальная и индивидуальная способность проявляется посредством взаимосвязывания различных структур.
Модель единства противостоящих представляет собой систему эволюции и накопленного в ней опыта, систему, которая отражена в художественно трансформированных образах. Тексты представляют для указанной метафоры ценную ориентированную художественную информацию, которая несет в себе выраженную в языке внутреннюю ак-
г
тиеность к существующей реальности.
Для модели единства противостоящих произведение является особо организованной художественной целостностью, в которой по- _ средством эмоциональных я мысленных структур художественных об-
разов проявляется глубочайший механизм его действия - выработать значения,как особенные реальности» Мир, со своим'непрекращахщимся течением, призван бесконечно создавать оригинальные образы и продлевать их жизненный процесс.
Поэтические образы палача и жертвы - продукт влияния социальной среда. Каждое живое существо имеет не только собственные внешние особенности, но и неповторимый характер, темперамент, интеллект и свойственное только ему поведение. На протяжении тысячелетий было создано столь много вариантов человеческих конституций и характеров, что невозможно встретить двух схожих здоровых человека. В таком процессе неотвратимо происходит одностороннее накопление каких-то личностных особенностей и типов поведения. Воспитание, семейные взаимоотношения и многие другие факторы обуславливают то, проявятся или исчезнут некоторые патологические свойства, существующие в конституции человека. Поскольку человек - прочное звено в социальных отношениях, то он постоянно думает о своем месте в жизни. У жизни же свои строгие законы, которые воздействуют на нас независимо от нашей воли и наших желаний. Человек то одолевает создавшиеся проблемы, а то подпадает под их влияние, из-за чего постоянно находится в недостаточно мотивированной оппозиции ко внешнему мару. В соответствии с этим Кречмер описал три типа человека: излишне чувствительные (сенситный тип), чрезвычайно активные, упрямые, склонные к ценным идеям (экспансивный тип) и пассивные, ленивые, бездеятельные люди, более созерцающие, чем трудолюбивые (ослабленный, сонный тип). По этой классификации человек и проявляет себя в концепции палача в жертвы, хотя главным все-таки является социально-психологическая среда. -
Очередное появление романа "Хизан Дхако", вынесение его аа суд общественности и становление предметом исследования было предчувствием приближения историко-политического и национального кризиса. В произведении высвечивается психология уставшей жизни, где конец, помимо социальных условий, исходит и от самих лвдей а * не только из фатальной неизбежности, хотя не исключен момент биологического вырождения. У Теймураза не хватает сил бороться с этой жизнью. Он устал в ожидании лучшего завтра. Для него действие лишь средство убежать от самого себя. Несмотря на всю свою образованность, он не чувствует неизбежности момента деградации класса, к которому принадлежит.
Для раскрытия психологии персонажей наиболее оправдано использование полной пережиганиями речи, как самого радикального средства психологического обнажения. Хотя символика персонажей в данном случае более говорит о многом.
Женщина - страна, Марго - Грузия, или жертва социальной обстановки, продукт которой Теймураз - муж, хозяин, без наследства, несостоявшийся и неосуществившийся отец Грузии, В свое очередь, и он жертва Дкако, как символа социальной, моральной и физической агрессии. Дкако - насильник, как недоразвитый одушевленный аппарат никогда не сможет утвердиться в своем ничтожестве. Он не обладает теш духовными щупальцами, которые бы помогли воспринять окружающий его мир и происходящие в нем процессы, которые бы дали ему почувствовать собственную беспомощность и ничтожность. Джако животное, с'такими же животными инстинктами обладает женщиной, духовный мир которой для него сияние, к примеру, воспринимаемое вошью на лысине.
Автор не смог посмотреть на развитие в романе события о над-
- 34 - .
временной позиция, оставив героев в реальном плане. Сделай он иначе, насильник Дкако превратился бы в беспомощную жертву, и грозное "я" и тиранская спесь палача-временщика рассыпалась бы как песочный замок.
"Любовь" Марго воспринимается как ошибка, посредством которой она стала жертвой агрессии. Сбившись с пути, она попалась в капкан противника я взяла на себя "обязательство", в результате чего обязана выплачивать агрессору иллюзорный долг. Подобная форма общения подразумевает скрытую агрессию. Осознание причини формирует определенное поведение Марго в отношении случившегося.Оно, как результат, представляет ее реакцию и оценку - к чему относится ее действие - к преступлению или ошибке?! Марго осознает вину только после "наказания". Преступление, которое запланировано волею судьбы, уже не преступление, а ошибка, персонаж в данном случае - жертва, медиум в акте проявления воли судьбы. Судьба же, как неизбежная воля непостижимой закономерности, господствует над людьми и событиями. И Марго покоряется судьбе, непостижимой воле анонимной силы, которая сильнее ее, что означает отрицание собственной функции или отказ от борьбы. Марго забыла: "Что всегда найдется с кем лечь, главное о кем проснешься" и она, новая жертва новой жизни, просыпается на рассвете на плече Джако, просыпается как на жертвеннике. И эта картина, ошибка то ли природы, то ли истории, стала началом той другой жертвы, именуемой Теймуразом, я которому вынесли приговор - бесконечное ожидание -эти два палача. Их иллюзорная власть не смягчает жестокости борьбы, начавшейся между ними. Эта психологическая война обречена заранее, победитель уже побежден, побежденный же с нравственной точки зрения - победитель.
. . . ' - 35 - '■■.'■'■''■■'■
Их трагедия явление закономерное, хотя герои в отдельности
выпадают из пульса жизни и только время сможет расставить все по своим местам.
Во внутренних структурах человеческой психики всегда есть я палач и жертва. В соответствии с культурными и духовными требо- ' ваниями определенных эпох происходит активизация и углубление, значения какого-либо из них.
Роман Михаила ДжавахишвилИ' - "Гиви Шадури" рисует нам последствия великих общественных потрясений и опустившихся "на дао" представителей бывших господствующих классов. Одним из них и является Гиви Шадури, назвавший причиной своей гибели следователя Аптаридзе, который злоупотребил служебным положением и с цель» овладения супругой Гиви Шадури упрятал его в тюрьму, убрав таким образом со своего пути препятствие. Самого Аптаридзе наказала Советская власть, узнав об его преступлении; к тому же Аптаридзе -пережиток прошлой жизни, прокравшийся в советский аппарат негодяй и поэтому он не может быть признан выразителем новой жизни. Однако он использовал свое служебное положение и стал палачом для совершенно неповинных лвдей, принося в жертву себелх достоинство и социальное положение.
А Гиви Шадури, с рушением старой жизни, потерял все, у него не осталось и социальной функции, так что он превратился в лай* него человека. Социальный быт сделал из него жертву» йШравдему классу которой уже никогда не суждено встать на прочные позиция. Все, кто с оружием в руках борется с революцией и препятствует развитию революционного процесса (генерал Тваладзе, Караман Джя-кураули, Сехния Лачишвили, а также и подлец Аптаридзе), - вое , они погибают. Часть же опустившихся на самое дно лвдей о стают с* .
- 36 -.
в живых, так как они не представляют собой никакой опасности для новой жизни (Гиви Шздури, Петра, Марадо), а те, кто лоялен к новому обществу и занимается полезным трудом, они и жиеут достойно (брат Петра - Даввд).
Рушение старого общества и коренные сдвиги в жизни стали палачом для этого, ранее привилегированного слоя, - палачом, который совершенно не церемонясь с его отпрысками отсек им головы на заре новой жизни.
В другом романе - "Ноша женщины" писатель поставил перед собой задачу выявить роль женщины - ее тяжелую ношу в трудном деле революции. Героинями романа являются две женщины - Кето и Марфа. Первая из них примкнула к революции от аристократической среды, но не смогла до конца следовать ей - не снесла тяжелую ношу.сгор-бояась под ней, пала и погибла. Вторая же - Марфе - вышла из среды трудящихся простых людей; революция возложила на нее трудную обязанность, однако она безропотно и мужественно, с терпением переносит все невзгоды, - до конца остается твердой духом и непоколебимой, Марфа стала супругой осужденного на каторгу большевика Зураба Гургенидзе и отправилась вслед за ним в ссылку. Женщины несли огромную ношу в революции так же, как и вообще весь рабочий класс. А угнетающим палачом для женщины - этого вечно слабого н, на первый взгляд, беспомощного существа, - стала вся та же социальная среда, вынудив ее,- свою социальную жертву, - вместе с сильным полом нести тяжелейшую ношу.
В другом романе М.Джавахишвили "Квачи Квачантирадзе" изображены политические и социальные ураганы, коренные сдвиги в России и Грузии первой четверти XX века, - сдвиги, под своеобразном углом показавшие нам корыстных ладей, с умыслом примкнувших к вели-
.. . - 37 -
ким явлениям, тех, благоприятные условия для рождения которых создавал буржуазный строй, господствовавший в Россия после Февральской революции. Тогда царил полный хаос, взаимоотношения людей определялись другими критериями: деньгами и властью, Доотат точно было одному из них споткнуться, как все отворачивались от него. В этом обществе главная ценность - это деньги, а человек не стоит и гроша. И эта каста додей погибает вместе;со старым строем. Новая жизнь вынесла приговор этим лодям - временщикам и принесла каждого из них в жертву себе на пути своего становления. Общество формирует разные тцпы лвдей, - одних ожесточает, делает злыми, других благорасполагает к существующей действительности; и в соответствии с этим лвди предстают пред нами художественным воплощением образа палача И жертвы; их взаимоотношения развиваются именно в этом направлении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ I. Метафора является формой художественного мышления, основной категорией системы художественных образов.. Метафора палача я жертвы - это один конкретней образ, охазавэдйея весьма ёмким для раскрытия как собственно художественных проблем, так и сущности общественной истории. Метафора палача и жертвы, как форма восприятия многогранного мира и обобщенного художественного осмысления, изображает ту идейно-эмоциональную модель, которая уточняет значение взаимоотношений между образом а миром. Углубление в эту проблему помогает человеку осознать свою роль и функции в социальных отношениях. Специфика социальных моделей и структур обострила интерес к изучаемому вопросу и сделала его актуальным как в историческом, так и философском плане.
" - 38 -
20 Представление исторического фона палача и жертвы естественно ставит вопрос о выделении архетипа посредством противопоставления типичных образов. Исследование художественного произведения о точки зрения метафоры палача и жертвы - это оригинальный ракурс видения о и в этом аспекте масштабный взгляд на литературу дает серьезные результаты, расширяя аспекты восприятия, понимания и осмысления произведения и освещая его стилевую систему и метафорическую природу художественного образа - одна из главнейших проблем эстетики под новым углом. В то же время оно расширяет социально-политическое и культурологическое самосознание общества.
3. Единство палача и жертвы является мистическим единством жизни и смерти; оно - признак порядка вселенной, и охватывает весь спектр отношений с нравственными, историческими, социальными в культурными сферам. В точках пересечения эпох художестЕенно-функциональный образ палача и жертвы представляет собой одну из сильнейших структур стимулирования развития истории.
В метафоре палача и жертвы, как в модели единства противо-# стоящих, отражается отношение мирового сознания ко вселенной,куда каждый человек приходит для познания и реализации своего назначения. В этих художественных обрезах устанавливаются те общемировоззренческие элементы, которые самобытны и индивидуальны в каждой отдельной культуре. Художественный образ содержит в себе неисчерпаемый аспект делания, раскрытия и понимания. л.Ортега и Гассети считают, что "весь мир покоится на крошечном теле мета-форм".
4. Посредством метафоры палача и жертвы, как "модели понимания" национального, устанавливаются национальные форму ощущения, раскрытия и принятия мира.
Нашу работу направлял научный интересфстановления тех соответствий, которые существуют между представленным феноменом палача и жертЕы, с одной стороны, и интерпретированной художественным мышлением этой формой, с другой. Всесторонним анализом в труде сущности метафоры палача и жертвы определено место модели"единст- ' ва противостоящих, как возможного метода подхода к вопросу, в деле изображения, развития и исследования исторических и художественных процессов, в частности же - в грузинской прозе XX века, В исследовании выявлены библейские источники, исторический фон и установлены взаимоотношения художественных образов палача и жертвы. При исследовании вопроса главным было отнести модель единства противостоящих, как новое видение мира, к эстетическим ценностям. В представленном труде именно под этим углом выявлены особенное-' ти художественного мышления каждого творца.
Модель единства противостоящих в литературных произведениях осмыслена как основа художественного восприятия мира. В ней отражена вера в неразделимое единство человека с окружающим миром, ибо каждый человек, предмет или явление во вселенной имеют свой собственный символический образ и свое значение, на основе чего они приобретают жизненные функции. Поэтические образы палача в жертвы предстают пред нами в виде символической энергии я заслуживают особого внимания, так как в них подразумевается вся ответственность за тот исторически-культурный и идеологически-политический контекст, который рождает их. В метафоре палача я жертва посредством связывания различных структур проявляются специфические, национальные и индивидуальные способности мышления. Возможными интерпретациями она служит логичности взаимоотношений противостоящих.
. - 40 -
Модель единства противостоящих представляет собой систему эволюции и накопленного в ней опыта, которая изображена в художественно трансформированных образах. Дня указанной метафоры тексты
являются ценностью ориентированной художественной информацией; • ^
они отражает внутреннюю активность, выявленную в языке, к существующей реальности. Взаимоотношения палача и жертвы, движущие их импульсы - это борьба двух извечных начал.
В каждом обществе существует момент соотносительности и противостояния палача и жертвы. Художественная модель палача и жертвы - это психологически-социальная модель, движущие комплексы которой наслоены в социальное и психической сферах. На основании этого каздш поэтическим образом вкладывается весь его жизненный смысл в усилие приобрести и сохранить возложенную на него судьбой функцию*
Поскольку какова воля судьбы, а палач я жертва слепо следуют этой воле, то и субстанциональная сущность реальности, переходя из квалитета в квалитет, проходят множество ступеней трансформации.
Общефилософская сущность художественных образов палача и жертвы наполняет ваше сознание и представление о предметах и явлениях новыми значениями. Метафора палача и жертвы является тем условием исторического развития, в котором органически слиты законы развития бытия и сознания. В метафорическом пространстве палача и жертвы осмысляется противоречие между историей и человеком, между различными культурными системами, между субъектом и культурой.
Взаимоотношения людей в мире - это непреодолимые оппозиции палача и жертвы, из которых первый убивает, а второй умирает. .
Подобная поляризация говорит о неразрешимом противоречии двух движущих сад мира - добра [ зла, повиновения и насилия, я указывает на самые радикальные нравственные императивы.
5. Метафора палача и жертвы один из исходных пунктов для выяснения человеческих взаимоотношений. Б отношениях оппозиционных ' друг к другу членов вселенной отражается зависимость сознания от закономерностей и странностей мира, его проблемы и особенности в процессе познания и осмысления окружающего мира. 6 противостоянии оппозиций выражена уникальная способность национального сознания и того, как размежевать художественные образы, и того, как и делать их целостными. Оппозиция являются глобальными парадигмами сознания человека. В мировоззренческой художественной системе . представлен широкий спектр оппозиционных структур, как утвердившиеся метафоры вселенной: смерть и жизнь, палач и смерть, добро я зло, свобода и рабство,, прошедшее и настоящее и т.д. Многообразие художественно-оппозиционных образов представляет собой основу для сравнительного изучения ареала их деятельности, который, умещаясь в ргмки одной и той же структуры, бесконечно варьирует в "возможностях выбора« и в игре неиссякаемых комбинаций, или в многообразии индивидуальных стилей культур и эпох.
Логически-философская или конкретная сущность художественных образов палача я жертвы формировалась я развивалась благодаря многогранной бытовой и уникальной среде. Метафора палача и жертвы - это ответ на виртуальную жизнь, созданную воображением в символических системах. Именно желание установления общих принципов этого психологически-эстетического символа обусловило нав научный интерес к исследованию феномена палача и жертвы, как одной из главнейших форы правления человечества и глобального символш .
вселеннойс что исключает застывшую доту и подразумевает эволюцию. "Различие между оппозиционными образами выражается не в монополии какой-либо одной функции, а в их разной иерархии", - пишет Якобсон. Метафора палача и жертва является подсознательной психологической опорой модели единства противостоящих; она соответствует миру, в котором вое - часть вечно движущейся и единой системы. Метафора палача в жертвы находит себе опору во всех эпохах.
Всем своим опытом история достоверно подтверждает нам, что палач являет себя одновременно я в концепции жертвы, или - наоборот. Их единство противостоящих - признак порядка и гармонии вселенной. Прав был создатель теории относительности Альберт Эйнштейн, когда в деле созерцания в осмысления явлений приоритетом считал точку отсчета.
6. Материал„ увиденный и оцененный в ракурсе метафоры палача и жертва выявляет новые грани, новыми значениями пополняет те знания и представления, которые имел читатель к исследуемому предмету. В труде комплексно в систематично была исследована и вос-прията, как одно целое, метафора палача и жертвы, ее значение в синхронных в двахронных аспектах течения времени. Труд такого масштабного характера по этой проблеме выполвен впервые.
7. На основания изучения сочинений грузинских писателей раскрыта роль в значение модели единства противостоящих в истории литературы, а в частности - в грузинской литературе. Оказалось, что указанные метафорические образы являются первейшим выражением форма существования человечества, из-за чего стал необходим пересмотр некоторых взглядов, бытующих в научной литературе.
В труде впервые использована символическая природа художественных образов палача в жертва для лучшего осознания проблемы и
":. г .43 - , . -
понимания ее философско-психологической сущности. Поставлена и теоретически обоснована необходимость интерпретационного подхода к вопросу в рамках литературоведческого анализа текстов. Указанная метафоре изучена как художественно-эстетический феномен; установлены ее мировоззренческие и культурные основы, ориентащш; показана функция упомянутых художественных образов в текстуальной и исторически-бытовой ткани, а также в формирований значений.
В труде исследованы специфичность модели единства противостоящих и средства для изучения этой проблемы от хаотичного аморфизма до конкретных находок, с учетом последовательной смены шс значений на глубинных и поверхностных уровнях. Изучены выразительные аспекты метафоры, их функции и средства эстетического воздействия. Особенности этой проблемы, как исключительно выразительного образа, рассмотрены в связи с актами познания и понимания; показаны общие основы сознания и культуры в процессе символизации. . . ■
Метафора палача и жертвы представляет собой, такой подход отношения писателя к действительности, когда поэтические обрааы оо всей силой работают над совершенством задуманного и над многозна-чиыостью их функции. А указанная модель и процесс ее реализации является систематическим принципом, обусловленным мировоззренчески и трансформированным в художественной ткани.
Метафора палача и жертвы подчинена неосознанной логике символического мышления, которая определяет весь психо-лингвистиче-ский процесс взаимного согласования этих художественных образов. Поэтические образы палача и жертвы носят в себе информацию ой ареале национально-культурного сознания и направлены на восстановление и расширение их значений, опираясь при атом ва опрел»-
денные модели поведений и действий. Эти модели является теми функ-цшш, которые были возложены на них в изучаемом контексте.
8. Б труде раскрыт вопрос реализации метафоры палача и жерт-вк как на отдельных ступенях всеобщего хода истории, так и в развитии грузинской литературы и определено ах назначение в литературе» Результаты исследования значимы не только для истории грузинской литературы, но и„ собстзенно0 для интересующихся этой проблемой лице для которых сущность этих понятий является философией самого существования.
Научная литература,, существующая по этой проблеме, учтена и рассмотрена на фоне сопоставления палача и жертвы.
9о Сделанные выводы заслуживают внимания для любых сфер существования общества,, во всех аспектах, и должны быть учтены в дальнейшем в исследования вопросов грузинской литературы.
Основой для художественной модели палача и жертЕЫ служит удовлетворение жизненной человеческой потребности - желание познания, понимания„ что выражается в восстановлении системы ценностей через сохраненных в ней значений» В сущности художественных образов палача и жертвы неосознанно осаждена философия существования человечества, Ояа„ как необычное выражение коьауняяац&в подчиняет бытовой уровень проблемы возвышенной интенции, восстанавливая интенции тех культурных ценностей, которые осознанно ели неосознанно носит в себе поэтический образ.
Во внутренних психических структурах человека всегда таятся и жертва и пзлач. В определенных эпохах, в соответствии с культурными и духовными потребностями, происходит активизация одного из них, углубление его значения.
Метафора палача и жертвы характеризуется с удивительным рас-
слоением значений в функций, богатством ассоциаций; ова неиссякаема своими бытовыми нюансами. Социальная среда способна объединить гетерогенные понятия, в результате чего возникает аффект яа-ивысшей убедительности художественного образа.
Метафора палача и жертвы подвластна некоей бескоаечноотя.ве-определенному количеству объяснений а толкований. Окружаацвй мар в своем наивысшем выражения представляет собой именно такую бесконечность.
10. Создание данного труда имело определенное значение; ом, как идея, сыграло свою роль в объединения междисцшшшновых явлений культуры с учетом их специфичности. Разработанная в представленном исследования актуальная теоретическая проблема - метафоре палача и жертвы стала в последнее время предметом особого интереса для гуманитарных наук- Запада. Новое прочтение а научная оцевка образцов грузинской литературы - как современных, так я классических, - сегодня уже невозможны без учета модели едхнства противостоящих.
' СПИСОК ТРУДОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Метафоре палача в жертвы - основа восприятия маре, "Вестник Академия наук", 1998 г., 157, А 3 (на груз.яз.).
2. Художественный образ - интенция познания, "Мацвэ", 1998г. ЛК 1-4 (ва груз.яа).
3. "Взявшие меч, мечом погибнут...", журн.*Хеловнеб^", 1998 г., » 3-4.. .
4. Логика возможностей взаимоотношений палача в жертвы, "Театре да цховреба", 1998 г., * 2-3.
■ - • ' - 46 - . •
б. Метафоре палача я жертвы по роману М.Джавахнввили "Хизаиы Даако", жури. Шнатоба", 1998 г., » 5-6.
6. "И ныне проклят ты от земля...", кура. "Чорохи",1998 г.,
»4.
7. Метафоре палача к жертвы по роману Гр.Робакидзе "Умерен влвяяы* дух", жури» "Чороя", 1998 г., * 6..
8„ Мя$ологяя - вовне гор«зонты видения значений, «уря."Цяс-кара", 1996 г., Ж 8.
9. Mafrraeoxae структуры к архетюш, журв. "Пярвеля схиви", 1998 г., Л 27.
10. "Это проклятое бытие...", «УР». Трагика", 1998 г., » 7-8„
И. 0 методологии исследования литеретуриой проблемы, "Культура",, 1998 г.,* 3,
12. Бвзэмояконадьяая логика по следам преступления, журя. "Литература да Хеловнеба", 1998 Г., * 8.
13. Смерть а жизнь - палач в жертва. Сборник трудов молодых научных работников Института грузинской литературы ам. Ш.Руставели „ ¿998 г. '
14с "Чтоб не погиб дух воелеааой", "Школа духовности", Москва, 1998 и.