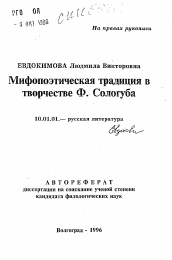автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Мифопоэтическая традиция в творчестве Ф. Сологуба
Полный текст автореферата диссертации по теме "Мифопоэтическая традиция в творчестве Ф. Сологуба"
?Г6 од П:]1[1
3 ОН! да»
На правах рукописи
к..
ЕВДОКИМОВА Людмила Викторовна
Мифопоэтическая традиция в творчестве Ф. Сологуба
10.01.01.— русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Волгоград - 1996
Работа выполнена в Волгоградском государственном педагогическом университете.
Научный руководитель Официальные оппоненты
Ведущая организация
— доктор филологических наук, профессор Д. Н. МЕДРИШ.,
— доктор филологических наук, профессор А. И. СМИРНОВА;
— кандидат филологических наук И. П. ШАЙКИНА.
— Ростовский государственный . университет..
Защита состоится " 26 "сецт^б/т-к 1996 г. в "№ССчасов на заседании диссертационного совета Д 118. 02. 01. при Волгоградском государственном педагогическом университете (400018, Волгоград, пр. Ленина, 27).
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Волгоградского государственного педагогического университета
Автореферат разослан " 2.6 " Р&гцеггиъ 1996 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат фалогических наук, профессор * V в и СУПРУН
Общая характеристика работы
Творческое наследие одной из центральных фигур русского символизма* Ф. Сологуба (1863-1927),--которое является объектом настоящего исследования, вызывает в последнее время повышенный галерее. Начавшийся в 1570-е годы процесс литературоведческого изучения творчества Ф. Сологуба (Е. Б. Тагер, М. И. Дикман, Вл. Орлов, И. П. Смирнов, И. Ю. Симачева, И. А. Жиркова, И. Ю. ГаврикоЕа, М. М. Павлова, Л. Клейман и др.) активизируется, в сферу исследования вовлекаются ранее неизвестные аспекты поэтики писателя. Однако мифопоэтическая традиция в творчестве Ф. Сологуба еще не была предметам специального изучения. Между тем мифологический характер творчества писателя был замечен уже его современниками (Вяч. Ивановым, В. Брюсовым, М. Морозовым).
Оригинальность мифологической темы в творчестве Сологуба, способность писателя обнаруживать в повседневности мифологическую парадигму отмечались и в современном литературоведении такими исследователями, как М. М. Бахтин, Л. Силард, 3. Г. Минц. Назрела необходимость постановки проблемы мифопоэтизма всего творчества Ф. Сологуба. Особое внимание писателя к фольклору, мифу и ритуалу позволяет предположить, что данный аспект исследования поможет продвинуться на пути создания цельной картины поэтики Ф. Сологуба, осознать новые оттенки его творческой индивидуальности, что и определяет актуальность исследования.
Материалом нашего исследования служит творческое наследие Сологуба в целом, включая неопубликованные текста, но прежде всего драматические и прозаические произведения.
Фольклорная поэтика (лексика, образы, сюжеты) представлена в мифопоэтических текстах Ф. Сологуба в значительном объеме, что объясняется большим интересом писателя к фольклору, к исследованиям фольклористов. Обращение к фольклору было характерно для многих символистов, которые стремились познать народную стихию, пытались проникнуть в заповедные тайники народной души. Символистов в фольклоре привлекали также общезначимость символики, своеобразная цельность, синкретизм. Сологуб, однако, отказывался искать з народном творчестве "поучения, идеалов, творимого бога"1. Внимание Сологуба к фольклору было вызвано прежде всего художественным совершенством произведений устного народного творчества, выразительностью ш: языка. Характерно, что народные сказки интерпретировались писателем как образец символизации, а диалектные слова, малоизвестны г массовому читателю и отличающиеся звуковой оригинальностью, использовались Сологубом для создания мистического подтекста его стихотворений ("Ведьма").
1 Сологуб Ф. Искусство наших дней // Он же. Творимая легенда. Кн. 2. М,, 1991. С. 191.
Современное состояние фоль'¿лор а расценивалось писателем как своеобразный барометр народного мировосприятия. Так, появление в середине 20-х годов XX в. жанра новин стало для Сологуба свидетельством того, что изменился лишь внешний строй жизни, но не "строй души".
Теоретические работы Сологуба, его примечания к: художественным произведениям свидетельствуют об интересе писателя к фольклористическим исследованиям. Так, Сологуб был знаком с книгой Н. Крушевского "Заговоры как вид русской народной поэзии", работой С. Шашкова "Шаманство в Сибири", со сводом русских народных песен А. И. Соболевского, со сборником сказок А. Н. Афанасьева, с исследованием Г. Н. Потанина "Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе". Оставшаяся з рукописи студенческая реферативная работа писателя "Сказки животного эпоса и нравстьенно-быто-вые"1 обнаруживает знание Сологубом трудов как мифологической (А. Н. Афанасьев), так и психологической (А. А. Потебня) школ в фольклористике. Данная работа позволяет утверждать, что фольклор-но-мифологкческий контекст сыграл определенную роль в формировании оригинатьного символистского видения Сологуба.
"Мифопорождающее" творчество Сологуба также оказало некото' рое влияние на современную писателю фольклористику. Так, описывая послереволюционные бывальщины о рождении черта в семье ком!>£униста-безбожника, костромской фольклорист В. Смирнов называет эти новые фольклорные тексты "творимой легендой", заимствуя название сологубовского романа2.
Характерной чертой мифопоэтизма Сологуба нами признается ориентация художественной структуры произведений писателя на ритуальные схемы. Обращение Сологуба-символиста к ритуальной-парадигме было закономерно. Семиотизация действительности в художественной системе символизма соотносится с повышенной символичностью ритуальных схем. Кроме того, "ритуальное мышление" (Л. Гинзбург)-явилось важным условием преодоления противоречия между содержанием символа и предметом изображения3.
Для изучения в свете ритуально-мифологической традиции нами были отобраны те произведения, в которых совпадения с деталями, действиями ритуала выходят за рамки отдельных случаев, т. е. речь идет о совпадении с ритуалом как со структурой.
Итак, основная цель исследования обусловлена стремлением определить, в чем заключается своеобразие мифопоэтизма творчества Ф. Сологуба. Для достижения поставленной пели решаются следующие задачи:
1 РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед.хр. 572.
2 Смирнов Вас. Черт родился (творимая л>.генда) // Третий этнографический сборник. Знп. 925. Кострома, 1923. С. 17-20.
5 Богданов В. А. Самокритика символизма (из истории соотношения идеи к образа)// Контекст — 1984: Литературно-теоретические исследования. М., 1986. С. 179.
— определить, какие области фольклора оказались близки Сологубу, каковы особенности использования Сологубом фольклорного материала;
— выяснить своеобразие литературно-фольклорных связей в зависимости от жанра произведения писателя;
л — показать ритуально-мифологический подтекст изображенной Сологубом реальности;
— определить особенности "новой" мифологии Сологуба;
— выявить взаимосвязь между характером использования фолы^-лорио-мифологического (ритуального) материала и эволюцией творчества писателя;
— определить своеобразие "ротуализма" Сологуба путем анализа в историко-литературном контексте инициационного сюжета.
Методология исследования определяется истортсо-типологичес-ким подходом к явлениям словесного искусства. Методы исследования обусловлены разнообразием видов связей творчества Сологуба с фольклором и ритуалом. В работе использованы принципы исследования генетических и типологических связей между фольклором и литературой (Л. И. Емельянов, Д. Н. Медршд, У. Б. Далгат), а также принципы исследования сюжетных архетипов (Е. М. Мелетинский), "неомифологических" текстов (Д. Е. Максимов, 3. Г. Минц). Кроме того, сделана попытка сопоставить художественное произведение со структурой и содержанием обряда через формулу-сюжет на основе семантико-палеонтологического метода (И. Г. Франк-Каменецкий," О. М. Фрейденберг, В. И. Еремина).
Научная новизна предлагаемого исследования определяется тем, что творчество Сологуба не изучалось в ритуально-мифологическом контексте; а также недостаточной изученностью вопроса о фольклористическом генезисе произведений писателей-символистов. Кроме того, в научный обиход вводится неопубликованный материал Сологуба (статьи, черновики, письма), обнаруженный нами в ОР РГБ и в РО ИРЛИ.
Теоретическая значимость исследования определена его проблематикой и заключается в возможности применения полученных данных в изучении особенностей символа, своеобразия "неомифологических" текстов, проблем взаимоотношения литературы с фольклором, мифом и ритуалом, проблем синтеза литературы, философии и религии.
Материалы и результата диссертации могут быть использованы в вузовских курсах, спецкурсах и спецсеминарах по истории русской литературы "серебряного века", теории литературы, то» составляет практическое значение исследования.
Апробация материала. Основные положения диссертации были изложены на итоговых научных конференциях преподавателей Астраханского педагогического института им. С. М. Кирова (Астрахань, 1992, 1993), Всероссийской межвузовской научной конференции "Ли-
тература и фольклорная традиция" (Волгоград, 1993). Работа обсуждалась на заседаниях кафедры ВГПУ.
На защиту выносятся следующие положения:
— поэтика Ф. Сологуба на протяжении всего творческого пути писателя испытывала воздействие самых разнообразных фольклорных жанров (пословицы, поговорки, сказки, баллады, обрядовая поэзия, народный театр), в которых писателя привлекал прежде всего принцип' полифонии (вариативность фольклорных сюжетов, амбивалентность фольклорного образа, относительная шкала ценностей в лирическом и лиро-эпическом жанрах, двойное освещение событий (героико-романтическое и комическое) в народной драме);
— ритуально-мифологическое значение фольклорных текстов активизируется при использовании их Сологубом в качестве источника своих произведений;
— ссылка писателя на конкретный фольклорно-мифологический источник исключительно в драматургических произведениях, являясь агяомета-описанием, подчеркивала эстетические особенности символистской драмы (музыкальное начало, идея Единого, концепция марионетки);
— своеобразие мифопозтизма писателя в произведениях о детях определяется тем, что, как правило, здесь подчеркивается причастность героя-ребенка к архаическому ритуалу, романтически противопоставленному современной действительности;
— концепция "мифотворчества" Сологуба заключается в следующем: "новая" мифология должна не столько реконструировать старый миф, сколько развивал, его и усовершенствовать, преодолевая "случайные черты"; кроме того, в творчестве Сологуба, "новая" мифология представляет собой "синтез" искусства, философии, религии, науки;
— изучение творчества Сологуба в свете трансформации трехчленного мифологического пространства (верх/средний мир/низ) позволяет проследить творческую эволюцию писателя от чдеи тождества люди = черти ("Мелкий бес") до стремления выразить божественную сущность человека в традиционном религиозном контексте ("Заклинательница змей");
— в творчестве Сологуба инициацконный семантический комплекс представлен со всей детальностью и полнотой, что подтверждается сопоставительным анализом с произведениями отечественных и зарубежных авторов XVI — конца XX вв. (Дж.. Страпарола, А. 11ггатонов, Ю. Мамлеев), содержащими древнюю мировоззренческую идею "ни жив ни мертв".
Особая роль ритуальной парадигмы в тчифопоэтических произведениях Ф. Сологуба обусловила отбор материала и структуру работы. Диссертация "Мифопоэтическая традиция в творчестве Ф. Сологуба" состоит из введения, четырех глав, заключения, примечаний, списка использованной литературы и приложения.
Общий объем диссертации составил 240 страниц.
Основное содержание работы
Во введении обосновываются характер и задачи исследования, определяется степень его актуальности и научной новизны.
В пергой главе "Фольклоризм пьес Ф. Сологуба" анализируются пьесы, фолыслсрно-мифологическнй генезис которых подтвержден автокомментарием.
Характерно, что только в драматичссхом жанре Сологуб указывает ■ а предварительных замечаниях источники своих произведений (ср. "Земле земное"); для писателя не существовало принципиальной границы между текстами фольклора и литературы. Изучение особенностей сологубовского автокомментария позволяет дополнить типологию русского модернизма, представленную X. Бараном, отмечавшим зависимость своеобразия фольклоризма Вяч. Иванова, А. Ремизова и В. Хлебникова от наличия/отсутствия авторских комментариев к произведениям, написанным на основе мифа н фольклора1. Обращение Сологуба к фольклору во многом обусловлено символистской концепцией волевого, "жизнетворческого" искусства, образы которого "тогда имеют наиболее действенную силу, когда они в себе самих несут историю своего происхождения"2. Жанром, з котором наиболее полно выразились символистские идеи "хгонестроительства", "соборного" искусства, явилась драма. И комментарии Сологуба исключительно к тем пьесам, которые написаны на переосмыслении мифологических и фольклорных сюжетов, вполне объяснимы стремлением писателя передать своим произведениям "наглядный" волевой импульс, призванный объединить читателей и зрителей в постижении смысла драмы, вырастающего из соотношения авторского текста и его источника.
Знакомый всем сюжет, предопределенность событий в действии сологубогххой драмы актуализировали проблему марионетки, превратив героев в марионеток во всемирной игре Единой воли, проявлением которой была сама драма.
Написанная на основе фольклорного (мифологического) сюжета, пьеса, представляя параллельный традиционному текст, актуализировала музыкальное, лирическое начало символистского драматургического произведения.
"Дух музыки" в пьесе "Дар мудрых пчел" (1906), созданной на основе древнегреческого мифа о Лаодамии, передается с помощью непосредственно "музыкальных" приемов, восходящих к поэтике народной песни, ведущим принципом построения которой является принцип повторяемости (В. И.. Еремина). Так, композиция пьесы ориентирована на прием чоэтического параллелизма неродной песни. Пьеса "Дар мудрых пчел" строится на чередовании сцен из двух древнегреческих мифов - этнологического мифа о богине Персефоне,
: Бсран X. К. Позпжа русской янтгргтуры начала XX секз. М., 1993. С. 191—210.
3 Сологуб Ф. Искусство каптих дней. С. 210.
соотносимого с картиной природы в народной песне, и мифа о Лаодамки, эквивалентного "человеческой" картине песни. Кдк и в народной песне, инициальные сцены создают эмоциональное вступление, настроение которого проецируется на "человеческие" сцены, усиливая их эмоциональную и поэтическую выразительность. Подобно тому как о народной песне "человеческая" картина как основная содержательно детерминирует "природную" параллель, в пьесе Сологуба основной частью являются сцены о Лаодамии, т. е. "человеческая" часть, что подтверждается и творческой историей произведения. Сологуб "подыскал" к мифу о Лаодамии, известному писателю, по статье Ф. Зелинского "Античная Ленора" и пьесе И. Акненского "Лаодамия", соответствующий "природный" миф, где идея преодоление границы между жизнью и смертью выражена в более широком контексте.
Литературоведы, анализировавшие пьесу "Дар мудрых пчел", отмечали, что в этом произведении ведущей является лейггема о невозможности полного воплощения в реальной жизни любой цели, любой мечты (И. Дукор, Б. С. Бугров и др.), однако символизация в пьесе "радости, растворенной в печали", не связывалась исследователями творчества Сологуба с фольклорной традицией. Между тем эта важная для концептуального содержания пьесы идея находит выражение благодаря перекличкам как с поэтикой величальных песен, так и с поэтикой тричитаний. Разведенные в фольклоре по различным жанрам восхваление и оплакивание сюпсзкруклся в сологубовской поэтике на символистском уровне, утверждая "тождество совершенных противоположностей"'. Итак, Сологуб обращается в своей пьесе к таким жанрам народной песни и поэтическим приемам, которые имеют ритуально-мифологические истоки. Структурные элементы обрядов, призванных соответствовать регулярно возобновляющимся ситуациям бьггия, обрядовые жанры (величания, причитания), основной принцип построения народной песни (принцип повторяемости) фокусируют в пьесе "Дар мудрых пчел" ведущую семантическую составляющую - идею повтора, благодаря которой лирическое (музыкальное) начало проявляется в пьесс на разных уровнях (композиционном, образном, стилистическом) и выражает как психологическое состояние героев, так и важную для старших символистов идею "вечного возвращеншГ(Ницше).
Проблема взаимодействия мира смерти и мира жизни, человеческой и божественной областей мироздания решается у Сологуба не символистским "прозрением" в "иные" миры, а ее перенесением в литературную плоскость - через "созвучие" двух традиций, символизирующих для Сологуба-символиста область человеческого и область божественного: это народная песня, которая приложима к чувсгвам каждого человека, и древнегреческий миф о богах подземного царства
1 Сологуб Ф. Искусство наших дней. С. 207.
Преодоление хтонических сил в пьесе возможно, таким образом, а priori - как следствие существования универсальных символических образов, которые совмешают в себе как сакральное, так и профан и ос и которые равнозначны для символиста "образам реальности". Многие образы пьесы фокусируют обе традиции, и тякоя поэтическая организация текста служит средством постижения Единого. Точкой пересечения семантических полей народной поэзии и древнегреческого мифа являются в пьесе образы пчелы, реки, огня. Фольклорные и мифологические ассоциации-формируют и полисемантизм символа сердца, который является центральным в пьесе "Дар мудрых пчел". Так, изображение психологического состояния героев пьесы через образ сердца отсылает к поэтике народных песен, в которых передаются тоска, горе, невыносимые страдания. Данный художественный приём народной песни восходит к древнейшим мифологическим представлениям о сердце как об основе человеческого существа. В пьесе Сологуба актуализация этимологического смысла обогащает символ сердца новыми смысловыми оттенками.
Выбор писателем символа сердца в качестве цетрального обусловлен событиями важного _для концептуального содержания пьесы древнегреческого мифа о Дионисе, который "был возрожден Зевсом из сердца, спасенного от растерзавших Диониса титанов. Через ассоциации с этим мифом символ сердца в пьесе "Дар мудрых пчел" приобретает значение истока всего сущего, неизменного ядра вечного мифологического круговорота "рождение - смерть - рождение" и глубоко мотивирует дионисические службы Лаодамии, которая пытается воскресить любящим сердцем Протеснлая как нового Загрея-Диониса.
Дальнейшее "мифопоэтическое" углубление символа сердца позволяет Сологубу объединить общей сущностью не только людей и богов, но также человека как микрокосм и все мироздание. Сологубом устанавливается символическая общность между законами человеческого сердца и законами мироздания. При этом символ сердца в пьесе осложняется, как и в народной лирике, параллелью "огонь - любовь". Семантика лиричесхого огня любви как поистине живительного, творческого чувства косвенно подкрепляется в пьесе через образ Прометея. Символическая связь "пламенного" сердечного чувства с живой жизнью обусловила и поэтическую космогонию в пьесе: космос возник тогда, когда в "холодном" сердце Хаоса появилась любовь (Афродита-Мойра). Сологуб углубляет народный лирический символ % пылающего сердца, который, обогатившись дополнительными смысловыми оттенками, выражает в пьесе "двигающее начало жизни"1.
Авторское содержание символа сердца не противоречит, таким образом, ритуально-мифологическим смыслам, однако приобретает символистский оттенок. Сердце у Сологуба идентично Лику, который
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. Т. 1. М., 1990. С. 187.
скрыт за внешними оболочками и который обнаруживается благодаря "созвучшо" различных планов бьгтя, изображенных в пьере "Дар мудрых пчел". Усиление символической значимости образа сердца подготавливает кульминацию пьесы - преодоление границы между жизнью и смертью Лаодамией и Протесилаем.
Избранные Соло1убом в качестве источников пьес мифологические и фольклорные сюжеты, к которым неприложима категория авторства и которые являются отражением народного надындивидуального сознания, также выражали мифотворческую идею синтеза Единой боли и творческой воли автора пьесы.
Если в "Балаганчшсе" Блока художественные приемы народного балагана помогли автору выразить идею крушения романтических надежд "нового" искусства, ожидающего "чуда" преображения действительности, то в пьесе Сологуба "Ночные пляски" (1908), написанной на основе одноименной сказки из афанасьевского сборника (№ 298), фольклорное начало, напротив, способствовало реализации идеи символистского искусства как "веселой науки" (Ф. Ницше), "умного веселия народного" (Вяч. Иванов) - искусства, призванного сделать культуру подлинно демократичной, объединяющей в духовной гармонии художника и аудиторию. Сологуб в своей пьесе пытается прийти к своеобразному "синтезу" индивидуального и коллективного искусства: в народной сказке "Ночные пляски" Сологуб увидел основные мифологемы символистского творчества (мифологема Прекрасной Дамы; заимствованная у романтиков мифологема чаши Грааля и , голубого цветка). Особенности сказочного жанра и художественные приемы народного театра позволили писателю "зашифровать" в художественной ткани пьесы эстетические концепции символистов. Символистское "искусство", обнаружив точки соприкосновения с фольклором и мифом, подтвердило таким образом "вечный", вневременный характер основных своих тем.
Сопряжение фольклорных мотивов с основными мифологемами символистского творчества вызывает иронический эффект, который, в отличие от других сологубовских произведений, лишен трагического оттенка.
Ирония в пьесе проявляется в контрасте как основном стилистическом приеме произведения, который ориентируется на поэтику народного театра, а также в том, чго время в пьесе (сказочное, "прошлое", и соьременное) выступает в качестве объекта художественной игры.
С помощью двуплановой сказочной композиции Сологубом дастся в пьесе романтическая интерпретация искусства, творчества как "воспоминания" (Шатан) об "ином". Область "трансцендентного' является, таким образом, частью сознания, творческой фантазией. Волшебная сказка, воспринятая автором пьесы в русле символизма романтической разновидности, поглощается раешной стихией, в результате чего мы наблюдаем стилистическую игру, которая призвана
показать противоположность между неполным, невыраженным земным миром и чистой сущностью, которая при попытке воплотиться в земной реальности утрачивает свою идеальность, становится антино-мичной. Данная проблема находит разрешение, с одной стороны, в амбивалентном характере причастных к творчеству героев-медиаторов (королевны, юный поэт, намалеванный старик), образы которых имеют двойное освещение: возвышенно-поэтическое и комическое, фокусируемое в едином контексте исключительно благодаря ироническому авторскому "я". Это выражается и в целостном авторском стиле пьесы, где сопряжены компоненты различных, друг другу "противопоказанных" стилей (фольклорный и книжный стили, просторечная лексика, термины и лексика символистских трактатов). Подобно тому как в народной драме церемониальный, событийный и лирический стилевые гшасты служат своеобразным "строительным материалом" для пародийного стиля, в пьесе Сологуба характерные для народной драмы стилевые пласты иронически переосмыслены.
С другой стороны, для концептуального содержания пьесы важна идея подвижности эстетической нормы, выражаемая в сказочной развязке драмы: юный поэт выбирает в жены из двенадцати королевен, каждая из которых является носительницей какой-либо эстетической категории, "ту, которая по нраву поэтам наших дней". Изменчивость эстетического идеала проявляется, таким образом, в том, что у каждой эпохи своя Прекрасная Дама, (красивая, или мудрая, или смелая — как однозначно характеризует "фольклорная" пьеса Соло1уба).
В пьесе "Ванька Ключник и паж Жеан" (1909) характерные для "музыкально-лирического" стиля (В. Жирмунский) суггестивные, эмоциональные связи усилены причинно-следственными, логическими: структура сологубовского символа основывается здесь на современных Сологубу научных фольклористических концепциях.
Согласно утверждению 3. Г. Минц, оппозиция первичный/вторичный подвергается разрушению в пьесе: "русская" и "западная" версии сюжета взаимно отражаются друг в друге, выражая идею многоголосого мира Тем не менее данная оппозиция неизбежно присутствует, на наш взгляд, в самом процессе творчества, который в символистской эстетике тождествен "жизнестроительству" и познанию мира Изучение генезиса структуры сологубовского символа в пьесе позволяет высветить характерный для творчества писателя мифопоэгическкй пэ своей сути двусторонний процесс создания символа
Идея сопоставления "западной" и "русской" ("восточной") версий сюжета была заимствована Сологубом из научного исследования Г. Н. Потанина "Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе" (М., 1899). Сопоставление двух версий сюжета и формирует общий смысл драмы "Ванька Ключник и паж Жеак". "Русский" ("восточный") сюжет, написанный на основе фольклорных произведений, как бы "заимствуется" "западным" миром, приобретая "изящный", "куртуазный" облик, который, однако, является лишь варган-
том выражения Единого (ср. "единый источник" сюжетов Потанина), символической сущности текста. ,
Возможность нескольких выводов из сопоставления "грубого" и преображенного красотой миров, свободная авторская оценка в гшесе обусловлены прежде всего потенциями "русской" версии пьесы, написанной на основе текстов первых 47 песен о Ваньке-ключишее из I тома свода народных песен А. И. Соболевского. Будучи в процессе создания пьесы первичным (исходным) вариантом, "русская" версия сюжета функционально ориентирована на фольклорную поэтиху, так как вполне может функционировать самостоятельно и в то же время открыта для последующего наращивания версий.
Сологуба, определившего свой творческий метод ках "бесконечное варьирование тем и мотивов"1, привлекла такая особенность функционирования произведений устного народного творчества, тс их вариативность, а также разработка одной и той же темы разными жанрами фольклора. Сосуществование принципов динамичности и статичности в смысле фольклорного слова (П. П. Червинский) оказалось актуальным для поэтики Сологуба, которая развивалась в русле литературно-филологических исканий своего времени. Искусство 1890—1900-х годов, стремившееся к универсализации, пыталось описать все проявления реальности с помощью немногочисленных ключевых символов. Унифицирующие тенденции характерны для филологической науки XIX — начала XX вв., где делался акцент на постоянстве фольклорного значения слова, которое рассматривалось гсак символ соответствующих мифологических представлений (Н. И. Костомаров, А. А. Потебня, Я. А. Автамонов). Фольклористической текстологии тех лет свойственны попытки свести варианты фольклорного произведения в один универсальный текст (П. В. Киреевский, П. И. Якушкин, П. А. Бессонов). В "русской" версии сологубовской пьесы портрет Ваньки, составленный из цитат двух песен свода Соболевского (№ 24, 25), представляет собой нечто похожее на "филологический аппарат" П. А. Бессонова. И все же своеобразие художественной идеи "русской" версии определяется не стремлением писателя учесть все разночтения вариантов народной песни при построении монологов и диалогов. Сологуб сделал то, от чего отказались все фольклористы: объединил "варианты содержания" (П. И. Якушкин) первых 47 песен I тома свода Соболевского. Обратимость составляющих поэтического мира баллад с близкой тематикой, но различны -. ми жанровыми ориентациями направила творческий Процесс Сологуба в русло поиска "инвариантной" символической сущности текстовой "реальности" баллад. В многообразии-, противоречащих друг другу фольклорных текстов с близкой тематикой Сологуб обнаружил "многоликую и многоголосую Иронию живого слова", которая "открывает неизбежную двойственность всякого познания и всякого деяния"2.
! Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1979. С.27.
1 Сологуб Ф. Демоны поэтов // Он же. Творимая легенда. -Кн 2. С. 162, 165.
В контексте всей пьесы прием отказа от абсолютной ценностной шкалы (Д. Н. Медриш), характерный для народного лирического и лиро-эпнчесхого жанров, прояатяется в свободной авторе кой пози-цки. Общий иронический облих "русской" версии пьесы "Ванька Ключник и паж Жеан" формируется и благодаря погружению трагического начала народной баллады в атмосферу балагана, райка.
Во всех трех пьесах Сологубом используются художественные приемы народного театра (песня как поэтический и эстетический критерий "чужой" жизни, прием контраста, потасовка как конструктивный элемент пьесы, кумулятивный принцип композиции и др.).
Изучение пьес Ф. Сологуба "Дар мудрых пчел", "Ночные пляски", "Ванька ключник и паж Жеан" в фольклорно-мифологическом контексте позволяет проследить тенденцию формирования "реалистического" символа в драматургии писателя. "Реализм" сологубовско-. го символа, призванного выразить символистски непостижимое, приблизиться к познанию Единого, проявляется в том, что "миф о мире" • раскрывается у Сологуба методами анализа художественного произведения, в частности, анализа взаимоотношения двух планов художественной системы пьес Сологуба, один из которых нередко представляет собой изображение "иного" мира, "материализованного" в художественной ткани произведения на основе традиционных образов (древнегреческий Аид, "иное" царство волшебной сказки). В пьесе "Дар мудрых пчел" составляющие оппозиции земной/сакральный нейтрализуют противопоставление, обнаруживая общие и для людей, и для богов универсальные законы мироздания.
В "Ночных плясках" сказочный конфликт земного и "иного" царств выражает актуальную для символистского искусства эстетическую проблему соотношения адеи и образа (символа).
В "Ваньке Ключнике" во взаимоотношениях двух планов произведения (исторически данной земной реальностью и преображенной "творимой легендой" действительностью) усиливается конструктивное, моделирующее начало, и сопоставление "русской" и "западной" версий сюжета допускает не менее трех интерпретаций, своим "многоголосием" призванных приблизить к постижению Единого.
Тенденция создания "реалистического" символа в драматургии Сологуба выразилась и в усилении рационального начала в подхода к фольклорному материалу, который входит в художественную ткань произведений сквозь призму древнегреческого мифа, символистской эстетики, научных фольклористических концепций.
Во второй глазе "Ритуально-мифологический аспект романа Ф. Сологуба "Мелкий бес" исследуется образ Передонова в коннотациях с ритуальным пространством {свой/чухсой).
Согласно театральной концепции Ф. Сологуба, имеющей всеобъемлющее значение для творчества писателя, человеческая жизнь и есть
"всемирная игра", где человек лйшь "дивно устроенная марионетка"1. Бытие каждого человека, по мнению писателя, характеризуется причинно-следственной обусловленностью. Единичное человеческое существование детерминировано повторяющимся опытом прошлых поколений. Между тем ссылка на закон предков является универсальной мотивацией единообразного поведения в архаическом и традиционном обществе, где человек рождается, становится взрослым, женится только в рамках ритуала. С точки зрения Сологуба, и современная жизнь является вечным повторением одних и тех же ритуальных схем. Характерно, что в статье "Театр одной воли" Сологуб, сравнивая умершего человека с отыгравшей свою роль марионеткой, воспроизводит элементы похоронной обрядности.
Использование ритуальных схем при анализе произведений Сологуба обусловлено и тел, что сологубовскяя картина мира с резким разграничением субъективного и объективного ("я" и "не-я") типологически близка пространственной • структуре ртпуала (свой/чужой)*.
Театральными взглядами Сологуба обусловлен синтетический характер романного жанра писателя: драматические принципы активно проявляют себя в художественной структуре романов Сологуба, демонстрируя модернистскую тенденцию к размыванию традиционно замкнутых границ видов и жанров, к обогащению каждого выразительным! средствами других. О колебаниях Сологуба между разными жанровыми формами свидетельствует "биография" его романов. Так, сюжеты и "Мелкого беса" (1902), к "Заклинательницы змей" (1921) имеют как романную форму, так и драматургический вариант.
Изучение образа Передокова в свете ритуально-мифологической традиции позволяет показать уже отмеченный литературоведами (3. Г. Минц, Вик. Ерофеев) противоречивый характер данного образа в универсальном контексте, в свете оппозиции жизнь/смерть (свой/ чужой), обнаруживающей архаическое ядро изучаемого образа ("ни жив ни мертв"). Эта противоречивость задается ухе первыми композиционными элементами романа - заглавием "Мелкий бес", который может интерпретироваться как метонимический символ главного героя, и эпиграфом — первой строкой стихотворения Сологуба "Я сжечь ее хотел, колдунью злую...", где, несмотря на иронический подтекст, все же присутствует идея противоборства "проклятой" силе.
Низший уровень чужого пространства моделируется в романе "Мелкий бес" посредством материализации в художественной ткани произведения метафор-фразеологизмов и паремий о черте. Идея создания сюжета романа на основе паремий и фразеологизмов находилась в контексте общссимвслистских взглядов на символ как на часть древнего мифа, но, возможно, была непосредственно "подсказана"
1 Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр. Книга о новом театре: Сб. ст. СПб., 1908, С. 188.
научной концепцией о мифотворческой природе языка, автор которой А. А. Потебця, "предтеча" символизма, считал, что любое сложное поэпгческсе произведение может быть "свернуто" до пословицы.
К образу главного героя романа в равной степени приложимы как фразеологизмы "связался черт с младенцем", "мелким бесом рассыпаться", "бежит как черт от ладана", "черт с ведьмой венчается", так и "черту баран", что позволяет интерпретировать Передонова не только как источник, но и как жертву зла. Название сологубовского романа, а также особенности поэтики произведения, сюжетсобразую-щими звеньями которого являются "рассыпанные" по страницам "Мелкого беса" фразеологизмы о черте, свидетельствуют о том, что Сологуб ориентировался прежде всего на мелкого беса народных поверий, на черта малых жанров фольклора, соответствуя особенностям народных верований. При этом в "Мелком бесе" наблюдается свойственная мпфопоэтичесхим текстам актуализация этимоло пиескою смысла Идея измельчания, ущербности зла залохсена в глубинном значении слои "черт", восходящем к смысловому полю значений "резать", "обрезать", "отсекать", "корнать"1. Характерно в этой связи название города, в котором развиваются события романа, — Руианск. Однако мелкое, пакостное, ставшее обыденным хто жизни в романе Сологуба не менее гибельно, чем люциферическое зло, и по-своему трагично.
Противоречивость образа Передонова задается ритуальной ситуацией в экспозиции романа: Передонов, как главный герой ритуала, находится в переходном состоянии, ожидая должности инспектора, которая, наконец, соответствовала бы высокому чину статского советника.
Ритуально-мифологический аспект исследования подтверждает обоснованность литературоведческой позиции 3. Гиппиус, единственной из современников Сологуба писавшей о безмерном "несчастье" страдающего Передонога Действительно, лиминальный характер образа подчеркивается и душевным состоянием героя, постоянно испьггьгоающего чувство страха; как бы закодированного в ритуально обусловленной структуре образа Передоновз, который, как герой ритуала, "ни жив, ни мертв": Передонова нельзя отнести ни к мертвым душам гоголевской поэмы, ни к созданным с психологической точностью чеховским образам полнокровного, человека5.
Обрядовые действия героя получают в романе психологическую мотивировку как "вторичный" ритуал невротика, совершаемый с целью обрести внутренний покой. Так, Передонов "чурается" от Рутилова, пытающегося женить героя на одной из своих "сестер.
1 Черных П. Я. Исторнко-этимологический словарь современного русского язык*. Т. II. М., 1993. С. 384.
1 См./ Ерофеев Вик. На грани разрыва. "Мелкий бес" Федора Сологуба и
русский реализм //Он а». В лабиринте прожитых вопросов. М., 1990. С. 92-93.
"Психотерапевтический" результат оберега очевиден: '"На лице его [Передонова] изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. И после этого необходимого действия он почувствовал себя в безопасности от рутиловского наваждения"1.
Важно, что и сам автор "Мелкого беса" интуитивно ощущал гармонизирующее значение ршуала в жизни человека. В "Афоризмах" Сологуба записано: "Обряды спасают от тоски (11 июля 1902 г.)" Между тем эпитет "тоскливый" - один из наиболее употребительных в характеристике Передонова. Косная, пошлая жизнь героя немногим отличается от существования самодовольных чиновников Рубанска, однако посредством ритуальных действий герой проявляет себя как лицо живое, страдающее, которому тоскливо, скучно и страшно в этой отчужденной х;изни и который пытается исправить аггуацшо, избавиться от па, тоски и скуки, причины которых он не осознает.
С получением должности связаны не только социальные амбиции Передонова. От повышения по агужбе (инициация) герой охеидает изменений как в своем эмоциональном мире, так и в окружающем его пространстве. Однако несмотря на постоянно совершаемые героем ритуальные действия, Передонову редко удается избавиться от тревожного состояния: напротив, герой постепенно погружается в бездну безумия.
Ритуальный контекст иотнзирует н упорядочивающую деятельность одержимого "иллюзией большого беспорядка" главного героя романа, который недоволен как малейшими нарушениями субординации на службе, так и "непорядком" в природе: темным вечером, ярким солнцем. Если Саша и Людмила воплощают собой дионисическое, стихийное, хаотическое начало, то Передонов — аполлоннчсское, "культурное", связанное с космическим порядком (если иметь в виду важный подтекст — работу Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки"). Однако упорядочивающая деятельность Передонова загоняет "живую" жизнь в рамки циркуляров, законов, расхожей морали.
В свете нашей концепции получает подтверждение и трактовка "Мелкого беса" Р.В. Ивановым-Разумником, который считал недопустимым видеть в романе Сологуба лишь сатиру на провинциальную жизнь. В "Мелком бесе", по мнению критика, осуждена человеческая жизнь вообще Действительно, можно сказать, что вся жизнь человека, закрепленная в ритуальных формах, уместилась на страницах сологу-бо вс ко го романа.
Поскольку Передонов невротик, то чувственный опыт его выражается символически - через ритуальные действия, которые не только представляют собой простейшие обереги, но и обнаруживают сходство с обрядами жизненного и календарного циклов.
1 Сологуб Ф. Мелкий бес. М., 1991. С. 58-59.
В отличие от С. П. йльева, считавшего, что мечта Передонова об инспекторском месте — это "бунт на коленях" против игры, где все "по правилам", против Рока, мы полагаем, что Передонов также по правилам пытается вступить в ритуальный контакт с Роком (сферой чужого), укилоспшпъ или обезвредить силы Рока.
Сюжет романа дшскется стремлением Передонова обрести в отчужденной от человека жизни свое место (свой дом, своя хозяйка, своя должность), что предусматривает прохождение важных жизненных вех (новоселье, шшциаштя, женитьба), которое в традиционной культуре осуществлялось в рамках жизненного ритуала, плавно переходящего в календарный цикл.
Магический характер пространства романа "Мелкий бес" обусловил актуализацию в романе оппозиции свой/чуохой. Двойственный характер образа Передонова обусловлен также амбивалентной ритуальной ролью героя, который то "траст" человеческую партию в жизненном обряде, то проявляет черты бесовщины, связанной с Шфом мертвых (хаоса). Это обнаруживается л в отношении героя к принципу обрядового перевоплощения, фиксируемому в традиционной культуре словами "рядиться", "наряжаться". Хотя Передонов не /побит наряжаться и видит в "ряженье" друптх попытку прельстить его, тем не менее даже когда герой играет человеческую партию в обряде, и у него маска ряженого ("человечья харя"). Между тем в теоретических статьях Сологуба понятие маски, личины означает внешние, обманчивые, "бесовские" проявления Единого, Лика. "Маска" Передонова символизирует стандартную, "традиционную" человеческую жизнь с ее тщетными надеждами на обновление. Однако за маской (признаком сферы чужого) скрыта страдающая человеческая душа.
Безуспешное противодействие Передонова чужому обнаруживается в ритуально обусловленных эпизодах романа. Социальные амбиции Передонова активизируют в романе символику новоселья. Но несмотря на то, что герой переселяется на новую квартиру по всем ритуальным правилам (на новом месте сразу же отслужили молебен), в квартире появляется недотыкомка.
Действия Передонова в предсвадебный период можно интерпретировать как оберега, направленные на то, чтобы не допустить вторжения чужих сил, способных подменить главных персонажей обряда, находящихся в промежуточном состоянии.
Так, эпизод выбора Передоновьш невесты среди рутиловских сестер, надевающих по очереди одно и то же подвенечное платье, выдержан в духе свадебной идеи истинного узнавания жениха и невесты, характерной также и для волшебной сказки. Перед венчанием с Варварой герой стремится использовать весь комплекс" свадебных оберегов, нередко в гипертрофированном варианте. Так, день венчания тщательно скрывается от знакомых. Прагматическая мотивировка желания героя иметь двух шаферов на свадьбе, вешаться браслетами
(Переломов считает себя важным лицом) сосуществует с ритуальной: герой желает увеличить число лиц, ответственных за безопасность участников свадебного обряда, а также использовать магическое свойство окружности. С целью избежать полного ухода из мира людей Передонов стремится сделать этот мир максимально проявленным, используя ритуальные косметические средства — белится и румянится.
С помощью ритуальных действий герой формирует и свой новый социальный облик, воспроизводя в обряде "текст" невесты (совершает омовение, изменяет прическу, белится и румянится). Так иронически выражается в романе стремление Передонова занять свое, безопасное место в жизни.
Святочная и купальская топика в подтексте действий Передонова осуществляет перенос акцента с образа на ритуальную ситуацию как на архетип взаимоотношений своего и чужого (зимние и "зеленые" святки — время активизации нечистой силы).
Инсценированные похороны хозяйки квартиры Ершовой, которые устраивает Передонов, восходят к святочной игре в похороны покойника. Ритуальный смысл этой игры заключается в том, что смерть преодолевается путем ее похорон, высмеивания и надругательства над нею. Напоминает гротескную хореографию окрушицкого типа странный танец Передонова с Ершовой, затем с Володиным. Однако в контексте сюжетного развитая романа пляска, теряя свой рнтуально-мифодогический смысл, становится лишь безуспешной, измождающей человека попыткой противостоять враждебным этому миру силам, адаптироваться в социуме, который равнодушен к существующему злу. Странная пляска Передонова приобретает значение символа истомившей, бессмысленной, однообразной жизни.
К святочным колядкам (одаривание душ умерших, пришедших в свои дож), контамшшрозанным с обрядом обхода своей территории, восходит, на наш взгляд, и посещение Передоковым "отцов города".
"Отцы города" и "отцы" (предки) соотносятся на метафорическом уровне, а авторские характеристики героев романа делают их похожими на представителей нечистой силы, чуъссго. Семантическое поле смерти формируется здесь благодаря синтезу различных традиций (русская литература XIX века ("Мертвые души" Н. В. Гоголя, "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского), архаическая мифология). В качестве "объекта" дарообмена выступает, как в ритуале благопожелания, социальный престиж; "отцы города" польщены посещением высокого чина, а в качестве дара обещают свое заступничество.
Однако в святочном контексте роль Передонова амбивалентна. Параллельно посещению "отцов города" герой навещает гимназистов с целью экзекуции, уподобляясь при этом окрутиику, важной принадлежностью которого является палка или плеть и'который обнаруживает свою демоническую природу в агрессивных действиях.
Подтверждают нашу концепцию противостояния Передонова враждебной человеку силе и аналогии эпизодов романа с купальской
обрядностью. Знаменательно, что все героини романа, причастные к попыткам устроить брак Передонова, постоянно сближаются Сологубом с ведьмами при помощи метафор и сравнений. В эпизоде маскарада персонажи романа, представляя сферу чужого, символизируют противопоставление Передонова и общества.
Ритуальный подтекст действий героев романа в данном эпизоде воссоздает, с одной стороны, ситуацию дезорганизации, хаоса жизни как таковой. С другой -• попытку обновления мира, разделения сфер влияния своего и чужого. Однако ритуальные действия травссшрова-ны. Символическое получение каждым участником ритуала своей , часта новой доли жизненной силы выражается в разрывании главного ритуального персонажа (Купаты), который и воплощает собой эту силу в своем преобразованном состоянии. Однако новое состояние героя, олицетворяющего такой символ в романе, — Саши Пыльникова — это, по сути, приспособление маленького героя к обывательской жизни: Саша приучается лпггь. Ритуальная попытка гармонизировать мир через амбивалмпный символ, снимающий противоположности, трансформируется в "двойную" жизнь героя. Жители города, пытаясь растерзать "гейшу", приобщаются, таким образом, к новому источнику лжи.
Характерно, что во время рассматриваемого нами эпизода Передонов выпадает из ритуальной системы. Если в экспозиции произведения герой был способен совершить ритуальный танец на "святочных похоронах" квартирной хозяйки, то на маскараде из всей, толпы только Передонов испытывает ужас от происходящего, , не принимает участия в преследовании гейши и со страхом смотрит на пляшущего Володина, хотя именно поведение Володина ближе всего к традиционно ритуальному, условному.
Передонов в этом кульминационном эпизоде впервые смотрит на человеческую жизнь Ъге как на реализацию циркуляра, закона, не как на обряд, а как на страдание. Однако реагирует на свое внутреннее "открытие" Передонов по-ритуальному. С помощью поджога герой пытается уничтожить маскарадное сборище чуягого, которое с помощью ритуальных форм стремится обеспечить свою жизнеспособность;
Хотя Передонов совершает все ритуальные действия с целью обезопасить себя, область чужого поглощает и его самого: герой становится безумным после последней важной ритуальной попытки отодвинуть границу чужого — принесения а жертву агнца-человека
Проводимые в исследовании ассоциации между эпизодами романа и обрядовыми действиями призваны высветить тщетные стремления героя занять свое место в жизни. При этом в образе Передонова усиливаются смысловые оттенки страдающего "маленького человека", тщетно борющегося с судьбой. Герой, представляя в большинстве случаев человеческую партию в обряде, реализует значительную часть обрядового комплекса я, несмотря на это, терпит трагическое пораже-
ние в своих попытках договориться по всем правилам с Роком, распределяющим земные "роли".
•Противоречивость образа Передонова является в "Мелком бесе" следствием измельчания полюсов добра и зла, красоты и безобразия, следствием жизненной неполноты, невыраженности и в конечном итоге символизирует хаос человеческого существования. Противоречивость ритуальной роли героя усиливается еще и тем, что глубинный хаос косной жизни является в романе следствием "культурной", "космизирующей" функции обрядовых действий Передонова, иронически выражающейся в мелочном регламентировании героем природной и общественной жизни. Гипертрофия упорядочивающей, "апол-лонической" функции ритуальных действий в романс обусловила поглощение застывшей формой, порядком живого, творческого, духовного содержания традиционного обряда, а также превращение жизненного ритуала в механическое повторение бессмысленных действий, обрекающих человека на роль марионетки.
В главе показано также, что бесфабульное повествование "Мелкого беса" структурируется по мифологическому принципу "кочана", в частности, с помощью растительного и инцестуального кодов, примыкающих к купальскому семантическому комплексу романа, а также кулинарного кода Растительный код усиливает идею общей противопоставленности "культурной" деятельности Передонова и природной стихии в романе. Инцестуальный код высвечивает с помощью символики запретного полярные попытки героев (Передонов, Людмила) "вернуться в рай", т. е. преодолеть разрыв между желаемым и действительным. Характерное для мифа семантическое тождество еды, полового акта и смерти в романе иронически переосмысляется и приобретает трагический оттенок. Постепенное поглощение Передонова бездной безумия (сферой чужого) передается в романе и через кулинарный код, который также связан с "культурным" аспектом ршуахьных действий героя. Повышенной символичностью в связи с этим наделяется образ кухарки, построенный по принципу "смысловой вертикали"(Вяч. Иванов). Благодаря постепенному сгущению семантики смерти реалистический персонаж приобретает архетипн-чесхую значимость, а все пласты значения образуют единый многослойный символ:
кухарка-работница (граница двух миров, "Самородина-речка")-» -»Варвара-кухарка на маскараде (область чужого в своем) княгиня-кухарка (зависимость от мира мертвых) -» кухарка Смерть (убийство Володина-барана, погружение в хаос).
Корреляции с мифологической картиной мира, где трапеза равнозначна жертвоприношению, актуализируют в романе идею незаметной обыденной жестокости, укоренившейся в жизнейном ритуале.
В третьей главе "Социалыю-утопический аспект мифопоэтазма Ф. Сологуба (роман "Заклинательница змей")" анализируются со-
циальяо-утопическке тенденции в мифо поэтизме Ф. Сологуба, наиболее ярко проявившиеся на заключительном этапе сологубовского творчества, в частности, в его романе "Заклинательница змей". Долгая творческая история сюжета романа — 1911 — 1921 гг., т. е. на семь лет больше, чем принято считать1, — связана с усилением мкфопоэтической традиции в произведении. Развивая миф о Дон Кихоте (центральный в теории и художественной практике Сологуба), Сологуб провозглашает вторичность "форм жизни" по.отношению к "формам искус-ства"("Поэты - ваятели жизни", 1922) и утверждает, что реальность с ее социальными противоречиями может быть преображена "творческою волею" "новой мифологии", призванной усовершенствовать архетипы и представляющей собой "синтез" искусства, религии, философии и науки.
Мифообразутощие тенденции в теории Сологуба обусловили ориентацию художественной системы романа "Заклинательница змей" на поэтику заговора, создающего нередко новые мифы за счет синтеза образов античного пантеона, Библии, фольклора, различных мифологических традиций. Утверждая в "Заклинательнице змей", в противовес марксистской идеологии, примат сознания над бытием, Сологуб обращается в своем романе к образам, символам, идейным конструкциям из разных форм сознания (искусство, философия, религия, наука). Несмотря на то, что писатель дает многоплановую мотивировку своей "эстетической" идеологии, за точку отсяета взята ранняя концептуализация обсуждаемого предмета (противостояние и его разрешение) - мифы о змееборстве, восходящие к обряду жертвоприношения девушки богу воды (змею). Однако первый художественный план произведения решает проблем преодоления общественных противоречий с помощью актуальных для революционной современности образов, путем трансформации национальных мифов: государственного (Чудо Георгия о Змие) и "бунтарского" (о Разине). Данные мифы обнаруживают общность в художественном мире романа за счет актуализации Сологубом идеи сопряжения противоположностей а каждом из мифов.
Антиномичность образов романа связана с символистской идеей о "синтезе", которая также коррелирует в "Заклинательнице змей" с поэтикой заговора. В заговоре основная задача осуществляется в результате "соединения-слияния" противоположных начал, что предполагает скрытое родство полярных явлений, которые заговор сопоставляет и сближает (В. Н. Топоров), Идея сближения противоположностей, как социальнь£х, так и личного характера, реализуется в судьбе героев романа, которая, как и функция персонажа заговора, программируется прежде всего их именами.
Ситуация Чуда переносится автором в дореволюционную Россию; мифологических антагонистов (Дева, Змей) замещают в романе "классо-
1 См.: Сологуб Ф. Письмо В. Брюсову от 9 сентября 1911 г. // ОР РГБ Ф. «6. Ед. гр. 27. Л. 17.
вые противники" — работница Вера Карпунина и фабрикант Горелов. Нейтрализация "классового антагонизма" обусловлена-функциональной общностью архетипов героев: Змей — амбивалентный образ в фольклоре; Вера в философии всеединства осмысляется как средство преодоления рационального познания. С другой стороны, такой исход "классовой" и личной коллизии предопределен сюжетным развитием романа, восходящим к заговорному нарративу, где испытывающий какую-либо недостачу обращается к "первостраждущему" за помощью. Совместившим внутренние противоречия в романе выглядит Разин, у которого Вера просит совета. Образ сологубовского Разина генетически восходит к амбивалентному герою народных преданий, в которых Разин и страдает от змея, и повелитель змей, и палач и жертва в любовных коллизиях преданий, и безбожник и верующий. Важно, что на фоне других произведений революционных лет (В. Каменского, М. Волошина, В. Хлебникова), в которых Разин являлся олицетворением народного бунта, в сологуоовском образе высвечивались мифологические истоки Разина народных преданий, где герой-бунтарь обладает магическими способностями. Создавая свою мифологию, Сологуб строго следует структуре исторического предания, где мотив магических способностей героя нередко сосуществует с этиологическим, объясняющим происхождение природных объектов. Характерно, что мотив змея в романе перекликается с центральным мотивом лирики Сологуба — змеем-солнцем, имеющим фольклористическое происхождение (А. Афанасьев, С. Шашков). Змееподобное, грозящее гибелью солнце — постоянный образ поэтической космогонии Сологуба ("Змий, царящий над вселенною...", "Безумием окована земля..."). Социальный мир у Сологуба и становится проявлением двойственного, неустойчивого мироздания, ще "два солнца горят в небесах". Именно змей, создавший такой мир, а не змей предания мучает сологубовского Разина и каздого, отмеченного "печатью высокого избрания".. Социальные проблемы в романе переключаются, таким образом, в метафизический план.
Свое понимание русского национального характера как "широкого", сопрягающего антиномии, оценку своих героев Сологуб стремится обосновать современными ему философскими концепциями, а также универсальностью народного художественного сознания, своеобразием родного языка. Ориентируясь на поэтику заговора, где слово проявляет благую мощь через реализацию всей своей творческой энергии, Сологуб показал в своем романе проявляемую в многозначности, "антиномичностк", "словесных" играх силу родного языка, который не сможет не сопротивляться упрощающей человека идеологии, будет своеобразным (принимая во .внимание значения обоих омонимов) заговором против неестественно устраиваемой жизни. Эта идея автора выразилась, в частности, ■ в диалоге революционера Ма-лииына и старой работницы Анны Борисовны Карпуниной. В речь Малицына Сологуб включает афоризмы, клише, фигурировавшие в
работах В. И. Ленина, в воспоминаниях о вожде революции и ставшие популярными в большевистской среде ("Юродствовать во Христе", "За деревьями не видеть леса", "Толкнуть хорошенько, все развалится"). Столкновение двух позиций ("двух миров") выражается в романе через свойственный сологубовскому творчеству прием "спора" афоризмов. Характерна для антиномичной поэтики романа и такая деталь повествования: герои загадывают друг другу загадки-каламбуры с разным прочтением. На фоне многозначности слов и выражений родного языка, противоречивой народной мудрости ("За деревьями не видеть леса" —"Не уравнял Бог леса") идеи Малицына выглядят одностороншгми, чуждыми народному сознанию.
Лексическая пестрота, характеризующая претенциозный спил, романа, обусловлена обращением Сологуба к поэтике городского романса, который оказался актуальным для "переходной" мифологии. В это же время роман Сологуба совмещает в себе схемы сюжетов двух песен, которые цитируются в романе: это городской романс Д. Н. Са-довникова. "Из-за острова на стрежень..." и "русская песня" "Вечор поздно из лесочка...". Сологуба привлекло то, что песни различаются решением любовной коллизии между людьми, относящимися к разному социальному положению (Степан Разин и княжна, барин и крестьянка). В подтексте романа эти песни создают полярные модели взаимодействия личных и социальных отношений. В смысловом поле между этими полюсами происходит формирование новой мифологии, способной, по мнению писателя, усовершенствовать человеческие взаимоотношения.
Внутренние изменения героев реализуются в сюжете романа и на оснояе сказочной традиции - "синтеза" сюжетов "змеиных сказок", народных вариантов Чуда В "Заклинательнице змей" развенчивается герой-змееборец, сказочный конец трансформируется в мелодраматический. Семантический комплекс жертвоприношения, связанный с архаическим обрядом, .нейтрализуется во взаимоотношениях Горелова к Веры, восходящих к схеме сказки, где девушка своей любовью расколдовала змея (Аф. №276).
Таким образом, идея сопряжения противоположностей протаивает все уровни романа (лексический, образный, сюжетный), утверждая в итоге изначальный дуализм мира, полярными полюсами которого являются Бог и Змей, - дуализм, который невозможно устранить социальными переворотами. Выстраивая упорядоченные ряды сопрягающихся противоположностей (Змей и Дева, Восток и Запал, любовь и жалость и др.), Сологуб создаст роман-заклинание с "просветительской" целью предотвратить противостояние в обществе. Мир данного (т. е. действительность, равнозначная "текстам искусства") имеет, таким образом, все предпосылки, чтобы стать миром искомого. Пан-когерентная "действительность" романа осознается автором ¿ах поддающаяся эстетизации, что актуализирует з -Закяипатеяькицг змей" мифологему "возвращение внутрь" через символы полярных
сфер (язычества и христианства): символ змея, выражающего в библейском мифе о Медном Змее и в народном заговоре идею возврата на себя, равноценную философской идее самопознания, а также символ невидимого града Китежа, открывающегося лишь праведникам.
Философская проблема преодоления ритуальной обусловленности жизни отдельного человека и социума в целом также решается в романе с помощью мифологемы "возвращение внутрь".
Поэтому невозможно согласиться с Л. Силард, Н. А. Кожевниковой, категорически утверждающими, что идея "пути" как внутреннего развития, характерная для Блока, чужда Сологубу. Идея исторического развития у Сологуба, действительно, отсутствует. Но идея пути как внутреннего преображения человека характерна для тьорчества писателя (см. его рассказы "Путь в Дамаск", "Путь в Эммаус"). Конечно, внутренняя история героя Сологуба соотносится с мифологическими образцами, однако для личности героя этот путь остается индивидуальным и неповторимым.
В свете мифологемы "возвращение внутрь", предполагающей существование рая лишь во внутреннем пространстве, заговор в романе корреспондирует молитве как средству активизации благих сил в микро- и макрокосме. Молитва - духовное соединение человека с Богом. Однако солипсическая религия Сологуба ("Я. Книга совершенного самоутверждения", 1906) признает божественное начало в каждой человеческой личности. В "Заклинательнице змей" с концепцией солипсизма непосредственно связана социально-утопическая идея писателя: чтобы люди были достойны "земного рая", Китежа, их взаимоотношения должны ориентироваться на традиционный образец - личное сотворчество ("синергию") человека и христианского Бога, реализуемое через молитву. Так, любовь к человеку и религиозное чувство нередко сливаются в авторских описаниях внутреннего состояния героев. Характерная для исторических преданий о Разине оппозиция мужской/женский радикально трансформируется в "Заклинательнице змей": женский персонаж рядом с сологубовским Разиным - его дочь Валентина. Любовь к женщине заменена в романе любовью к ребенку, губительная страсть - светлыми, религиозными чувствами.
Проблема социальной утопии, "земного рая" обусловила обращение писателя к мифологеме сада. Противопоставление в романе садов Разина и Горелова составляет композиционный прием, позволяющий автору выразить свою социально-утопическую позицию в топологических коннотациях, которые актуализируют в романе оппозицию природа/культура.
Сологуб с недоверием относился к прогрессу как к главному средству достижения "земного рая". Признаки цивилизации, характеризующие рай в произведениях Сологуба (лифт, отлаженный механизм "прощения-наказания"), придают образу Эдема иронический оттенок. В "Заклинательнице змей" рационально обустроенный сад
Горелова искажает идею рая, превращая его в свою противоположность ("гнездо змеиное").
"Геометрический" пейзаж в произведениях Сологуба с социальной проблематикой ("Отравленный сад", "Заклинательница змей") явился, как и картины абстракционистов, своего рода предупреждением против тиранства прямых линий, математических схем. Сад Разина, напротив, сближается автором с первозданным Эдемом через ряд аналогий. Содружество жителей сада как бы воплощает собой универсальную модель мира - мировое древо. Человек в саду Разина стремится не столько усовершенствовать природу, сколько вписаться в существующую природную гармонию. Таким образом, смысл авторского контрастного описания в романе двух садов выражается в том, чтобы высветить предустановленную свыше культуру в природе, как бы изначально данный образец "синтеза".
Глава четвертая "Своеобразие мифопоэтизма Ф. Сологуба", посвященная анализу рассказов о детях, выступает в качестве итоговой, так как к жанру рассказа Ф. Сологуб обращался в течение всего творческого пути. Наблюдения, сделанные нами в предыдущих главах, посвященных разным периодам творчества писателя, позволят сделать итоговые обобщения относительно своеобразия мифопоэтизма Сологуба.
Фольклорно-мифолотические мотивы, отчетливо проявляющиеся в произведениях писателя о детях, помогают Сологубу достичь значительных обобщений, противопоставить "детство" человечества и мир цивилизации. Рассказы Сологуба о детях являются художественно-философскими миниатюрами на тему о единстве индивидуального и общечеловеческого развития сознания, постигающего смысл как социума в целом, так и отдельного человеческого существования ("Ел-кич", "В плену"). Так, в святочном рассказе "Еткич" ребенок является арбитром не только событий первой русской революции, но и двух моделей культуры, созданных человечеством в процессе развития -магической и религиозной.
Для исследования особенностей "ритуализма" Сологуба как одного из проявлений мифопоэтических устремлений писателя интересна новелла Сологуба "Земле земное". Аналогии с ритуальной схемой проводятся здесь через посредническое звено - фольклор. Изучение новеллы "Земле земное" стимулировало в нашей работе собственно фольклористическое исследование. Замечательно, что только сквозь призму сологубовской новеллы стало возможным обратить внимание на инициационную основу сказочного сюжета АТ 326, не замеченную ранее фольклористами.
Герой новеллы Саша Кораблев настойчиво стремится испытать чувство страха, и этот движущий мотив, "недостача", обращает наше внимание на сюжет фольклорной сказки "Бесстрашный" (Аф. Ьк 348), который получил в фольклористике выразительное для нас название
"Мальчик учится страху" (АТ 326). Сологуб, видимо интуитивно, обнаружил ишщиационнуто основу афанасьевского текста и построил сюжет своей новеллы таким образом, что реализовал с достаточной полнотой инициационный комплекс, как бы напрямую выходя на обряд. Так писатель на -художественном уровне предвосхитил те научные истины, которые были открыты И.Г. Франком-Каменецким, О. Фрейденберг и применены В. Я. Проппом в его работе "Исторические корни волшебной сказки".
В архаическом сознании адея страха связывалась с пограничным состоянием: в обряде инициации (как и во всех других переходных обрядах: рождение, свадьба, похороны) эта идея шрала важную роль. Возможно, одна из особенностей древних мировоззренческих начал, отразившаяся в обряде инициации, и закрепилась в поэтической формуле языка "нн жив ни мертв", в настоящее время означающей лишь чувство страха. Семантико-палеоктологкческий метод позволил обнаружить в новелле "Земле зеыное" подобные архаические представления, идущие от обряда, но не получившие своего воплощения в волшебной сказке, первой фольклорной версии инициации. Прием Материализации метафоры, истоки которой содержатся б обрядозых идеях, встречается и в лирике поэта. Стихотворение "Пришла ночная сваха.." содержит характерную для народной поэзии скрьпую метафору "невеста (жена) - смерть".
Примечательно, что Сологуб считал грань между детством и возмужалостью самой значительной в жизни человека, равнозначной грани между живым и мертвым.
Предположение, о возникновении формулы-сюжета "ни жив ни мертв" го обряда инициации подтверждается и мотивировкой традиционных сказочных испытаний "Бесстрашного" (Аф. N2 348): они проводятся с целью испытать страх. Возможно, этот сказочный сюжет появился, когда обряд инициации находился на стадии отмирания, поскольку данная сказка иронизирует над потусторонней силой (мертвец, черт и др.), которая в мифе и в волшебной сказке являлась патроном инициации. Настоящий страх (эмоцию переходного состояния) герой сказки "Бесстрашный" испытывает тогда, когда ему за пазуху попадает живая рыбешка или его окатят водой. Обоснованность нашего предположения подтверждает и наличие персонажа слуги героя, который, в отличие от своего господина, испытывает страх в ситуациях, восходящих к традиционным испытаниям. Очевидно, в мифе бесстрашный и его слуга - одно лицо, проходящее испытания и преодолевающее страх.
Не исключен и другой вариант генезиса сказки, которая могла возникнуть в результате эволюции волшебной сказки в "реалистическом" направлении. Восточнославянские варианть! сюжета "Мальчик учится страху", используемые нами для анализа, подтверждают переходный характер данной сказки, испытавшей на себе влияние как бытовых сказок, так и быличек. Инициационная основа данного
сюжета, которая обусловила мотив испытания героя, подготавливающего получение, волшебного средства или помощника, тем не менее обнаруживается в некоторых вариантах, где персонаж-предка (покровителя героя, патрона инициации) совмещается с персонажем быличек -заложньш покойником (висельником). Закономерно поэтому, что стремление испытать страх влечет героя в опасное место смерти заложного покойника: так сказка пытается дать новую мотивировку желанию героя волшебной сказки пройти инициацию и встретиться с паггроном-первопредком. Наложение персонажей разных жанров (былички и волшебной сказки) вызывает появление алогичных ситуаций, необъяснимых вне их ритуально-мифологических истоков. Так, в некоторых вариантах герой, стерегущий висельников, оказывает им услуги," восходящие к культу предков (поит, "греет")1. В сказке из сборника М. Левченко2 герой выходит победителем из испытаний благодаря своей смекалке, силе, отваге, тем не менее висельник сопровождает героя как необходимое условие его успеха, а в экстремальной ситуации оказывает помощь в обмен за похороны по всем правилам.
В новелле Сологуба "Земле земное" и актуализируется незаметное в афанасьевской сказке, но, подтверждаемое фольклористическим анализом инициационное семантическое ядро фольклорного сюжета "Матьчик учится страх}'". Преодоление страха представлялось мифологическому сознанию необходимым для формирования и самоутверждения личности. Саша, стремясь испытать страх, постоянно балансирует между жизнью и смертью (ни жив, ни мертв). Поступки героя представляют собой трансформацию шшциационных мотивов: ночью Саша идет через речку на кладбище, где похоронена мать (мотив путешествия в иной мир, встречи с предком), совершает "бессмысленные" шалости (мотив временного безумия неофита), просит, чтобы его больно высекли, унижаясь спасает от наказания товарища, во сне видит себя погибшим на пожаре при спасении ребенка (мотив испытания). Испытания Саши оказываются неосуществленными внешне, но они переживаются героем, психологически маркируются. Хотя герой достойно проходит все испытания, инициация не дает желаемого результата. В отличие от сказочного героя, Саша не знает страха как реакции на опасность. Но-в результате испытаний ему открылась жизнь во всех противоречиях, и теперь детское безмятежное существование невозможно. При этом сказочный мотив воды, которую неожиданно вылили на спящего героя и которая вызывает страх, трансформируется в новелле. Созерцание героем воды символизирует бессознательный хаос в душе и: разуме ребенка, не обнаружившего
1 См.: 'Гаемниця схляно* гори. Закарлатськ! народш казкк. 3i6pani М. Фшщшьким. Ужгород, 1975. С. 169-179; Гринченко Б.Д. Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и пр. Чернигов, 1901. С. 330-331.
2 Казки та опопшння з Подмия. В записях 1850- 1860-х рр. Вип. 1-11. Упорялкував М. Левченко. У Киля, 1928. С.461-464. •
полноты и гармонии в земной жизни, - хаос, который все же пытается обрести возможную форму. Метафора "ни жив ни мертв", буквальный смысл которой реализуется в сюжете нозеллы, в ее пространственных характеристиках, в итоге трансформируется в главный оксюморон творчества Сологуба - "мертвая жизнь". Небьггие в сологубе вских произведениям постепенно поглощает живую жизнь, лишая ее творческого и героического характера; жизнь превращается в школу смерти. И герой идет за Епистимией, олицетворяющей "мертвую жизнь", потому что у него нет другого выбора: человеческая душа вынуждена отдать земле - земное, принять земной порядок, который, по мнению автора, не способен не исказить целостную, детскую сущность этой души.
Новое состояние, в которое переходит сологубовский герой, прошедший инициацию, - это состояние страха экзистенциального. Страха перед бессмысленностью жизни, перед возможным одиночеством, непониманием, страха перед другим человеком, перед своей смертностью и греховностью.
Однако образ смерти в новелле отличается полисемантизмом: единственно возможным средством преодолеть "мертвую жизнь" признается маленьким героем "смерть-утешительница", подводящая итог человеческому существованию и вносящая в него смысл. Таким образом, в произведении Сологуба вступление человека во взрослую жизнь начинается с создания своей философии смерти и страха.
Жизненная ситуация, изображенная в новелле, приобретает статус обряда посвящения в его современном философском и -этическом переосмыслении вследствие символичности образов матери и отца Саши, которые благодаря некоторым деталям приобретают обобщенное значение: это мать и отец всего рода человеческого; поэтому у данных персонажей нет имен (аналогичный прием см. в лирике: "В ясном небе - светлый Бог Отец, здесь со мной - Земля, святая Мать"). В мифологических системах архетип ребенка симвошгзирует борьбу с хаосом, разделение неба и земли. В отличие от мифа, ситуация разлуки отца (Бога) и матери (Земли) в новелле выражает оторванность высшего начала от земного, следствием чего является нецелостное, неполное существование самого человека (ср. в лирике: "Не хочет жизни Бог, И жизнь не хочет Бош"). Сущность матери-земли (земной жизни) остается неясной для маленького героя из-за отсутствия в жизни высшего, духовного начала. При этом характерна ориентация Сологуба на библейскую символику ("Богу богово, а кесарю кесарево"— "Земле земное").
Резюмируя проведенный анализ, новеллы Ф. Сологуба "Земле земное" в ритуально-мифологическом контексте, можно утверждать, что, хотя составляющие ритуальной схемы представлены в обратимом варианте, архаический идеал "золотого детства" человечества остается значимым в идейном содержании новеллы, как и в большинстве сологубовсккх произведений, развивающих мифологему детства. Од-
нако в целом переосмысление н психологизация архетипа ребенка обусловлены в новелле общесимволисгскими исканиями "третьего" завета, который соед мил бы "правду о земле" (язычество) и "правду о небе" (христианство).
К. фольклорному сюжет/ "Мальчик учится страху" обращался не только Ф.Сологуб. Трансформация древней мировоззренческой идеи страха как переходного состояния ("ни жив ни мертв") обнаруживается также в произведениях Д.С-трапаролы ("Приятные ночи", ночь Г/, сказка V), А.Пдатокова ("Железная старуха"), Ю.Мамлеева ("Ерема-дурак. и смерть"). На фоне произведений отличного от символизма историко-культурного контекста обнаруживается, что авторский идеал Сологуба в новелле "Земле земное" более других в плане интерпретации оппозкщш жизнь/смерть тяготеет к ритуально-мифологическому комплексу идей. Если в фольклорной сказке над "иным" царством смеются, в новелле Страпаролы от смерти бегут, в "Железной старухе" Платонова мир жизни призван поглотить область небытия, г» сказке Мамлеева жизнь и смерть свободно меняются местами, а смерти вообще отказано в значительности, то в авторском идеале Сологуба земной и "иной" миры призваны дополнять и взаимообога-шать друг друга. Двуплановая поэтика новеллы Сологуба строится на контрасте идеала "золотого детства" человечества и современности, в контексте которой мифологическое целое жизни и смерти представ- ■ лгно в обратимом варианте: "мертва;: жизнь - смерть-утешительницг.". Экзистенциальный страх, ознаменовавший вступление сояогубовско-го героя во взрослую жизнь, также противопоставлен страху, преодолеваемому неофитом и способствующему самоутверждению мифологического героя.
Следует подчеркнуть, что на фоне других произведений, содержащих инициационное смысловое ядро, в -новелле Сологуба "Земле земное" ритуальная схема представлена в наиболее полном взр канте; обстоятельства вступления ребенка во взрослую жизнь изображаются в детальной корреляции с архаической картиной мира. Более того: новелла актуализирует ртуально-мифологические смыслы, которые были скрыты в фольклорном источнике новеллы - сказке переходного типа "Бесстрашный" и для обнаружения которых возникла необходимость в фольклористическом исследовании восточнославянских вариантов сюжета "Мальчик учится страху". '
В заключения подводится итог проведенного исследования. В частности, отмечается, что ориентация художественной системы соло губовских произведений на фольклорную полифонию способствовала утверждению в творческой практике писателя символистской "становящейся" художественной ценности, понимаемой как шшами-ческое начато, созидательное, выражаемое прежде всего' а сшлыздией авторской позиции.
Особую роль в творчестве писателя играют пословицы и поговорки, которые, иллюстрируя общесимволистскую концепцию символа, развиваются в произведениях Сологуба в эпизоды, сюжетные линии ("Мелкий бес"). В поэтике писателя пословицы и поговорки не только моделируют ситуацию, но и характеризуют, благодаря своему семантическому ядру (инвариантной паре противопоставленных понятий), изначально антиномичный символ Сологуба. Глобальная мифологическая оппозиция жизнь/смерть реализуется в центральном для поэтики Сологуба фразеологизме "ни жив ни мертв" ("Мелкий бес", "Земле земное"), который, претерпевая в художественной системе писателя различные трансформации, характеризует в конечном итоге незавершенное, невыраженное состояние находящегося в процессе становления мира, пребывающего в фазе "антитезы".
Используя ритуальные схемы, Сологуб игнорирует в подавляющем большинстве случаев творческое, живое содержание ритуала, ибо обряд, по его мнению, имеет случайный характер, является запрограммированным первопредками повторением действий, которые не могут привести к желаемым результатам. Ритуал, мифологические представления, архетипы (устойчивые социальные, художественные структуры) в контексте произведений Сологуба становятся признаком "земного плена**, а потому обычно иронически переосмысляются. В результате произведения писателя представляют собой "отрицательную аналогию" (И. П. Смирнов) архаическим образцам. Однако "декадентская" ("Мелкий бес"), романтическая ("Земле земное") и "жизнстворческая" ("Заклинательница змей") интерпретации ритуальной схемы в творчестве Сологуба свидетельствуют о повышенной обратимости составляющих поэтики писателя.
Изменение отношения писателя к фолыслорно-мифологическому материалу позволяет обнаружить эволюционные процессы в сологу-бовеком творчестве. О поисках Сологубом положительных социально-эстетических начал свидетельствует трансформация трехчленной мифологической модели пространства в творчестве писателя. Если на первом этапе накладываются нижний и средний миры: человек в произведениях писателя проявляет по отношению к ближнему своему бесовские свойства("Человек человеку - дьявол"), то в своем последнем романе Сологуб, опираясь на ритуал заговора и традиции сектантски учений, показывает возможность взаимопроникновения верхнего и среднего миров во время особого, религиозного состояния души человека, ощущающей в себе присутствие Бога (божественных энергий). Так в творческой эволюции писателя проявляется его солипсическая концепция, согласно которой Бог и черт, добро и зло -противоположности, сливающиеся в человеке, а демонология и изображение высшей реальности в художественной традиции (Аид, "иное" царство волшебной сказки, легенда о граде Китеже) — это лишь объективация добра и зла, которые сосуществуют в душе человека.
В конце диссертации приведен список использованной литературы из 400 наименований.
Основное содержание диссертации отражено в публикациях:
1. Фольклорная основа мотива смерти в творчестве Ф. Сологуба // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПИ им. С.М.Кирова (28-29 апр. 1992 г.). Вып. 2. Астрахань: Изд-во Астрахан. пед. инта, 1992. С. 163.
2. О фольклорных истоках образов романа Ф. Сологуба "Заклина-' тельница змей" // Тезисы докладов итоговой научной конференции АГПИ им. С.М.Кирова. Астрахань, 23 апр. 1993 г. Вып. 3. Астрахань:. Изд-во Астрахан. пед. ин-та, 1993. С. 189.
3. Фольклорно-мифологическне истоки новеллы Ф. Сологуба "Земле земное" // Литература и фольклорная традиция: Тез. докл. науч. конф. Волгоград, 15-17 сент. 1993 г. Волгоград: Перемена, 1993. С. 62-64.
4. О фолъклорно-мифологических истоках мотива смерти в произведениях Ф. Сологуба // Филолошческий поиск Сб. науч. тр. Вып. 1 / ВГПУ. Волгоград: Перемена,-1993. С. 110-120.
5. Фольклорно-мифологическне истоки новеллы Ф. Сологуба "Земле земное" // Проблемы детской литературы и фольклор: Сб. науч. тр. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. С. 83-90.
6. О христианских и языческих мотивах в творчестве Ф. Сологуба // Ученые записки: Материалы докл. итоговой науч. конф. (28-29 апр. 1992 г.). Ч.И. Гуманитарные науки. Педагогика и психология. Астрахань: Изд-во Астрахан. пед. ин-та, 1995. С. 60-65.
7. Фольклористические концепции в поэтике пьесь1 Ф. Сологуба "Ванька Ключник и паж Жеан"// Проблемы современного изучения русского и зарубежного историко-литературного процесса: Тез. докл. нруч.-практ. конф. литературоведов Поволжья и Бочкаревских чтений ( 22-25 мач 1996 г. ).Самара: Изд-во ТОР СамГПУ, 1996.-ВТ16Ч.