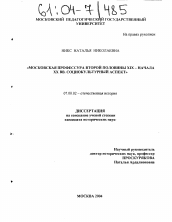автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Московская профессура второй половины XIX-начала XX вв. Социокультурный аспект
Полный текст автореферата диссертации по теме "Московская профессура второй половины XIX-начала XX вв. Социокультурный аспект"
Направахрукописи
НИКС Наталья Николаевна
Московская профессура второй половины XIX начала XX вв. Социокультурный аспект.
Специальность07.00.02 - отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Москва - 2004
Работа выполнена на кафедре истории России исторического факультета Московского педагогического государственного университета
Научный руководитель:
доктор исторических наук, профессор ПРОСКУРЯКОВА Наталья Ардалионовна
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук ИВАНОВ Анатолий Евгеньевич
кандидат исторических наук, доцент ТОКАРЕВА Елена Анатольевна
Ведущая организация - Российский университет дружбы народов
Зашита диссертации состоится "22" марта 2004 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета К 212.154.06 при Московском педагогическом государственном университете по адресу: 117571, Москва, пр-т Вернадского, д. 88, ауд. 322
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского педагогического государственного университета по адресу: 119992, Москва, ГСП-2, ул. Малая Пироговская, д. 1.
Автореферат разослан
Ученый секретарь диссертационного совета
ЧЕХОВСКАЯ Н.Н.
Общая характеристика работы
Настоящее исследование посвящено изучению московской профессуры второй половины Х1Х-начала XX вв. Проблематика исследования непосредственно связана с современной ситуацией в социальных науках, для которых характерны историко-культурный поворот, междисшшлинарность подходов, перенос фокуса исследований с макро- на микроуровень, обращение к истории общественных групп и частной жизни отдельной личности. Антропологически ориентированный подход предполагает изучение взглядов, и настроений людей, их личных и групповых пристрастий, особенностей межиндивидуального общения и взаимодействия, структуры ценностных ориентации, а также мировоззренческих, эмоциональных и этических основ жизнедеятельности. При изучении данного круга вопросов нового и новейшего времени, как правило, используются источники личного происхождения, которые позволяют глубже и полнее реконструировать социально-психологические процессы, протекавшие в сознании людей прошлых эпох и извлечь сведения как о неповторимой индивидуальности каждого автора, так и о массовых психических явлениях. В этом случае взгляд на историю как на поле проявления разнообразных социальных, политических и экономических закономерностей дополняется рассмотрением истории как деятельности людей, а изучение психологических механизмов человеческой деятельности позволяет избежать схематизма1 и наполняет историю конкретным живым содержанием.
Актуальность исследования состоит в новом подходе к постановке проблемы. Работа написана в русле "новой социальной истории", где повышенное внимание уделяется изучению различных видов и форм деятельности как структурообразующего компонента личности, а также способам межиндивидуального общения и поведения. Актуальность данного исследования определяется также общим интересом исторической науки к человеку как субъекту исторического процесса и возросшим в этой связи значением источников личного происхождения - мемуаров, писем, дневников. В рамках настоящего исследования принципиально важным представляется выявление всего комплекса данного вида источников - прежде всего опубликованных и введение в научный оборот малоизученного материала.
Объектом исследования является московская профессура. Выбор географических рамок определяется в первую очередь самим статусом Москвы как крупнейшего научного и культурного центра дореволюционной России.
1 Лотман ЮМ Избранные статьи. В 3-х тт. Таллинн, 1992. T.I. C298.
1Р0С. НАЦИОНАЛЬНАЯ I БИБЛИОТЕКА I
Предмет исследования составляет анализ научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности московских профессоров, который представлен в контексте их системы ценностей, мотивационных, этических и эмоциональных основ научной и преподавательской деятельности, социально-психологических установок, а также особенностей повседневной жизни данной группы, традиций общения и взаимодействия в межличностном и социокультурном пространстве Москвы.
Хронологические рамки исследования охватывают период модернизации российского общества с середины 1850-х гг. до 1917 года. Основным критерием в определении границ исследования стал историко-культурный подход, позволяющий рассматривать многие процессы и явления общественной жизни не только на стадии конкретно практической реализации, но и на этапах зарождения новых взглядов и идей, их интеллектуального осмысления и внедрения в социокульгрное пространство общества. Длительность изучаемого периода объясняется тем, что проследить изменения в общественном сознании групп людей можно на сравнительно больших промежутках времени, а наиболее эффективно это достигается при исследовании переломных эпох. Вторая половина ХК века была именно такой эпохой.
Методологическая основа исследования. В настоящее время в "новой социальной истории" сложилось три основных подхода: социоструктурный, социокультурный и личностно-психологический, которые нашли отражение в настоящем исследовании. С точки зрения базовой макрообьяснительной модели в работе использовались принципы цивилизационного подхода и теории модернизации. Из теоретических моделей среднего уровня в работе были задействованы методы социальной психологии, культурной антропологии и социологии, которые позволили исследовать вопросы взаимосвязи "внутренней" и "внешней" (поведенческой) сторон деятельности, остановить внимание на изучении "Я-концепции", провести исследование мотивационно-ценностных и эмоциональных основ научно-педагогической деятельности, рассмотреть отдельную личность и группу в целом как целостный социокультурный феномен. Из специально-научных методов в работе были использованы историко-системный, историко-сравнительный и истори-ко-генетический методы.
Историография. Профессура составляла интеллектуальное ядро отечественной интеллигенции, вопрос о роли которой в российской истории по сегодняшний день остается одним из самых дискуссионных. Этой проблематике посвящен ряд работ современных исследователей, а также многочисленные статьи и сборники научно-практических конференций, регулярно проходящих на базе Московского, Иванов-
ского и Екатеринбургского университетов2. В рамках данной широкой проблемы за последние годы существенно возрос интерес к истории отдельных групп интеллигенции, в том числе и отечественной профессуры. Во многом это объясняется тем, что в советское время история профессорской интеллигенции и история высших учебных заведений дореволюционной России не относились к числу популярных предметов исследования отечественных ученых. Главной причиной этого был приоритет в изучении социально-экономических и политических процессов и человеческое наполнение истории не было предметом специальных исследований.
Историография вопроса в советский период представлена сравнительно небольшим количеством работ, написанных преимущественно в 1970-90-е годы3. Центральное внимание в работах исследователей уделялось социальному анализу группы российских профессоров и преподавателей вузов, его численности, правовому положению, социальному и национальному составу российской профессуры, проблемам формирования профессорско-преподавательского корпуса и той роли, которую он играл в деле развития науки и просвещения. Социокультурное исследование данной группы не проводилось главным образом вследствие приоритета в изучении исторических процессов макроуровня, когда человеческое наполнение истории, изучение небольшихгрупп и отдельныхиндивидов с точки зрения анализа психологических установок, особенностей мышления и поведения, традиций и ценностей выходило за рамки глобальных схем.
На сегодняшний день, в связи с расширением методологической базы исследований, появилась возможность по-новому подойти к изучению ранее известных общностей и групп, определить их место и роль в историко-культурном пространстве, выявить новые формы культурных взаимосвязей. Современный историографический этап отмечен рядом серьезных публикаций по данной проблематике, написанных в русле социокультурного подхода. В первую очередь это касается работ, посвященных истории российских университетов4. Отличительной особенно-
2 Гудков Л.Д. Интеллигенция. М.,1999; //Интеллигент и внтеллигентоведение на рубеже XXI в.: итоги пройденного пути и перспективы. Иваново, 1999; //Интеллигенция в истории. Образованный человек в представлениях и социальной действительности. М.,2001; //Интеллигенция и российское общество в начале XX в. Спб., 1996; //Интеллигенция России в конце XX в.: система духовных ценностей в исторической динамике. Екатеринбург, 1998; //Интеллигенция России: Уроки истории и современность. Иваново, 1994; //Историческое знание я интеллектуальная культура. М.,2001; //Социальный статус и имидж гуманитарной интеллигенции. М.,2001 и др.
3 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине ХГХ в. М.,1971; Русская интеллигенция 1900-1917. М.1981; Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М.,197б; Идейная жизнь русской интеллигенции. М..1995; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. М.1985; Русские университеты на путях реформ, М.1989; Иванов А.Е. Высшая шкода Россия в конце Х1Х-начале XX в. М.. 1991; Ученые степени Российской империи. XVIII век -1917 г. М., 1994.
4 Ляхович Е.С., Ревушкия А. С Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск. 1998; Аврус А.И. История российских университетов. Саратов. 1998; .Андреев А.Ю. Московский университет в
стью всех этих работ следует признать выраженный акцент в сторону культурологического изучения университетской жизни и степени взаимосвязи университетов и культурной жизни России XVIII-начала XIX веков. Однако и в этих безусловно интереснейших и значимых работах профессура не стала предметом специального изучения: этому вопросу посвящены лишь главы, а то и параграфы. По второй половине XIX столетия работ подобного характера нет.
Источниковая база. Основную группу источников составили документы личного происхождения - дневники, мемуарная литература и эпистолярные источники. Именно данный вид источников представляется перспективным использовать при исследованиях социокультурного характера. В работе использованы как опубликованные, так и архивные материалы. Среди опубликованных источников наибольший удельный вес составляют мемуары - 80 единиц текста. Наряду с широко известными мемуарами крупнейших деятелей науки (С.М.Соловьев, Б.Н.Чичерин, ЛМ.Сеченов, А.А.Кизеветтер, М.М.Ковалевский и др.) в работе были использованы и такие виды мемуарной литературы как автобиографические записки, "тематические" и "некрологические" воспоминания, получившие широкое распространение во второй половине XIX века. Многие из них впервые были введены в научный оборот (мемуары о Ф.Е.Орлове, Я.А.Борзенкове, Е.В.Амфитеатрове, А.П.Лебедеве, Н.Н.Кауфмане и др). Из дневников особенно следует выделить дневники и дневниковые записи В.О.Ключевского, А.И.Чупрова, М.С.Корелина. Среди эпистолярных источников особенно следует подчеркнуть информативную ценность переписки В.И.Вернадского со своей супругой (более 1500 писем), научной переписки П.Н.Лебедева с отечественными и зарубежными физиками (более 500 писем) и переписки Ф.Е.Корша (более 400 писем). Неопубликованные источники хранятся преимущественно в Центральном историческом архиве Москвы и Отделе рукописей РГБ, причем некоторые (часть документов М.С.Корелина и А.Ф.Фортунатова) также впервые вводятся в научный оборот.
При работе с документами личного происхождения был использован метод ретроспективного анкетирования. Исходя из информативных возможностей источников, были составлены вопросы, отражающие различные аспекты научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а также структуры ценностей профессуры. Предложенные вопросы были сгруппированы в соответствии с индивидуальными, социально-психологическими и ценностными структурами личности. Результаты работы представлены в приложении в виде десяти таблиц.
общественной и культурной жизни России начала ХК в. М.,2000, "Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII в." М.,1997, статьи в сборниках по изучению интеллектуальной истории России., //Очерки русской культуры XIX века. Т.З. М.,2001.
Вторую группу источников, при проведении социоструктурного анализа, составили делопроизводственные документы: послужные списки профессоров московских вузов, а также статистические материалы - сведения из ежегодника "Вся Москва" и данные переписей Москвы за 1871, 1882 и 1902 гг. Основная задача при работе с данным видом источников состояла в том, чтобы выявить поименный состав профессоров Москвы с максимально возможным учетом совместительства.
На основании изучения всего комплекса источников удалось составить просопо-графические анкеты на каждую персоналию, в которых отражена следующая информация: биографические сведения, сфера научных интересов, научные открытия, достижения, награды, признание в мировом научном сообществе, основные труды, участие в научных обществах и просветительской деятельности, административная» работа. Всего было составлено 70 анкет, вошедших в "Словарь московских профессоров".
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является раскрытие индивидуально- и социально-психологических основ научной и педагогической деятельности как системообразующего элемента мировоззрения московской профессуры, определение ее места и роли в историко-культурном пространстве модернизирующегося российского общества. Реализация этой цели достигается путем решения следующих задач:
1. Изучение данной социальной группы в социоструктурном контексте определение ее удельного веса среди интеллигенции высшей школы России исследуемого периода.
2. Выявление всего корпуса документов личного происхождения (прежде всего опубликованных) для проведения социокультурного исследования.
3. Составление базы данных на каждую персоналию в виде просопографиче-ских анкет, составивших "Словарь московских профессоров".
4. Анализ системы ценностей и доминирующих социально-психологических установок и настроений.
5. Определение мотивационных, этических и эмоциональных основ научной деятельности и выявление ее связи с преподавательской работой.
6. Выявление наиболее типичных форм и моделей поведения, а также структуры повседневности данной группы.
Научная новизна исследования определяется тем, что настоящая диссертация является первой в отечественной исторической науке специальной работой социо-
культурного характера, посвященной проблемам отечественной профессуры второй половины XIX в. Центральное место в работе уделено изучению личностно-психологических и мотивационно-ценностных основ научно-педагогической, общественно-культурной и административной деятельности профессуры. В связи с этим, значительно расширен круг задач, решенных автором, а также введен в научный оборот ряд ранее не использовавшихся историками опубликованных и архивных документов.
Практическая значимость исследования. Изучение московской профессуры в рамках социокультурного подхода позволяет расширить общие представления о данной группе российского общества, по-иному охарактеризовать степень ее участи в общественной и культурной жизни страны, проникнуть в творческую лабораторию и проследить основные этапы формирования личности ученого-профессора. Содержащаяся в документах личного происхождения информация позволяет воссоздать дружеские, духовные связи, направления деятельности, социально-психологические настроения и систему ценностей московских профессоров. Исследуемая тема представляет научный и практический интерес для историков, занимающихся проблемами истории российского общества указанного периода, культурологов, а также специалистов, изучающих психологические проблемы научного творчества. Содержание диссертации может быть использовано при разработке и чтении специальных курсов по социальной истории и истории культуры.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры Отечественной истории МПГУ, где получила положительную оценку, а также на заседании сектора истории России XIX в. Института отечественной истории РАН. Автором в 2002-2003 гг. опубликован ряд статей по теме диссертации.
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.
Основное содержание работы.
Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования, определяются объект и предмет исследования, цели и задачи работы, ее методологическая основа. Рассматриваются также основные историографические проблемы и особенности использованных источников.
В первой главе "Социоструктурная характеристика московской профессуры" представлен социальный портрет данной группы российской интеллигенции,
выявлена численность, происхождение, правовое и материальное положение, национальный и возрастной состав.
§1. Численность и правовое положение. Московская профессура представляла
собой численно небольшую группу. По переписи Москвы 1902 г. среди "лиц интеллигентных профессий" (педагоги, учителя, литераторы, люди искусства) число профессоров составило 182 человека или 0,88% от всех групп московской интеллигенции.
Поименный анализ послужных списков профессоров московских вузов показал, что на протяжении второй половины XIX в. в Москве наблюдался неуклонный рост профессорских кадров: за исследуемый период их число возросло почти в 4 раза и к 1917 г. составило 203 человека, что в первую очередь было связано с появлением новых учебных заведений. В целом в московской высшей школе ситуация с преподавательскими кадрами выглядела относительно благополучно. Во многом это было связано с заложенными еще в ХУГО столетии прочными традициями высшего образования, распространившимися из университета на другие высшие учебные заведения. Москва была "пропитана" ученым духом, в ней сам ритм жизни был соразмерен научной деятельности. Этого не было в столице и других университетских городах. Это подтверждают следующие данные: в Московском университете больше, чем в других российских университетах защищалось диссертаций и присваивалось ученых степеней - в 1854 г. 19,4%, а в 1901 г. - 39,3% от общего числа по университетам.
§2. Социальный возрастной и национальный состав. На протяжении второй
половины XIX в. в Москве, так же как и в целом по России наблюдалась тенденция» демократизации профессорского корпуса. За исследуемый период состав московской профессуры заметно пополнился выходцами из купцов, почетных граждан и мещан (более чем в 10 раз). При этом наблюдалось не менее резкое сокращение выходцев из духовного звания (почти в 3,5 раза), а также числа иностранных преподавателей (в 7,5 раз). Этому способствовало успешное развитие отечественной науки и признание русских ученых за границей, а также общее изменение представлений в обществе о роли науки и интеллектуальной элиты, "ученого сословия" в социальной, культурной и общественной жизни. Общая демократизация профессорского состава имела очень важное социокультурное значение, поскольку профессура самим фактом своего существования выходила за рамки традиционной сословной структуры общества и нарушала замкнутость сословного деления.
В национальном профессорский корпус московской высшей школы рекрутировался главным образом из православных по своей религиозной принадлежности и
по национальности в большинстве своем русских. За вторую половину XIX в. наблюдается заметное снижение числа профессоров лютеранско-католического исповедания и соответственное увеличение доли православных. Объясняется это тем, что по мере развития высшего образования и становления собственных научных школ и направлений потребность в иностранных преподавателях существенно сократилась и в начале XX в. в большинстве московских вузов православные составляли около 90% всех преподавателей. Из других национальностей в московских учебных заведениях по-прежнему преобладали немцы - лютеране и католики - в совокупности чуть более 10%. Представители других конфессий в московских высших учебных заведениях практически отсутствовали.
Анализ возрастного состава профессоров высшей школы Москвы свидетельствует о том, что наибольшее число составляли профессора в возрасте от 40 до 60 лет - около 70%. За весь исследуемый период резко сократился (в 8 раз) процент молодых преподавателей в возрасте до 40 лет и соответственно выросло (почти в 5 раз) число профессоров старше 70 лет. Это объяснялось главным образом недостаточным материальным обеспечением, особенно обострившимся в условиях революции и Первой мировой войны. Кроме того, активизация общественно-политической жизни приводила к тому, что оппозиционно настроенные молодые преподаватели покидали научное поприще и целиком посвящали себя общественной деятельности, как, например, П.Н.Милюков, А.А.Кизеветтер, САМуромцев и другие.
§3. Имущественное и семейное положение. Подавляющее большинство профессоров были только чиновниками, поскольку не имели приносящей дохода недвижимости (имения, доходные дома, промышленные предприятия). На протяжении второй половины XIX в. наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению числа лиц, не имевших собственности. Если в середине XIX в. число таковых составляло по Москве 61,5%, то к началу XX в. увеличилось до 86,7%. Поэтому жиз-нещше блага основной массе профессоров доставлял только педагогический труд, оценка которого со стороны правительства была явно недостаточной. Социальный статус профессуры и положение в общей чиновной иерархии (профессора имели чины от VI до IV класса) требовали соответствующего экономического оформления. Однако при среднем доходе ординарного профессора 4500 руб. в год потребность в средствах с учетом платы за квартиру, обучение детей, покупки необходимой литературы и прочих непредвиденных расходах была в среднем в два раза выше. Эта недостаточная обеспеченность побуждала многих профессоров искать дополнительного заработка в других вузах, школах и публицистической деятельности. Высокий процент совместительства (более1/2 всех профессоров) был характерным явлением на протяжении всего исследуемого периода.
Крайне стесненные материальные условия жизни были одной из причин того, что многие профессора и преподаватели, особенно молодые, не могли позволить себе иметь семью и детей. На протяжении второй половины XIX в. около трети всех профессоров были одинокими. К началу XX в. ситуация несколько изменилась и число одиноких сократилось до 15%, но все же дети были далеко не у всех: чуть более 60% всех семейных преподавателей имели детей. В то же время известны случаи многодетных профессорских семей с четырьмя и более детьми (В.В.Марковников и Д.Н.Анучин воспитывали восьмерых детей, Е.В.Амфитеатров и А.П.Гавриленко - шестерых). Главным образом эти профессора были выходцами» из духовного звания, с устойчивыми православными традициями деторождения и воспитания, либо принадлежали к более или менее обеспеченному дворянству или купечеству.
Во второй главе "Научная и педагогическая деятельность" рассматриваются вопросы, связанные с научной деятельностью, на основе источников показано • > ее неразрывное единство с преподаванием и просветительской деятельностью, раскрываются методические, эмоционально-ценностные и социально-психологические основы преподавания, проведенные по отдельным отраслям знания, а также деятельность профессоров в средней школе. При изучении данного круга вопросов автор исходил из принятых в современных социальных науках представлений о деятельности и системе ценностей как важнейших структурообразующих компонентов личности.
§1. Подготовка к научной деятельности: система воспитания и образования будущих профессоров. Особое значение при формировании интереса к интеллектуальной деятельности имеют психологические, эмоциональные и социальные факторы. В первую очередь речь идет о значении семьи, которая формирует те социально-психологические установки, ожидания, предпочтения и ценности, которые отражаются на будущем психологического облике и профессиональной ориентации ребенка.
Возникновению первичного интереса к интеллектуальной деятельности у будущих профессоров способствовала продуманная родителями система воспитания, ориентированная на всестороннее развитие личности ребенка. Показательно, что не только в дворянских семьях, но и в семьях духовенства, купечества, средних и мелких чиновников интерес к науке и культуре становились во второй половине XIX в. устойчивой традицией. Немаловажную роль при этом играло раннее увлечение литературой и обучение иностранным языкам.
Особое значение имели также природные способности. Источники показали, что подавляющее большинство московских профессоров принадлежало к кате-.гории одаренных и талантливых людей. Многие будупцм профессора с раннего возраста обнаруживали любознательность и проявляли повышенный интерес к окружающей действительности, демонстрировали незаурядную память. И, наконец, важнейшим побудительным мотивом к интеллектуальной деятельности были годы учебы в гимназиях и университете. В это время происходило приобретение необходимых знаний и интеллектуалышх навыков, шло развитие коммуникативных качеств, вырабатывались самостоятельность и умение нести ответственность за свои действия. Не меньшее значение играл фактор межличностного общения. В ранние годы у будущих профессоров закладывались те черты характера (честность, открытость, дружелюбие, целеустремленность), которые станут определяющими в их дальнейшей жизни, происходило также эмоциональное и нравственное становление их личности, вырабатывались те психологические черты, которые формировали особый тип личности "университетского человека" и ученого - честного, порядочного, готового помочь нуждающемуся, искреннего и доброжелательного.
§2. Эмоционально-ценностныеиличностно-психологичеекиеосновы научной деятельности. Наука составляла важнейшую смысложизненную ценность для большинства московских профессоров, а сам процесс научного творчества оценивался ими как развитие самосознания личности. Занятия научным трудом рассматривались профессорами как священная миссия, как служение, ради которого многие из них готовы были "идти на всякие беды и лишения, лишь бы можно было заниматься любимым делом, ...любимой наукой"5. Научный труд зачастую требовал отречения от многих житейских радостей, если нужно было, то и своеобразного отшельничества, взамен же дарил истинную радость бытия "прочное, истинное счастье, которым пресытиться нельзя"6. Ощущение счастья, которое вызывало занятие интеллектуальной деятельностью, являлось важнейшей эмоциональной составляющей их жизни.
Преобладающими интеллектуальными свойствами личности профессоров были широкая эрудиция, научная пытливость и потребность в самообразовании. Кроме того, их отличала кропотливость и глубина исследовательского процесса и высокий творческий потенциал. Среди важнейших социокультурных черт московской" профессуры доминировали научная открытость и отсутствие "интеллектуального аристократизма", желание делиться радостью собственных открытий с колле-
5 Огнев СИ. Указ. соч. С.32
6 Из речи МСКорелина перед выпускницами 2-й женской гимназии. См. Любавский М.К. МС.Корелин как преподаватель средней школы. //Русская Мысль. 1899. №10. С. 134.
гами и учениками, высокие этические требования к занятиям научной работой. Нравственность - основа жизни и науки — так считало большинство московских профессоров.
Успешное занятие научной деятельностью было невозможно без таких лич-ностно-психологических качеств как целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих силах, трудолюбие, которое было характерной чертой подавляющего большинства профессоров Москвы. Например, профессор астрономии Ф.А. Бредихин в моменты творческого вдохновения целыми днями мог просиживать в кабинете, забывал о пище, об отдыхе, об обязательных занятиях. Он умел работать с невероятным упорством и напряжением. Труд, таким образом, являлся одной из важнейших нравственных характеристик личности профессоров. По отношению к труду можно судить об их умственной и социальной зрелости, психическом здоровье, образе жизни и правильности понимания настоящего, а удовлетворение, получаемое как от результатов, так и от самого процесса труда, которые испытывали профессора, свидетельствует о высокой степени их личностной самодостаточности.
§3. Мотивационио-ценностные основы педагогической деятельности. Преподавательская деятельность московской профессуры находилась в неразрывном единстве с научными занятиями. По мнению многих профессоров, педагогический труд как нельзя лучше стимулировал их собственную исследовательскую деятельность и составлял одну из важнейших ценностей как в общемировоззренческом, так и в нравственно-этическом отношениях. Преподавание было для многих из них неотъемлемой частью жизни, а, может быть, и самим образом жизни. Тип "кабинетного" ученого, занятого исключительно "чистой" наукой, встречался крайне редко, особенно в конце XIX в., когда стремительно возрос уровень социальной и интеллектуальной активности общества.
Важнейшей частью педагогической деятельности профессоров было чтение лекций. К ним готовились самым тщательным образом, стараясь донести до слушателей самые последние сведения в той или иной области научного знания. Помимо лекторского таланта почти всех профессоров отличала широкая эрудиция, философское осмысление научных проблем в сочетании с глубиной анализа и умение соединить теоретическое преподавание наук с практическими запросами жизни. Кроме того, профессора были разносторонне одаренными людьми, многим из них были присущи чувство юмора и артистизм, что также привлекало к ним молодежь.
В личностно-психологнческом плане профессоров отличали доброжелательность, толерантность, тактичность; грубость встречалась крайне редко. В отношении со студентами абсолютное большинство профессоров были открыты и доступны, они были искренне заинтересованы в общении с молодыми силами и потому предоставляли студентам широкие возможности для работы как в студенческих аудиториях, так и во вне учебное время. Традиции общения между профессорами и студентами создавали ту необходимую преемственность поколений, без которой успешное развитие науки вряд ли было бы возможно. Примером могут служить филологическая школа Ф.И.Буслаева и его ученика Н.С.Тихонравова, химическая школа В.В.Марковникова, школа сравнительного языкознания Ф.Е.Корша и
B.Ф.Миллера, исторические школы В.И.Герье, МСКорелина и П.Г.Виноградова,
C.М.Соловьева и его самого талантливого ученика В.О.Ключевского, геологическая школа Г.Е.Щуровского, географическая школа Д.Н.Анучина, физическая школа АГ.Столетова и П.Н.Лебедева, терапевтическая и педиатрическая школы Ф.И.Иноземцева и Н.Ф.Филатова.
Одной из существенных сторон преподавательской деятельности профессоров Москвы была работа в средних учебных заведениях. Для многих профессоров работа в гимназиях или училищах приносила весьма ощутимый доход. Однако с течением времени этот мотив переставал играть ведущую роль и уступал место профессиональному интересу. Работе в школе профессора отдавали не меньше сил, нежели преподаванию в вузах: они разрабатывали методики, писали учебники, организовывали для своих учеников экскурсии, а нередко на собственные средства они покупали недостающий инвентарь. Большой вклад в развитие школьного преподавания внесли А.Ю.Давидов, Н.С.Тихонравов, Н.В.Бугаев, А.И.Кирпичников, Ф.И.Буслаев. Их учебники и методические пособия неоднократно переиздавались и были настольными книгами нескольких поколений учителей. Учительство для профессоров являлось неотъемлемой частью той широкой просветительской миссии, которую выполняла русская наука в обществе, а основную задачу школы профессора видели в том, чтобы давать молодым людям не только профессиональное, но и широкое общее образование.
Многие профессора, помимо научно-педагогической деятельности, занимались административной работой. Отношение профессоров к администрированию (прежде всего вузовскому) было неоднозначным, преимущественно негативным и поэтому в системе ценностей карьеризм занимал едва ли не последнее место. Источники показывают, что очень немногим из них административная деятельность приносила удовлетворение; большинство же, напротив, говорили о принципиальной несовместимости администрирования с научными занятиями и преподаватель-
ской деятельностью. Однако нередко их вынуждала к тому серьезная причина -острая нехватка денег и невозможность содержать семью (особенно с большим числом детей) на профессорское жалованье. Поэтому, несмотря на выраженное негативное отношение большинства профессоров к служебной карьере, довольно высокий процент (около 30 %) совмещали научную и преподавательскую деятельность с исполнением административных обязанностей.
§4. Просветительская и общественно-культурная деятельность. Просветительство было неотъемлемой составляющей деятельности московской профессуры. Оно было вызвано внутренней потребностью актуализации научно-интеллектуального труда в сознании населения, повышение общественного интереса к научным и культурным проблемам, привлечение людей к занятиям наукой. Поэтому создание музеев и народных библиотек, организация экскурсий и выставок, курсов для рабочих, чтение публичных лекций, участие в различных научных обществах и съездах, широкая публицистическая деятельность были предметом их постоянной заботы. Выдающимися популяризаторами науки второй половины XDC-начала XX вв. были НЛГрот, К.А.Тимирязев, ФАБредихин, В.О.Ключевский, Г.Е.Щуровский, С.А.Усов, А.Г.Столетов, В.И.Герье, А.А.Остроумов, В.Ф.Лугинин, А.И.Чупров и др. Публичные лекции Тимирязева, Ключевского, Столетова, Богданова собирали тысячи слушателей, а многочисленные выставки (геологические, зоологические, физические), устраиваемые в Политехническом музее, на время их проведения становились центром интеллектуальной жизни Москвы.
В связи с анализом общественно-культурной деятельности московской профессуры встает вопрос, связанный с их политической позицией и участии в общественно-политической жизни Москвы. Как показал анализ источников, политика не —входгагв би'^овукпяилену^днш&гейтгчгоот^ были индиффирентна к вопросам политики.
Общественную активность профессуры (а она действительно была очень высокой) следует отличать от конкретной политической деятельности. Смешение этих позиций в историографии произошло вследствие изучения определенных социальных акций либеральной профессуры и главным образом ее участи в студенческом движении и последовательном отстаивании университетской автономии (деятельность "Академического союза"). Однако либерализм не исчерпывается идеологией и политической практикой, поэтому в отношении профессуры следует говорить прежде всего о ее либеральном умонастроении и мирочувствовании. Свою гражданскую позицию основная масса профессоров предпочитала реализо-
вывать не в политической практике, а через активную преподавательскую и общественно-культурную деятельность и косвенным образом через публицистику.
Третья глава "Повседневная жизнь московской профессуры". Изучение этого вопроса позволяет перенести акцент с внешней (деятельностной) характеристики группы на внутренний мир отдельной личности, подчеркнуть индивидуальные особенности поведения, чувствования и мировосприятия. Повседневная жизнь, с ее повторяемостью и некоторой "рутинностью" оказывает серьезное влияние на человека, обеспечивая предсказуемость его состояний, действий и взаимоотношений с другими людьми, придает ему дополнительные силы и стимулирует
7
творческие поиски .
Повседневную жизнь профессоров достаточно сложно отделить от их профессиональной деятельности. Повседневность профессуры, по сути дела, и представляла собой те "ритуалы", которые были связаны с научным и педагогическим трудом, это был тот центр, вокруг которого сосредотачивались все остальные события. Вместе с тем совершенно очевидно, что жизнь большинства профессоров не ограничивалась студенческой аудиторией или кабинетом, она была насыщена самыми разными событиями.
Исследование повседневной жизни профессуры проведено по трем направлениям. Первую группу составили вопросы, связанные с анализом условий жизни, круга интересов и системы отдыха. Во вторую группу вошли вопросы гендерной истории — брак, семья, воспитание детей, взаимоотношения полов и поколений. Однако учитывая особенности отношения профессоров к интимной стороне жизни (для некоторых, не нашедших личного счастья, подлинной семьей была профессорская корпорация, а детьми - их ученики), в рамках настоящей работы в эту область был включен весь круг проблем межличностного общения. К третьей группе относятся экзистенциальные и философско-мировоззренческие проблемы повседневности.
§1. Материальные параметры повседневности. Значительную роль в
структуре повседневности московской профессуры играли социальные и материальные параметры жизни, которые как бы задают "матрицу" повседневности, во многом определяют отношение к окружающим условиям и чувство социальной защищенности.
Из внешних факторов обыденной жизни определяющее значение имел уровень материальной обеспеченности профессоров. Для подавляющего большинства профессоров основным источником существования было жалованье и публицисти-
7 ШпакЛ И. Социолога повседневности. Кемерово, 2001. С.15.
ческая деятельность. Ограниченность в средствах вынуждала их отказывать себе во многом и буквально считать каждую копейку. Большинство профессоров вели довольно скромный образ жизни. Не привыкшие к роскоши, а многие с раннего возраста зарабатывавшие себе на жизнь, они довольствовались необходимым: небольшие квартиры, минимум вещей для работы и семейного отдыха, весьма скромное питание. В связи с этим важным аспектом повседневной жизни профессуры является анализ их состояния здоровья. Далеко не все профессора отличались крепким здоровьем, а некоторые из них - ПН.Лебедев, А.И.Кирпичников, НЛ.Грот, А.П.Лебедев, М.С.Корелин, ПН.Кудрявцев - всю жизнь страдали серьезными заболеваниями. Большое физическое и эмоциональное напряжение, связанное с интеллектуальным трудом, давление внешних обстоятельств крайне неблагоприятно отражались на здоровье. Любимое дело, безусловно, приносило глубокое нравственное удовлетворение, однако огромные физические и душевные затраты не всегда в полной мере компенсировались необходимым отдыхом, спокойной обстановкой, уверенностью в завтрашнем дне. Во многом поддерживать здоровье помогало профессорам строгое соблюдение распорядка дня, которому они следовали на протяжении многих лет, и который способствовал максимальной реализации их творческих способностей.
Интересы профессуры выходили далеко за рамки научных и околонаучных тем. Спектр увлечений был довольно широк: чтение, прогулки, музицирование, посещение выставочных и концертных залов, театров.
Несомненно ведущим интересом был интерес к литературе, воспитанный с детства. Чтение было неотъемлемой формой повседневной жизни профессоров, а сфера литературных интересов была чрезвычайно разнообразна: от античной поэзии и философии до современной отечественной и зарубежной классики. В круг чтения входили также сочинения по географии, природе, искусству, а также публицистические и философские произведения. Не чужды были профессора и высокой поэзии, некоторые обладали поэтическим чувством и сами писали стихи (А.И.Чупров, А.И.Кирпичников, ААОстроумов, Ф.Е.Корш, Ф.А.Бредихин, Н.В.Склифософский).
Многие профессора увлекались искусством и художественным творчеством — музыкой, театром, живописью, регулярно ходили на концерты, с большим удовольствием смотрели театральные постановки; среди них встречались настоящие знатоки драматургии и страстные театралы (Н.С.Тихонравов, А.А.Кизеветтер, А.И.Чупров). Среди прочих художественных интересов отчетливо прослеживается увлечение профессорами классическим искусством - живописью и скульптурой.
§2. Межличностные отношения в повседневной-жизни профессоров. Важным элементом, позволяющим воссоздать картину повседневной жизни, является анализ наиболее типичных форм взаимодействия людей, осуществляемых вне рамок профессиональных занятий. Центральное место в этом занимают вопросы, связанные с общением.
Круг общения профессуры Москвы был достаточно широк и во многом определялся их активной профессиональной и общественной деятельностью. В повседневной жизни большую роль играли встречи интеллектуальной и творческой элиты в салонах известных людей, куда нередко приглашались студенты. Можно сказать, что это была наиболее популярная форма общения и коллективного отдыха профессоров. На таких встречах обсуждались исторические и философские вопросы, а также вопросы текущей политики. Популярными центрами встреч профессорской интеллигенции в 1870-80-х гг. были дома И.ИЛнжула, А.И.Чупрова, САМуромцева, Н.И.Стороженко. Большой известностью пользовались также журфиксы В.И.Герье и ПХВиноградова. Неформальное общение в домах ученых способствовало не только душевному общению, но и направленному развитию науки, привлечению новых сил в научное сообщество.
Не менее значимым для профессоров было более тесное общение в кругу самых близких друзей и родных, которым поверялись самые сокровенные мысли и переживания. Поддержка и внимание друзей, ценились в. профессорской среде чрезвычайно высоко и поэтому профессора дорожили близкой дружбой. Доминирующими качествами в области межличностного общения в среде профессуры были надежность и бескорыстие, принятие человека таким, какой он есть — со всеми слабостями и странностями, недостатками и достоинствами. Искреннее желание помочь человеку, попавшему в затруднительное положение, ободрить, поддержать не только словом, но и делом, было широко распространено среди профессоров.
В меньшей степени профессора писали о своей личной жизни, которая по вполне понятным причинам пе предназначалась для посторонних. Тем не менее, область интимных человеческих чувств вовсе не была им чужда и многим профессорам удалось испытать сильные чувства, удалось встретить близкого по духу человека и разделить с ним успехи и разочарования, радости и горести. Как заметил В.И.Вернадский, "только семейная жизнь дает человеку то счастье и поддержку, которых не может заменить никакая дружба"8, Поэтому к созданию семьи относились очень серьезно, "понимая всю ответственность брачного шага"9. Присутствие рядом любимого человека было чрезвычайно значимо для успешной профессио-
* Вернадский В.И. Письма... Т.1. С.17. 9 Янжул И.И. Указ. соч. С.84.
нальной деятельности. Как и все творческие люди, профессора остро нуждались не только в "музе", но главное - в поддержке и понимании близких. Духовное родство любящих людей являлось для них источником огромной силы, которая помогала преодолевать жизненные преграды и трудности.
§3. Мировоззренческие проблемы в осмыслении профессуры. Важнейший пласт повседневности составляют так называемые экзистенциальные или смысло-жизненные вопросы: о Боге, жизни и смерти, добре и зле, счастье и любви, об осмыслении человеком себя во временной и исторической перспективе. Обращение к этой проблематике чрезвычайно важно для понимания общей картины мира, существующей в сознании людей конкретного общества в конкретный период времени. Не менее значимо изучение этих вопросов и для изучения структуры ценностных ориентации и основ индивидуального развития, поскольку они сущностно определяют всю иерархию жизненных ценностей и осознание их человеком позволяет выйти на новый уровень внутренней свободы, стать независимым от давления обстоятельств и сиюминутных проблем.
Среди философско-мировоззренческих проблем центральное место в размышлениях профессоров занимали вопросы, связанные с анализом религии как важнейшей социальной и этической доминанты жизни, в которой ими выделялись прежде всего общественно и нравственно значимые постулаты, размышления о смысле жизни и смерти, глубокий самоанализ и самоопределение по отношению ко времени и эпохе. Уровень самокритики многих из них был необычайно высок, по отношению к себе они были максимально честны и беспристрастны. При этом профессора отмечали, что в современном обществе потребность человека во внутреннем диалоге, в общении с самим собой была крайне невелика и заслонялась обыденными житейскими делами и проблемами. В.О.Ключевский назвал это явление "боязнью нравственного одиночества", вызванного все возрастающим темпом жизни и урбанизацией, когда "среди шума от езды по каменной мостовой не слышно колокольного звона"10. Подобные мысли, высказывавшиеся в среде интеллектуальной и творческой интеллигенции, были вызваны общим кризисом культуры и кризисом традиционных, устойчивых представлений о роли личности в истории и культуре. Поэтому размышления о самоопределении личности в меняющейся социокультурной ситуации, о необходимости внутреннего диалога были не очередным модным поветрием в среде российской элиты, а острейшей потребностью времени.
В заключении подводятся основные итоги исследования.
'Тамже. С.39.
Обращение к интеллектуальному наследию представителей русской интеллигенции дает возможность дальнейшего исследования места и роли образования и этики в сохранении "культурного слоя" нации. Московская профессура составляла ядро национальной интеллектуальной элиты, которую отличали сплоченность и ценностно-ориентационное единство в решении принципиальных вопросов развития науки, преподавания и культуры. Общеразделяемыми ценностями были морально-этический подход к оценке людей и научному творчеству, самоактуализация по отношению к сущностным вопросам бытия, высокий уровень рефлексии. Наука рассматривалась ими как одно из важнейших средств развития самосознания личности. Важнейшей составляющей научного труда профессоров было эмоционально-ценностное осознание своей принадлежности к профессорской корпорации. Профессура, наряду с деятелями литературы и искусства, стояла у истоков формирования нового типа личности и новых культурных связей. Она способствовала актуализации в модернизирующемся российском обществе идей рационализма, сциентизма, свободы личности и правового самосознания. Осознание общего социокультурного кризиса и серьезная обеспокоенность судьбой страны выдвигали на первый план осмысление многих научных проблем с позиций общеисторической перспективы и гражданской ответственности.
Приложение к диссертации состоит из алфавитного списка профессоров Москвы, систематизированных таблиц по источникам личного происхождения, словаря московских профессоров, представленного в виде просопографических анкет, сводных таблиц, отражающих структуру деятельности и систему ценностных ориентации профессуры.
1. Нике Н.Н. Московские профессора как школьные педагоги. //Преподавание ис-'тории и обшествознания в школе. 2002. №5. С.25-29. (0,2 п.л.)
2. Нике Н.Н. Московский университет в жизни профессорской интеллигенции Москвы второй половины ХК-началаХХ вв. //Проблемы отечественной истории. МГПУ. Вып.2. М.,2003. С.10-29. (1 пл.)
3. Нике Н.Н. Повседневная жизнь московской профессуры. //Ежегодник историко-антропологических исследований. М.,2003. С.202-217. (0,8 п.л.)
Слисок работ, опубликованных по теме диссертации:
Подл, к печ. 12.02.2004 Объем 1.25 п.л. Заказ № 46 ТИР. 100 Типография МПГУ
3529
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Никс, Наталья Николаевна
Введение.
Глава 1. Социоструктурная характеристика Московской профессуры.
§1. Численность и правовое положение.
§2. Социальный, возрастной и национальный состав.
§3. Имущественное и семейное положение.
Глава 2. Научная и преподавательская деятельность.
§1. Подготовка к научной деятельности: система воспитания и образования будущих профессоров.
§2. Эмоционально-ценностные и личностно-психологические основы научной деятельности.
§З.Мотивационно-ценностные основы педагогической деятельности.
§4. Просветительская и общественно-культурная деятельность.
Глава 3. Повседневная жизнь московской профессуры.
§1. Материальные параметры повседневности.
§2.Межличностные отношения в профессорской среде.
§3. Мировоззренческие проблемы в осмыслении профессоров.
Введение диссертации2004 год, автореферат по истории, Никс, Наталья Николаевна
Настоящее исследование посвящено изучению московской профессуры второй половины XIX - начала XX вв. Проблематика исследования непосредственно связана с современной ситуацией в гуманитарных науках, для которых характерны историко-культурный и антропологический повороты, междисцип-линарность подходов, перенос фокуса и методов исследований с макро- на микроуровень, обращение к истории малых общественных групп и частной жизни отдельной личности. Антропологически ориентированный подход предполагает изучение взглядов, мнений, настроений людей, их личных и групповых пристрастий, особенностей межиндивидуального общения, способов взаимодействия человеческих психологий и структуры ценностных ориентаций. Для изучения этого круга проблем нового и новейшего времени, как правило, используются источники личного происхождения - мемуары, дневники и письма, которые позволяют глубже и полнее реконструировать процессы, протекавшие в сознании людей прошлых эпох и извлечь сведения как о неповторимой индивидуальности каждого автора, так и о массовых социально-психологических явлениях. В этом случае взгляд на историю как на поле проявления разнообразных социальных, политических и экономических закономерностей дополняется рассмотрением истории как деятельности людей, а изучение психологических механизмов человеческой деятельности позволяет избежать схематизма1 и наполняет историю конкретным живым содержанием.
История отечественной профессуры является составной частью истории русской интеллигенции и русской культуры, поэтому социокультурное исследование невозможно провести вне общего контекста историко-культурного развития страны, вступившей во второй половине XIX века на путь модернизации. Эпоха Великих реформ была рубежом не только в социально-экономической жизни России, но и оказала огромное влияние на многие стороны общественно-культурной жизни, социальный и духовный облик населения,
1 Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х тт. Таллинн, 1992. T.I. С.298. способствовали углублению культурных интеграционных процессов, что приводило к расширению культурного пространства, изменению общественно-культурной среды, трансформации всей системы ценностей, сменой познавательных и мировоззренческих парадигм. Идеи культуры "модернити", провозглашавшей приверженность рационализму и сциентизму, социальному равенству и личной свободе, индивидуализму и готовности человека к непрерывному самоизменению, потребность в правовых нормах и политических институтах, находили живой отклик в среде российской интеллигенции и прежде всего ее интеллектуального ядра. Несмотря на свой противоречивый характер, российская модернизация объективно содействовала актуализации творческих начал личности и распространению культурных новаций, особенно в сфере просвещения, а также развитию новых форм коммуникаций и культурных связей.
История профессуры неразрывно связана с историей высшего образования в России, отличительной чертой которого было существование двух образовательных тенденций - прагматической и гуманитарной. Первая из них берет свое начало от петровских реформ и непосредственно связана с решающей ролью государства в социально-правовом оформлении высшей школы. Глубокие трансформации, сопровождавшие развитие национальной культуры в первой половине XVIII в., привели к тому, что существовавшие до этого представления о воспитании и образовании на основе принципов христианского просвещения "верой" и "мудростью", уступают место принципам государственной необходимости и целесообразности. С этого момента и вплоть до начала XIX в. высшая школа рассматривалась с утилитарной, прагматической точки зрения как источник подготовки специалистов разного профиля для нужд государства, а собственно наука виделась исключительно как инструмент для решения государственных проблем. Поэтому практицизм, как принципиальная особенность историко-культурного процесса в петровскую и постпетровскую эпоху, оказал существенное влияние и на развитие высшего образования и "ученого сословия". Во второй половине XIX века, в условиях модернизации этот процесс был завершен путем создания сети специальных' и народно-хозяйственных учебных заведений, подчиненных потребностям буржуазного развития страны2.
Вторая тенденция - гуманитарная, ориентированная не только приобретение практических знаний и навыков, но и на раскрытие творческого потенциала личности, начинает развиваться несколько позднее, в начале XIX в. С этого момента наука и просвещение призваны были не только решать насущные потребности государства, но и становились необходимым средством для "раскрытия добродетели и свободы граждан"3. Задача науки состояла теперь не только в реализации интересов государства (прежде всего технико-экономических), но и в формировании творчески активной и свободной личности. Изменилась и роль ученых: тип "кабинетного" мыслителя, преобладавшего в начале столетия, постепенно уступает место профессору-практику, активному общественному и культурному деятелю.
Во второй половине XIX в. в условиях модернизации эти процессы получили естественный стимул для своего развития. Атмосфера первых пореформенных десятилетий, либеральный общественный подъем способствовали "необычайным успехам умственного движения" (К.А.Тимирязев). В этот период многократно возросла роль интеллектуального труда, вырос авторитет отечественной науки и "ученого сословия". Во второй половине XIX-начале XX вв. выдающиеся успехи были достигнуты в самых разных областях научного знания: физике, химии, теоретической и прикладной механике, геологии, биологических науках, медицине, языкознании, истории, юриспруденции, литературоведении4. Крупные научные школы получили не только общероссийское, но и мировое признание: в России проводились международные научные съезды, русские ученые избирались почетными членами европейских академий и научных обществ. Особое место в этом принадлежало Москве - крупнейшему научному и культурному центру страны. Здесь существовала устойчивая традиция
2 Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX-начале XX вв. М.,1991. С.З. Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М.,2000. С.8.
4 См. Приложение №3. "Словарь московских профессоров". подготовки научных и профессиональных кадров, а в московских учебных заведениях было сосредоточено до 1/5 всех профессоров страны.
Стремительный взлет, совершенный отечественной наукой во второй половине XIX века, представляется особенно значимым в связи с тем, что русская наука не имела длительной исторической традиции, как, например, европейская наука, а отечественная профессура, зародившаяся только в конце XVIII-начале XIX веков, оформилась в особую социальную общность лишь к середине позапрошлого столетия. Но, несмотря на сравнительно позднее социально-правовое оформление профессуры, ее роль в развитии отечественной культуры была чрезвычайно велика и включала в себя широкий спектр не только научно-педагогических, но и общественно-культурных и просветительских начинаний.
Актуальность данного исследования состоит прежде всего в новом подходе к постановке проблемы. Работа написана в русле "новой социальной истории", ориентированной на изучение малых социальных групп. Именно изучение малых групп, по мнению социологов, позволяет глубже исследовать социально-психологические процессы, протекавшие в сознании людей прошлых эпох, а также проникнуть во внутренний мир отдельной личности. Кроме того, использование широкого комплекса источников (в том числе тех, которые до недавнего времени оставались вне поля зрения ученых) и применение новых методах работы с ними также позволяет говорить об использовании принципиально новых методах и подходах исследования.
Объектом настоящего исследования является московская профессура. Выбор географических рамок работы определяется прежде всего фактором значимости Москвы как крупнейшего культурного и научного центра, вокруг которого шел процесс кристаллизации интеллектуальных сил страны. На протяжении всего исследуемого периода, несмотря на открытие все большего числа вузов в различных городах России, в Москве была сосредоточена большая часть (15 - 20%) всех профессорских кадров.
Предмет исследования составил анализ научно-педагогической и культурно-просветительской деятельности московских профессоров, который представлен в контексте анализа их системы ценностных ориентации, социально-психологических установок и структуры повседневной жизни, традиций общения и взаимодействия в межличностном и социокультурном пространстве Москвы второй половины XIX- начала XX столетий.
Целью данного исследования является раскрытие индивидуально-ценностных и социально-психологических основ научной и педагогической деятельности как системообразующих элементов мировоззрения московской профессуры, определение ее места в историко-культурном пространстве модернизирующегося российского общества. Реализация этой цели достигается путем решения следующих исследовательских задач:
1. Социоструктурное изучение данной группы в историческом контексте и определение ее удельного веса среди интеллигенции высшей школы России второй половины XIX-начала XX вв.
2. Выявление всего корпуса документов личного происхождения (прежде всего опубликованных) для проведения социокультурного исследования данной группы.
3. Разработка базы данных и составление прососпографических анкет на каждую персоналию.
4. Анализ системы ценностей и доминирующих социально-психологических настроений.
5. Определение мотивационных, этических и эмоционально-ценностных основ научной и преподавательской деятельности.
6. Воссоздание дружеских и духовных связей и структуры повседневности профессоров.
7. Определение преобладающего социального типа личности и степень психологической сплоченности данной общности.
Методологическая основа. Работа написана в русле новой социальной истории, где в настоящее время сложилось три основных подхода: социост-руктурный, социокультурный и личностно-психологический, которые нашли отражение в настоящем исследовании. С точки зрения базовой макрообъяс-нительной модели в работе использовались принципы цивилизационного подхода и теории модернизации. Работа носит междисциплинарный характер, что сделало возможным использование теоретических моделей среднего уровня, заимствованных из других наук - преимущественно психологии, социальной антропологии и социологии. Использование методов психологии позволило исследовать вопросы взаимосвязи "внутренней" и "внешней" (поведенческой) сторон деятельности, остановить внимание на изучении "Я-концепции", провести исследование мотивационно-ценностных и эмоциональных основ научно-педагогической деятельности. Использованные в работе методы социальной антропологии - исторический и сравнительный -позволили рассмотреть отдельную личность и группу в целом как целостный социокультурный феномен, конкретные жизненные формы которого имеют три измерения: материальный аппарат жизнедеятельности, поведенческие технологии и символические аспекты (общие идеи и смыслы). Из социологии был заимствован метод деятельностного анализа личности, основополагающей детерминантой которого является тезис о том, что деятельность обуславливает сущность и структуру личности и что только посредством деятельности реализуются связи человека с обществом. Таким образом, социологический анализ личности профессоров был направлен прежде всего на выяснение способов ее соотнесенности в обществом, который выражается в структуре личности - системе статусов и ролей. Из специально-научных методов в работе были использованы историко-системный, историко-сравнительный и историко-генетический методы. В качестве конкретной методики работы с документами личного происхождения, которые составили основную источниковую базу исследования, применялся метод ретроспективного анкетирования. Появившись в социологии, этот метод сейчас широко применяется во многих отраслях общественных наук в первую очередь при исследовании социокультурных явлений, внутреннего мира людей, их взглядов и ценностей.
Историография
Профессура составляла интеллектуальное ядро отечественной интеллигенции, вопрос о роли которой в российской истории по сегодняшний день остается одним из самых дискуссионных. Этой проблематике посвящен ряд работ современных исследователей, а также многочисленные статьи и сборники научно-практических конференций, регулярно проходящих на базе Московского, Ивановского и Екатеринбургского университетов5. В рамках данной широкой проблемы за последние годы существенно возрос интерес к истории отдельных групп интеллигенции, в том числе и отечественной профессуры. Во многом это объясняется тем, что в советское время история профессорской интеллигенции и история высших учебных заведений дореволюционной России не относились к числу популярных предметов исследования отечественных ученых. Учебный процесс, состав студенчества и профессорской корпорации, подготовка кадров специалистов для различных сторон жизни общества, развитие науки и многие другие проблемы - все это трактовалось как предметы, далекие от актуальности. Главной причиной этого был приоритет в изучении социально-экономических и политических процессов и человеческое наполнение истории не было предметом специальных исследований. Изучение жизни небольших групп людей и отдельных индивидов с точки зрения анализа психологических установок, особенностей мышления и поведения, системы ценностей выходило за рамки глобальных схем, а потому оставалось без внимания ученых.
5 Гудков Л.Д. Интеллигенция. М., 1999;//Интеллигент и интеллигентоведение на рубеже XXI в.: итоги пройденного пути и перспективы. Иваново, 1999;//Интеллигенция в истории. Образованный человек в представлениях и социальной действительности. М.,2001; //Интеллигенция и российское общество в начале XX в. Спб.,1996; //Интеллигенция России в конце XX в.: система духовных ценностей в исторической динамике. Екатеринбург, 1998;//Интеллигенция России: Уроки истории и современность. Иваново, 1994;//Историческое знание и интеллектуальная культура. М.,2001; //Социальный статус и имидж гуманитарной интеллигенции. М.,2001 и др.
Однако нельзя утверждать, что вопросы истории российской профессуры не изучались вовсе. Так, в дореволюционное и, главным образом, в советское время был создан обширный комплекс трудов о старейших высших учебных заведениях России. Существуют также и дореволюционные юбилейные издания, составленные чиновниками ведомства Министерства народного просвещения, а также профессорами и преподавателями вузов.
В середине 80-х гг. наблюдается значительное оживление в историографии российской высшей школы, с началом 90-х гг. постепенно меняется и общая оценка значения системы высшего образования, и в первую очередь университетов, в развитии русской культуры и создании интеллектуальной базы, составляющей фундамент каждого цивилизованного общества. В настоящий момент уже создана значительная литература по истории отечественной высшей школы, истории университетов, поэтому представляется целесообразным остановиться на наиболее крупных трудах и на некоторых специальных сборниках статей.
В ряде работ освещаются различные аспекты организационной, общественной, научной жизни российских университетов, уделено значительное внимание развитию высшего образования и науки в связи с деятельностью того или иного профессора. Имеются также исследования по истории развития отдельных научных дисциплин и процесса их преподавания. Затрагиваются вопросы взаимоотношений российских университетов с западноевропейскими учеными. Специальное исследование посвящено роли Московского университета в развитии культуры XVIII в.
Вместе с тем, работ, посвященных изучению отечественной профессуры, сравнительно немного. Вопросы, связанные с изучением происхождения, правового и материального положения, возрастного и национального состава российской профессуры подробно рассмотрены в монографиях В.Р.Лейкиной-Свирской, Г.И.Щетининой, Р.Г.Эймонотовой, А.Е.Иванова6. В работах этих ис
6 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М.,1971; Она же. Русская интеллигенция 1900-1917. М., 1981; Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976; Она же. ИдеПная следователей собран большой фактический материал по социальной характеристике российской профессуры, проблемам формирования профессорско-преподавательского корпуса и той роли, которую они играли в научной и общественно-политической жизни.
Книга Р.Г.Эймонтовой "Русский университеты на грани двух эпох" характеризует историю российских университетов в 40-60-х гг. XIX в. Пять университетов - Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский и Киевский - показаны как центры просвещения и научной жизни России. Автором использован богатый корпус источников, в котором большое место отводится воспоминаниям современников, прессе, публицистике. В работе рассматриваются взаимоотношения университетов с властью, оценивается университетская политика Николая I и Александра II, время правления которого оценивается как переломное в истории отечественной науки и высшей школы. В книге дается характеристика деятельности профессоров, показано, как в новых условиях менялся характер преподавания, постепенно повышался его уровень, как университеты становились центрами научной и культурной жизни, отмечено расширение просветительского влияния университетов в обществе. Рассматривается и проблема участия университетских ученых в общественной жизни, приводятся сведения о социальном составе профессуры. Вместе с тем, автор стремится избежать узко социологического подхода к изучению российской высшей школы и ее профессорского состава и пытается ввести проблему в контекст развития отечественной культуры. Именно через университеты, по мнению автора, шло распространение знаний и культуры в самые широкие слои населения. "Неслучайно, - пишет исследовательница, - даже из столичного университета в рядах высшей бюрократии оказался лишь весьма малый процент выпускников. Гораздо больше дал он видных деятелей для науки, беллетристики и публицистики. Профессора выступали как культурные деятели на самых различных пожизнь русской интеллигенции. М.,1995; Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985; Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX-начале XX вв. М.,1991; Он же. Ученые степени Российской империиХУШ в. - 1917 г. М.,1994. прищах: писатели, поэты, журналисты"7. Однако вопросы, связанные с актуализацией личностного начала и системы ценностных ориентаций, затронуты в работе лишь косвенно в связи с признанием за просветительскими идеями общечеловеческих гуманистических ценностей личности, свободы и права, которые находили живой отклик среди большинства профессоров.
Сходной тематике посвящена сравнительно новая работа Г.И.Щетининой "Идейная жизнь русской интеллигенции конца XIX - начала XX вв." Наряду с общим анализом исторической ситуации, деятельности крупнейших представителей российской научной и творческой интеллигенции, автор отдельно останавливается на проблемах развития русской науки и деятельности русских ученых. Особое внимание обращается на взаимоотношения "ученого сословия", государства и общества. Автор неоднократно подчеркивает, что деятельность русских ученых не пользовалась в полной мере поддержкой государства. В первую очередь это касалось финансирования научных разработок и поэтому многие проблемы в науке разрешались благодаря огромным усилиям самих ученых. В силу незаинтересованности государства в объединении научной интеллигенции, по личной инициативе ряда ученых стали читаться публичные лекции, открываться научные общества. Все это свидетельствовало, как утверждает автор, не только о возрастании роли науки, но и о повышении статуса о профессоров в глазах общественности. Быть ученым становилось престижным . Автор высоко оценивает вклад ученых в развитие русской культуры в целом, однако в своем исследовании не идет дальше общих характеристик и выводов, не объясняет мотивов столь бескорыстного служения науке и обществу.
Подробная история всех российских университетов, их организационное устройство и деятельность, подготовка кадров, система научной аттестации представлены в трудах А.Е.Иванова. Первый из них - "Высшая школа России в конце XIX - начале XX вв". - представляет собой фундаментальное исследование об университетах периода предоктябрьского двадцатипятилетия. Работа эта
7 Эймонтова Р.Г. Указ. соч. С. 235. * Щетинина Г.И. Указ. соч. С. 142-143. во многих отношениях новаторская. Она содержит скрупулезный анализ документов официального характера - как архивных, так и изданных. Привлечены и другие виды источников. Материал обработан аналитическим методом, что нашло отражение в многочисленных таблицах. А.Е.Иванов характеризует все типы 120 существовавших в России высших учебных заведений, уделяя главное внимание университетам. Рассматриваются их организационная структура, финансирование, правовое положение, социальный и национальный состав профессорской корпорации и студентов, их численность, система подготовки профессорско-преподавательского состава, его общественно-политический облик. Разобраны также профессиональная структура специалистов высшей квалификации, социальный статус выпускников университета, место женщин в российской высшей школе. Автор выясняет значение высшей школы в системе самодержавного государства, обслуживание его потребностей, в какой мере высшая школа укрепляла существующий режим и в какой, напротив, способствовала созреванию подрывавших его условий. В монографии подчеркивается факт постепенного роста количества высших учебных заведений в России с 90-х гг. XIX в. до 1917 г. В то же время ясно показано, что Россия отставала от Запада, а консервативное правительство тормозило развитие высшего образования. Материалы данной книги дают основание заключить, что высшая школа в России, несмотря на многие стоявшие перед ней проблемы, находилась на подъеме. Именно в предреволюционое пятнадцатилетие университетская наука, например, в области гуманитарных дисциплин, достигла больших результатов, что опровергает господствовавшую в советское время теорию об общем кризисе культуры в России предреволюционного периода.
Во второй книге А.Е.Иванова - "Ученые степени в Российской империи XVIII в. - 1917 г." речь идет о подготовке научно-педагогических кадров и способах установления их должностной квалификации. Эта работа также построена на богатой документальной базе, основу которой составляют законодательные и нормативные акты по ведомству министерства народного просвещения и
Святейшего правительственного синода, касающиеся присуждения ученых степеней. Кроме того, в монографии использованы документы архивов, мемуары, произведения научной публицистики. На основании этих источников автор прослеживает историю выработки юридического статуса, организационных форм, технологии функционирования института научной аттестации. В заключение автор приводит интересные цифры об общем числе защищенных магистерских и докторских диссертаций: за 120 лет в российских вузах их было защищено около 8 тысяч по истории, философии, юриспруденции, естествознанию, медицине, богословию. Именно обладатели ученых степеней, по мнению автора, и составляли костяк отечественной научной элиты9.
Современный историографический этап отмечен рядом интересных публикаций по данной проблематике. Отличительной его особенностью является то, что исследователи стремятся выйти за рамки устоявшихся схем и изучать проблемы развития высшей школы с позиций историко-культурного подхода. В первую очередь это касается работ, посвященных истории российских университетов. Среди них следует отметить вышедшие за последние пять-шесть лет работы Ф.А.Петрова, Е.С.Ляховича и А.С.Ревушкина, А И.Авруса, А.Ю.Андреева'0. Не умаляя значения результатов работы предшественников, авторы стремятся перенести основной акцент в культурологическую плоскость, показывая степень взаимосвязи университетов и культурной жизни России XVIII-начала XIX вв.
Большой интерес представляет работа Е.С.Ляховича и А.С.Ревушкина "Университеты в истории и культуре дореволюционной России", в которой авторы не только останавливаются на анализе роли университетов как научных и культурных центров, но и излагают различные теории университета, историю развития университетского образования в Западной Европе, дают типологиза
9 Иванов А.Е. Указ. соч. С. 185.
Петров Ф.А. Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX в. М.,1998; Он же. Формирование системы университетского образования в России в первой половине XIX в. М., 1999; Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск, 1998; Аврус А.И. История российских университетов. Саратов, 1998; Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М.,2000; "Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII в." М.,1997. цию университетов и их сравнительную характеристику. Вместе с тем профессорско-преподавательская интеллигенция изучается исключительно в контексте развития науки и взаимоотношений со студентами; социально-психологические аспекты жизни профессорской корпорации не являются предметом специального рассмотрения.
В 1997 г. в Москве вышел весьма внушительный по объему и чрезвычайно интересный по содержанию сборник под названием "Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII столетия". Авторы отмечают, что при довольно большом количестве работ, посвященных Московскому университету, его история изучалась главным образом как история учреждения, а не как история университетского человека или университетского духа. В отличие от традиций прошлых лет, отразившихся в литературе о московских профессорах, студентах и т.п., авторы названного сборника задались целью выяснить ту роль, которую играла в российской культурной жизни профессорская интеллигенция. Для этого необходимо, по их мнению, анализировать культурную среду, социально-культурные учреждения, культурное пространство, исследовать менталитет "человека университета". Поставив перед собой такую задачу, авторы впервые в нашей историографии пытаются решить ее на основе рассмотрения следующих проблем: истоки университетов, зарождение системы университетского образования в России, университетское пространство, профессора и студенты, университет в сфере культуры XVIII в. При определенных отличиях в оценках разбираемых явлений и процессов, все авторы едины в том, что заслуга университета состоит не только в просвещении учащихся, но главным образом в формировании новой личности, коренным образом изменившей русское общество в XIX в.
В данном ключе написано новое интересное исследование по истории Московского университета в начале XIX в. А.Ю.Андреевым. Автор подробно анализирует внутреннюю жизнь университета, преподавание наук и научную деятельность, дает яркую характеристику профессоров и их взаимоотношения не только со студентами, но и с остальными сословиями российского общества, в первую очередь дворянами. Не оставляет без внимания исследователь и вопросы, связанные с социально-психологическими характеристиками московской профессуры начала XIX столетия: круг общения, привычки, образ жизни, ценностные ориентации и мировоззренческие ориентиры. Автор подчеркивает, что Московский университет выступал не только в качестве мощного аккумулятора идей. Не только притягивал к себя мыслящую часть "молодой России" и передавал ей накопленные знания, но и "безотчетно содействовал формированию новых культурно-общественных связей, способа мыслей и характера действий"1Можно с уверенностью сказать, что данная работа выгодно отличается от тематически близких к ней исследований и является первым серьезным шагом использования новых методологических принципов в изучении интеллектуальной истории России.
Уникальное сочинение по истории российских университетов вышло в 1998. Его автор - Ф.А.Петров - много лет разрабатывает университетскую проблематику. Труд, о котором идет речь, называется "Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX в." и состоит из трех томов. Центральное внимание в нем уделяется вопросу, почти не разработанному в отечественной историографии - о сложной, синтетической картине становления системы университетского образования в России. Ценность работы составляет также богатая источниковая база: материалы официального делопроизводства, университетская и министерская публицистика, личные архивные фонды университетских профессоров, их научные работы, переписка и мемуаристика. Большая часть этих материалов представляет собой архивные документы, еще не вводившиеся в научный оборот, которые позволили автору не только впервые осветить ряд проблем в истории университетского образования в первой трети XIX в., но и по-новому оценить ранее известные факты, опровергнуть расхожие несправедливые оценки. Андреев А.Ю. Указ. соч. С.7.
Большое внимание автор уделяет реформам в сфере образования в начальные годы царствования Александра I и разработке первого университетского устава 1804 г., особенно подчеркивая новый подход к целям образования как к подготовке не только профессиональных ученых, но и всесторонне образованных граждан. Автор отмечает большое значение университетов как культурных центров всей России, от которых концентрическим кругами расходились по огромной территории страны импульсы интеллектуальной жизни, прогрессивные идеи, к которым тяготели молодые силы всей империи.
Автору удалось проследить процесс превращения российских университетов первой трети XIX в. в главные центры просвещения, науки и культуры страны. Впервые осуществлено многоплановое изучение университетской профессуры эпохи, много нового найдено для характеристики студенчества. Автор четко определил отличительные черты системы университетского образования в России - несмотря на то, что первоначальная идея их устройства была заимствована из-за границы. Одна из наиболее характерных черт российских университетов - их государственный характер при наличии университетской автономии и свободе профессиональной деятельности в области преподавания наук и нравственного воспитания молодежи.
Анализ современной историографической ситуации по изучению проблем высшего образования и в первую очередь университетской проблематики приводит к выводу, что несмотря на появление в последние годы безусловно интересных и значимых работ, профессура не стала предметом специального изучения: этому вопросу посвящены лишь отдельные главы, а то и параграфы монографических исследованиях по первой половине XIX в. По второй половине столетия работ подобного характера нет.
Среди зарубежных исследователей к проблеме изучения истории высшей
12 школы России XIX века обратилась Т.Маурер . Исследовательница рассматривает профессорскую интеллигенцию как часть интеллигенции вообще, рассмат
12 Маурер Т. Преподаватели высшей школы в царской России. Кельн. 1998. (Рецензия //Отечественная история. 2000 № 6). ривая последнюю с сугубо западных позиций, то есть не как духовную общность, а как образованный верхний слой общества. Университетская профессура изучается в книге в сравнительно-историческом аспекте, прежде всего в сравнении с Германией.
Автор дает характеристику профессуры как социальной группы на материале "коллективной биографии", определяет ее роль в общественной жизни и политике дореволюционной России, анализирует различные коммуникативные формы, сложившиеся в профессорской среде. Выводы, к которым приходит автор в итоге работы, не противоречат устоявшейся и по существу верной точке зрения об исключительно весомой роли профессорской интеллигенции в деле развития просвещения и культуры России. Исследовательница акцентирует внимание на высоком профессиональном самосознании этой группы и утверждает, что профессорская интеллигенция служила важной экспертной группой и в канун революции 1917 года являлась зрелым элементом гражданского общества.
В целом, современный этап в развитии отечественной историографии высшей школы характеризуется устойчивым интересом исследователей к данной проблеме, хотя многие вопросы остаются вне поля зрения ученых. Большинство работ носят обобщающий характер, конкретно-исторических исследований, прежде всего на местных материалах, явно недостаточно. В то же время развитие современного гуманитарного знания позволяет поставить в центр внимания при изучении профессорской интеллигенции именно духовную жизнь человека, показать изменение его картины мира, ценностных ориента-ций. Становится возможным расширить категориальный аппарат, используя такие понятия, как культурная среда, социокультурные учреждения, культурное пространство, мировоззренческие ценности, универсалии культуры, менталитет и многие другие. В рамках историко-культурного подхода появились широкие возможности для написания истории людей и задать вопросы, которые диктуются нашим временем и достигнутым уровнем изучения культуры.
Источники
Круг источников, используемых в работе, обширен и многообразен. Их можно разделить на несколько групп в зависимости от конкретных задач исследования.
Для подсчета численности профессоров и преподавателей московских высших учебных заведений, исследования его сословной, национальной, возрастной структуры, их правового и материального положения использовались официальные документы: уставы и штаты учебных заведений13, годичные акты
14 15 и отчеты вузов , отчеты министра народного просвещения , списки лиц, служащих по ведомству министерства народного просвещения, а также тех министерств, в подведомстве которых находилось то или иное учебное заведение: министерство земледелия и государственных имуществ, министерство внутренних дел, министерство путей сообщения, министерство торговли и промышленности16. Кроме того, необходимый статистический материал по численности преподавателей московских вузов был почерпнут из справочной литературы17 и данных переписи Москвы за 1902 г.
В информативном плане далеко не все статистические источники равноценны. Так, списки лиц, служащих по министерству народного просвещения содержат всю необходимую информацию только за 1862, 1902, 1913 и 1916 гг.
13 Устав Петровской земледельческой и лесной академии. Спб. 1865; Устав и штат Петровской земледельческой и лесной академии на 1873г.; Устав Императорского технического училища ( 1895 ).; Свод штатов и дополнительных к ним постановлений, действующих по министерству народного просвещения на 1863 г. Спб. 1865.
14 Годичный акт Московской духовной академии. 1 октября 1885, 1900, 1910 гг.; Годичный акт Петровской земледельческой и лесной академии за 1888 г.; Краткий отчет Императорского технического училища за 1870-1909 уч. гг., за 1912-1913 уч. гг.; Отчет о состоянии Императорского технического училища за 1872 - 1893 уч.гг.; Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета. 1855 - 1916.; Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета и состоящих при нем ученых обществ. M.I856 - 1905.
15 Извлечения из всеподданнейшего отчета министра народного просвещения за 1854, 1874, 1883, 1897, 1899, 1901 уч. гг.
16 Список лиц, служащих по ведомству министерства народного просвещения за 1887, 1890, 1902, 1913, 1916 гг.; Краткие статистические сведения по подведомственным департаменту земледелия сельскохозяйственных учебных заведений. Пг. 1915; Статистические сведения о состоянии учебных заведений, подведомственных учебному отделу министерства торговли и промышленности на 1912 - 13 уч. год. Пг. 1914, на 1914 - 15 уч. год. Пг.1917
17 Сборник справочных сведений по министерству народного просвещения за 1862 и, частью, за 1863 и 1864 гг. Спб. 1864; Адрес-календарь учебных, промышленных и торговых заведений.для г. Москвы. M.I868; Вся Москва за 1875, 1887, 1897, 1913, 1916 гг.; Москва в цифрах с начала века до наших дней. М.1997; Статистический атлас г. Москвы: территория, состав населения, грамотность и занятия. М. 1911; Г. Москва. 1904 г. Тетр.2.
В источниках за другие годы зафиксирована лишь общая численность преподавателей того или иного учебного заведения, поэтому полное исследование субсоциальной характеристики московской профессуры можно было провести на основе данных только за эти годы.
Большую ценность при подсчете численности профессоров и преподавателей Москвы представила справочная энциклопедия " Вся Москва ". В ней содержатся не только поименные списки всех преподавателей, но также данные о совместителях, что помогает установить более точную цифру количества профессоров. В меньшей степени были использованы статистические атласы Москвы и данные переписи 1902 г., поскольку преподаватели вузов в них не выделены в отдельную группу, а объединяются с деятелями литературы, искусства, публицистами и журналистами. Поэтому естественно, что итоговая цифра оказалась сильно завышенной и не могла соответствовать реальному положению дел.
Вторую группу источников составляют документы личного происхождения: мемуары, письма, дневники, записные книжки. Именно эти источники позволяют реконструировать социально-психологические процессы, протекавшие в сознании людей прошлых эпох, позволяют извлечь сведения как о неповторимой индивидуальности каждого автора, так и о массовых психологических явлениях. Центральное место в этой группе источников занимают мемуары. По мнению одного из наиболее авторитетных исследователей - А.Г.Тартаковского - мемуаристика является одним из показателей уровня цивилизованности общества, его сознательного отношения к своему прошлому. В мемуарной литературе находят отражение переломные этапы развития самосознания личности, понимание ею себя в постоянно меняющемся мире .
В источниковедческой литературе19 подробно изучен вопрос об особенностях мемуаристики, исследователями выявлен ряд характерных свойств мемуаров, в числе главных из которых - субъективность. По мнению
Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII - первой половины XIX вв. M.I991. С.З
14 См. работы Дмитриева С.С., Тартаковского А.Г., Варшавчика М.А., Минц С.С.
М.А.Варшавчика, субъективность не есть тенденциозность, это особое качество мемуарной литературы, а непосредственные впечатления автора являются организующим началом мемуаров и определяют их структуру. Субъективная природа мемуаров, считает С.С.Минц, - это отражение в источниках индивидуальных качеств автора, его личных взглядов, жизненного опыта, которое про
20 является в стремлении осмыслить события прошлого .
Другим важным видовым свойством мемуаров является то, что данный вид источников представляет собой в первую очередь результат становления •самосознания личности и одновременно один из способов осознания ее взаимоотношений с социальными группами различных масштабов21. Этот момент представляется чрезвычайно важным в контексте данной работы, поскольку профессорская интеллигенция в силу общности образования, рода занятий, образа жизни, мировоззренческих ориентиров, как никакая другая группа российского общества осознавала принадлежащей себя к международному братству людей науки, быть членом которого одновременно и большой почет и огромная ответственность.
Корпус мемуаров профессорской интеллигенции имеет свои особенности. Во-первых, профессуру отличает высокий оценочный уровень, в анализе событий прошлого доминируют, как правило, не эмоции, а обдуманные, взвешенные подходы, диапазон описываемых событий, явлений, размышлений очень широк. Во-вторых, профессура отличалась обостренным чувством долга по отношению к потомкам, что побуждало мемуаристов к критическому осмыслению прошлого, стремлению максимально объективно отобразить события своей жизни, избегая субъективизма. В-третьих, степень подробности, эмоциональная насыщенность описываемых событий напрямую зависели от профессиональной специализации автора - был ли он ученым-естественником или гуманитарием. Анализ источников наглядно показал, что большую часть как опубликованных, так и неопубликованных мемуаров оставили после себя профессора историки,
20 Минц С.С. Мемуары и российское дворянство. Спб. 1998. С.80-81
21 Там же. С.84. правоведы, филологи, то есть представители гуманитарных наук. В гораздо меньшей степени мемуаротворчеством занимались математики, химики, физики, геологи, астрономы. Во многом это объясняется природной склонностью гуманитариев к литературному творчеству, математики и физики предпочитают общаться языком цифр и формул. Однако нужно отметить, что далеко не все профессора-гуманитарии оставили после себя воспоминания. Причиной тому была предельная занятость многих ученых: совмещение научной и педагогической деятельности иногда в нескольких вузах, выполнение административных функций, а также организация выставок и чтение публичных лекций - все это требовало больших затрат времени и сил и, зачастую, не оставляло времени на написание мемуаров. Преждевременная смерть (Н.Я.Грот, В.О.Ковалевский, П.Н.Кудрявцев и другие) в расцвете творческих сил также прерывала начавшуюся литературную деятельность.
Давая характеристику источников, нельзя обойти вниманием такой важный с точки зрения осмысления самосознания личности вопрос, как цель создания мемуаров. Для одних на первый план выходила их публичная деятельность и поэтому мемуары писались изначально с "прицелом" на публикацию, а свою задачу авторы видели прежде всего в наиболее полном и достоверном освещении тех событий, которые имели большой общественный резонанс и оценку собственной личности давали преимущественно с позиций инкорпорирован
22 ности в общественную жизнь . К таковым источникам относятся, например, воспоминания Б.Н.Чичерина, С.М.Соловьева, В.В.Марковникова, И.И.Янжула, А.А.Кизеветтера. Другие авторы не ставили целью публиковать воспоминания,
23 имели в виду не читателя настоящего или будущего, а только себя." . Так, например, В.И.Вернадский писал: "Воспоминания. интересны потому, что с помощью их можно глубже проникнуть в тот чудный механизм, какой называют душу человека; они интересны потому, что сознание человека, личность че Марковников В.В. Воспоминания. М. 1910. С.6.
23 Корелин М.С. Записки. ЦИAM. Ф.2202, оп.З. № I. ловека, не есть что-нибудь резко определенное, а вечно меняется"" . Такой вид источников не менее важен, поскольку дает исчерпывающее представление о личности автора, глубоких внутренних эмоциях и переживаниях в процессе развития его самосознания.
К работе привлечены документы личного происхождения о 70 профессорах, работавших в московских учебных заведениях с середины XIX в. до 1917 г. Общее количество использованных в работе источников составляет 110 единиц текста, не считая многочисленных статей в сборниках, посвященных памяти того или иного профессора. Из всего документального материала собственно авторских воспоминаний - 25, большая часть которых опубликована. Исключение составили рукописные мемуары В.И.Герье, Н.И.Стороженко, А.И.Кирпичникова, Б.Н.Чичерина (опубликованы только первые три части, остальное хранится в рукописном виде), которые по независящим от автора обстоятельствам, не были доступны в связи с реконструкцией основного фонда РГБ. Возникший в связи с этим недостаток информации был отчасти восполнен сведениями из опубликованных материалов (Чичерин, Кирпичников) и перепиской, хранящейся в фондах ЦИАМ (Герье). Прочие рукописные источники хранятся в ЦИАМ, а также незначительная часть в РГАЛИ и ОПИ ГИМ. Из большого фонда архивных материалов в работе были использованы документы ЦИАМ. Систематизация всех источников личного происхождения дана в приложениях (№2).
Мемуары разнообразны по объему: от многостраничных фундаментальных историй жизни (Б.Н.Чичерин, С.М.Соловьев, Ф.И.Буслаев, В.И.Герье, А.Ф.Фортунатов, А.И.Чупров и другие) до небольших, двух-трех страничных автобиографических очерков и заметок. Тематика источников также разнопла-нова. Некоторые мемуаристы ограничиваются кратким изложением основных событий своей жизни, подробно останавливаясь лишь на студенческих годах и преподавательской деятельности. В таких мемуарах почти полностью отсутст
24 Вернадский В.И. Письма Н.Е.Вернадской. 1886-1900. T.I.M. 1988. С. 16. вует эмоционально-личностный компонент, авторы не передают своих переживаний, настроений и чувств, в них также мало глубокого анализа общественных событий и явлений. В ряде случаев этот пробел помогают восполнить дневниковые записи и эпистолярные источники, написанные под непосредственным влиянием текущего момента и потому обладающие большей эмоциональностью. Тем не менее, отрицать информативную ценность небольших по объему автобиографических очерков нельзя, поскольку в них, как правило, отражены осмысленные автором наиболее значимые моменты жизни.
Благодатный материал для исследования социокультурных характеристик профессорской интеллигенции дали внушительные и серьезные сочинения некоторых профессоров. Такие мемуары содержат подробнейшую информацию о детстве автора, его воспитании, отношениях с родителями и друзьями, увлечениях, годах обучения в университете и университетской жизни, научных интересах, даются интересные характеристики профессоров университета. Почти всеми без исключения авторами огромное внимание уделяется подготовке и защите диссертаций и связанных с этим заграничных поездок и приглашением занять профессорскую кафедру. Очень подробно большинство мемуаристов освещают события научной и общественной жизни Москвы, рассказывают о деятельности различных научных обществ и кружков, членами которых некоторые из них являлись. Вместе с тем, крайне скупо (иногда даже отсутствуют вовсе), как бы вскользь, излагаются события личной жизни, связанные с женитьбой, рождением и воспитанием детей. В целом, круг описываемых событий очень широк и более подробно он будет исследован в соответствующем разделе.
Среди других источников, отражающих жизненный и творческий путь ученых, использовались так называемые "вторичные мемуары", то есть воспоминания о своих коллегах. Безусловно, данный вид источников гораздо меньше может претендовать на объективность изложения, поскольку в лице повествователей выступали, как правило, не просто коллеги, а друзья, на протяжении многих лет близко знавшие друг друга, поэтому их оценки вряд ли могли быть беспристрастными. Для получения максимально достоверных сведений о том или ином ученом приходилось использовать несколько "вторичных мемуаров", а также другие источники - главным образом некрологи и публицистические произведения.
Не менее интересный материал по исследованию профессуры Москвы содержался в дневниках и многочисленных эпистолярных источниках. В первую очередь сюда следует отнести более полутора тысяч писем В.И.Вернадского своей супруге Н.Е.Вернадской за 1886-1900 гг., письма В.И.Герье, В.О.Ковалевского, П.Н.Кудрявцева, А.Ф.Фортунатова, В.О.Ключевского, научную переписку П.Н.Лебедева (552 письма), Ф.Е.Корша (около четырехсот писем). Достоинство писем состоит в том, что они написаны под влиянием настоящего момента, более точно отражают эмоциональное состояние автора, создают "эффект присутствия". Переписка некоторых профессоров (Вернадского, Корша, Лебедева) уникальна не только по объему содержащейся в ней информации и временному охвату. Она включает ценнейший материал для изучения биографий профессоров, их научных исканий, позволяет проникнуть в творческую лабораторию ученых, воссоздать дружеские, духовные связи, направления деятельности, социально-психологические настроения текущего момента, проследить эволюцию их воззрений на многие фундаментальные проблемы жизни и творчества. Кроме того, переписка дает интересные сведения о научной, экономической и общественно-политической жизни России и Европы. Письма наравне с другими историческими источниками являют
25 ся "продуктом целенаправленной человеческой деятельности" , поэтому к ним применимы основные положения науки об источниках и методах их исследования, позволяющие получить верифицированную, строго научную информацию для познания человека и общества.
Одним из основных методов, использовавшихся при работе со всеми документами личного происхождения был метод ретроспективного анкетирова
5//Источниковедение: Теория. История. Метод. M.I998. С. 128. ния. Данный метод используется при изучении массовых источников сложного, в том числе нарративного характера. Это историко-публицистические произведения, периодическая печать, мемуары, дневники, автобиографии, частная переписка и т.д., т.е. документы, позволяющие исследовать социоукльтурные явления той или иной эпохи: внутренний мир, взгляды людей, человеческие отношения, систему культурных взаимосвязей.
Самым главным требованием является то, что все анализируемые источники должны содержать однородную информацию. Под однородностью информации в данном случае подразумевается повторяемость свидетельств, обозначений и групп взаимосвязанных выражений, то есть повторяемость предметных характеристик, которые могут отличаться полисемантичностью26.
На этапе формализации текста выявляются определенные смысловые единицы, то есть о чем пишут авторы, какие вопросы имеют для них первостепенное значение. Единицы формализации (индикаторы) могут быть весьма неоднородными: относящиеся к теме слова и словосочетания, термины, имена людей, географические пункты, упоминание исторических событий, эмоциональные состояния и т.д. После этого выделяются основные смысловые категории, которые предельно конкретизируются. Факты распределяются по категориям, и на основе этих единиц составляется анкета к авторам. Вопросы выносятся в таблицу, где фиксируется ответ каждого автора. В настоящей работе шкала ответов выглядит следующим образом:
• "+" - наличие сведений по интересующему вопросу.
• "(+)" ~ отношение автора положительное.
• "С--)" ~ отношение автора отрицательное.
• () - сведений не обнаружено.
Результат выводится из подсчета количественных показателей тех или иных ответов. Завершающий и основной этап обработки источников - интер
6 Хвостова К.В. Указ. соч. С. 136 претация данных и разработка принципов наглядной репрезентации информации в виде таблиц (приложения №№ 5-13).
Анализ источников личного происхождения московской профессорской интеллигенции позволил выявить для составления смысловых единиц текста следующие параметры: биографические сведения (приложения №№ 5,6), со-циоструктурные (приложения №№ 5,7), деятельностиые (приложения №№ 8,9,10,11), социально-психологические (приложение №12) и ценностные (приложение № 13) характеристики. Важность составления такого рода материалов состоит, по мнению автора, в том, что дает возможность дать наглядную, численно выраженную характеристику той информации, которая обычно трудно
27 поддается формализации . Предложенные таблицы дают своего рода вертикальный срез широкого спектра вопросов, связанных с биографией и творческой деятельностью ученых.
27 Там же. С. 11.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Московская профессура второй половины XIX-начала XX вв. Социокультурный аспект"
На протяжении второй половины XIX в. профессорская интеллигенция играла исключительно важную роль в формировании новой системы ценностей модернизирующегося российского общества. Особое место в этом принадлежа ло московским профессорам. Начиная с середины XVIII в. - с момента основа ния первого российского университета - за Москвой прочно закрепилось зва ние ведущего научного, образовательного и культурного центра, а Московский университет на протяжении всей его истории оставался главным вузом страны.Подавляющее большинство русских ученых, чьи имена составили славу не только отечественной, но и мировой науки, были питомцами этого старейшего учебного заведения. В научно-педагогической деятельности в Москве сущест вовала устойчивая преемственность: университетские традиции обучения и воспитания, заложенные в конце XVIII-начале XIX вв. и основанные на при знании за наукой общественно и личностно значимой роли и тесном межлично стном общении профессоров и студентов, продолжили свое успешное развитие и во второй половине столетия во многих московских вузах.В центре внимания настоящей работы было изучение социально профессиональной фуппы - профессуры Москвы. Современное состояние гу манитаристики характеризуется повышенным вниманием к исследованию не больших социальных общностей, поскольку именно эти группы имеют наи большее значение для понимания психологических характеристик историче ского процесса. А без этого, по словам Ю.М.Лотмана, "мы неизбежно будем оставаться во власти весьма схематических представлений" .Исследование было проведено в трех основных направлениях: был со ставлен социальный портрет московской профессуры как фуппы общества, да на ее социокультурная характеристика и исследована повседневная жизнь про фессоров.Лотман Ю.М. Указ. соч. 298.Московская профессура представляла собой численно небольшую группу (менее 1%) от прочих фупп интеллигенции Москвы и 1/4-1/5 всех профессоров России. В социальном плане это был неоднородный слой, в массе разночинный.Процесс демократизации социального состава, характерный в целом для интел лигенции, коснулся и профессуры: на начало XX в. к дворянству принадлежало чуть более 30% всех профессоров. За вторую половину XIX в. состав москов ской профессуры значительно пополнился выходцами из купцов, почетных граждан и мещан. Все это свидетельствовало о возрастании значения науки среди самых широких слоев населения, а также отражало общие процессы раз мывания границ между сословиями и появление социальных групп, характер ных для модернизирующегося общества. Пополнение профессуры представи телями "неблагородных" слоев населения ни в коей мере не отражалось на "ка честве" научной и педагогической работы. Более того, из этой среды вышли многие видные деятели науки: крестьянское происхождение было у профессора средневековой истории М.С.Корелина и профессора химии М.И.Коновалова, в купеческих семьях родились физики А.Г.Столетов, П.Н.Лебедев и литературо вед А.И.Кирпичников, сыновьями бывшего крепостного зубного врача были братья И.А. и Н.А.Каблуковы (профессора химии и статистики соответствен но), сыном фельдшера был крупнейший знаток древнерусской литературы и те атра Н.С.Тихонравов. Все они оставили после себя яркий след как выдающиеся ученые и популяризаторы науки.Активное развитие отечественной науки во второй половине XIX столе тия привело к созданию собственных научных школ и направлений, что значи тельно снизило потребность в приглашении специалистов из европейских уни верситетов: в этот период большая часть профессоров-иностранцев занималась преподаванием языковых дисциплин. К 70-80-м гг. собственная научная база была полностью сформирована, что уменьшило потребность не только в ино странных кадрах, но и в зафаничных командировках для подготовки к профес сорскому званию.Однако, несмотря на существенное повышение социальной значимости научного творчества и привлечение в науку все большего числа лиц, образова тельная политика государства была крайне непоследовательна и не соответст вовала интеллектуальным и духовным запросам общества. Особенно это каса лось финансирования научных разработок и материального обеспечения уче ных. Со времени принятия устава 1863 г. уровень профессорского жалованья практически не повышался и был примерно в два раза ниже уровня цен. Эта не обеспеченность побуждала многих профессоров искать дополнительный зара боток в других вузах, в средней школе и публицистической деятельности. Вы сокий процент совместительства (более половины) был характерным явлением на протяжении всего исследуемого периода.Социокультурное исследование московской профессуры проведено на основе документов личного происхождения - мемуаров, дневников и эписто лярных источников. Принципиально важным в этой связи является то, что был выявлен и использован весь комплекс документов личного происхождения, прежде всего опубликованных: от небольших автобиофафических заметок до многостраничных воспоминаний, от путевых записок и коротких посланий до обширных дневников и регулярной переписки. Будучи непосредственными до кументами человеческого межиндивидуального (переписка) и внутриличност ного (мемуары, дневники) общения, они вобрали в себя сложное своеобразие внутренней и социальной жизни авторов, в них запечатлелись практически все события жизни, данные в индивидуальном оценочном восприятии личности.Это позволило реконструировать социально-психологические процессы, проте кавшие в сознании профессуры, проследить процесс становления самосознания личности, соотнесение своей жизненной позиции с позицией своей социальной общности и с общенациональными интересами, выявить ценностные приорите ты и предпочтения, определить преобладающий социальный тип личности профессуры Москвы второй половины Х1Х-начала XX вв.Во второй половине XIX столетия, в условиях бурного развития эконо мики и оживления общественной и культурной жизни, вызванного «оттепелью» и реформами 60-х гг., русским обществом все отчетливее стал осознаваться тот факт, что наука является необходимым элементом национальной культуры. Са ми профессора связывали это в первую очередь с ростом национального само сознания российского общества, общим подъемом национальной культуры. В этот период складывались и умножались отечественные научные силы, форми ровалось объединяющее их и общее для большинства национальное и фаждан ское сознание^.В пореформенный период сменилось несколько поколений отечествен ных научных кадров. Многие известные профессора Москвы (Ф.И.Буслаев, ^# М.Соловьев, Б.Н.Чичерин, Н.Е.Зернов, Ф.И.Иноземцев и многие другие) на чали свою деятельность еще в 1850-х гг., когда собственная научная база толь ко началасоздаваться. Однако уже в это время в профессорской среде стали формироваться те представления о социальной, культурной и нравственной функциях науки, которые впоследствии были восприняты будущими поколе ниями ученых и стали определяющими в становлении их научных интересов, мировоззрения и стиля мышления., Наука и научно-педагогическая деятельность составляли важнейшую смысло-жизненную ценность московской профессуры второй половины XIX века. Свое будущее большинство профессоров еще со времени учебы в уни верситете видели только в научной и просветительской деятельности и катего рически отвергали мысли о возможности карьеры чиновника. Широкая интел лектуальная образованность и пытливость ума направляли поведение их лично сти на поиск истины, как одной из смысловых универсалий человеческой жиз ни. При этом профессора были твердо убеждены, что наука является одним из "^ важнейших средств развития человека , поэтому собственное научное творче • Бастракова М.С, Павлова Г.Е. Наука: «ученые средства» и «ученые силы». // Очерки русской культуры XIX п.Т.З. М.,2001.С.280-281.' Вернадский В.И. Автобиография. M.200I. 127.ство они рассматривали как одну из форм общественного служения. Для мно гих из них научная деятельность и шире - «ученость» - были делом нравствен ного долга и были подчинены этической сверхзадаче - гражданскому воспита нию и совершенствованию личности. В таком широком контексте цель науки профессора видели не только в ее практической пользе, но главным образом рассматривали науку как необходимый инструмент в самопознании и понима нии человеком своей роли в мире. Именно поэтому они были увлечены процес сом поиска истины может быть даже в большей степени, нежели конечным ре зультатом. В процессе исследовательской деятельности происходило становле ние их личностной и социальной идентичности через интеллектуальные и нрав ственные начала, происходил "поиск своего места в жизни" (Э.Эриксон). Науч ^'^ но-исследовательская деятельность профессоров формировала их картину ми ра, "образ-Я", где центральное место занимало эмоционально-ценностное осоз нание своей принадлежности к профессорской корпорации.Московскую профессуру как социальную общность отличает групповая сплоченность и ценностно-ориентационное единство в решении принципиаль ных вопросов науки, преподавания и общественно-культурной деятельности.Эта сплоченность и единство выстраивались прежде всего вокруг проблем, свя занных с целями и методами научно-преподавательской деятельности: трансля ции в общество новой системы ценностей, взглядов и идей через популяриза цию науки и ее интефацию в мировое научное сообщество. Общность во взглядах наблюдалась также в этических вопросах профессиональной деятель ности. "Нравственность - основа науки и жизни", - таков был главный этиче ский принцип московской профессуры, который они подтверждали своей жиз нью. Люди долга и дела, они имели высокие нравственные ориентиры и были лишены каких бы то ни было форм лицемерия, тщеславия, угодничества. Если же подобное и происходило в профессорской среде, то всегда встречалось с серьезным порицанием и профессора, нарушившие негласный "кодекс чести", становились аутсайдерами профессорской корпорации.Особое место в научной деятельности московской профессуры принад лежало мотивационным компонентам: побуждениям, желаниям, целям. Науч ная деятельность направлялась такими мощными стимулами, как интерес к проблеме, увлеченность процессом познания, исследования. При этом профес сора не просто решали ту или иную задачу, но каждый раз доказывали себе и другим, чего они стоили как профессионалы, а потому оценка коллегами ре зультатов их труда напрямую затрагивала такую важную составляющую их личности, как самооценка. Мотив поддержания самооценки являлся немало важным дополнительным фактором, стимулировавшим их деятельность. У по давляющего большинства профессоров внутренняя мотивация преобладала над внешней. Это означало, что главным внутренним побуждением к исследова (f# тельскои деятельности служило удовольствие, или как писали сами профессора • "наслаждение", получаемое от процесса работы, любовь к истине, желание находить и решать проблемы, давать работу уму.Несмотря на то, что абсолютное большинство профессоров имели вы дающиеся интеллектуальные качества, были одаренными и талантливыми людьми, именно внутренняя мотивация, а не интеллектуальная одаренность выступали как решающая личностная составляющая. В значительно меньшей степени в научной работе профессора руководствовались такими внешними стимулами, как материальное вознафаждение, карьера, стремление к интеллек туальному успеху и общественному признанию и т.д. Несомненно, внешние стимулы не игнорировались полностью (хотя бы потому, что некоторые из них элементарно обеспечивали физическое существование), но в ценностной шкале занимали не главное место. "Материальная обеспеченность необходима в меньшей степени, - писал В.И.Врнадский, - так как ее удовольствия по грубо сти отходят на второй план, но необходимость ее слишком чувствительна, и без нее обойтись нельзя" .Там же. 126.Научное творчество многоаспектно и не исчерпывается одними только предметно-логическими взаимосвязями; оно включает в себя широкий спектр отношений, эмоций, чувств. Необходимым и качественно своеобразным факто ром научной деятельности является общение, причем общение не только узко профессиональное, но и неформальное, которое также выступает мощной сти мулирующей составляющей научной работы. Этим объясняется тот факт, что научная и педагогическая деятельность в судьбах московской профессуры были теснейшим образом взаимосвязаны. Педагогический труд, в основе которого лежала подготовка молодых научных сил, они определяли для себя не менее значимым, нежели собственная исследовательская работа и потому относились к нему чрезвычайно ответственно. На аудиторию профессора воздействовали не только силой своего интеллекта и безусловным педагогическим талантом, но и силой личности и нередко собственным примером самоотверженного служе ния науке давали ориентиры поведения ученикам.Во второй половине XIX столетия существенной изменился характер преподавательской деятельности: профессора уже не просто передавали моло дежи готовые знания, читая лекции (хотя эта форма занятий по-прежнему была
главной), а «учили» в лабораториях и семинарах самостоятельно добывать зна ния. Анализ источников показал, что в наибольшей степени способствовали развитию творческого потенциала учеников те профессора, кто уделял им мно го внимания во вне учебное время, кто сам успешно занимался научной рабо той, кто поощрял в студентах независимость мыслей и действий. Приглашение студентов домой к профессорам, совместная работа в лабораториях, участие в журфиксах, встречи в салонах интеллектуальной и творческой интеллигенции, где обсуждались актуальные вопросы науки и жизни - все это стало во второй половине XIX в. чрезвычайно популярной формой социокультурной практики и способствовало привлечению в науку молодых сил. Подобный способ комму никации ифал и важную воспитательную роль: в процессе такого дружеского общения студенты и молодые ученые "впитывали" традиции, нормы и ценно сти профессорской среды.В неразрывном единстве с научной и педагогической работой находилась просветительская и общественно-культурная деятельность московских профес соров. Просветительство было для многих из них продолжением деятельности на педагогическом поприще, они рассматривали его как наиболее доступный способ трансляции в общество не только новых знаний, но и новых культурно мировоззренческих норм, ценностей и идеалов. Во второй половине XIX столе тия "кабинетный" ученый, занимающийся наукой "ради нее самой", становится редкостью и уступает место профессору-практику и активному общественному деятелю. Общественно-культурная деятельность профессуры существенно ме няла вектор развития общественного сознания. Если до середины XIX в. обще ственное сознание развивалось преимущественно в форме литературных спо ров, то во второй половине столетия стали набирать силу такие формы и спосо бы общения, как полемика на страницах научно-популярных и общественных журналов, часто создававщихся по инициативе профессоров, публичные лекции и выступления, собиравщие Офомные аудитории из числа самых разнообраз ных слущателей. Особое место в этом принадлежало научным обществам и съездам, создававшимся при университетах. С их деятельностью связано широ кое развитие общественной инициативы в научно-культурной жизни, а всерос сийские съезды ученых-естествоиспытателей, врачей, археологов, юристов ста ли не только новой формой научной жизни, но и определенной социальной практикой коллективного обсуждения актуальных вопросов науки и жизни.Отечественная профессура, наряду с крупнейшими деятелями литературы и ис кусства, стояла у истоков формирования нового типа личности и новых куль турных связей, способствовала актуализации в русском обществе идей свободы личности и творчества, правового сознания, фажданской и нравственной от ветственности.Наиболее популярной формой общения профессуры с москвичами были публичные лекции. Выдающимися популяризаторами науки были естествоис пытатель К.А.Тимирязев, профессора астрономии Ф.А.Бредихин, физик А.Г.Столетов, историки М.Соловьев, В.О.Ключевский и М.С.Корелин, лите ратуровед А.И.Кирпичников, математик Н.В.Бугаев, экономисты И.И.Янжул, А.И.Чупров и многие другие. За редким исключением все московские ученые считали своей нравственной обязанностью участвовать в этом нужном и важ ном деле. Глубокие знания, увлекательное и доступное изложение делало их в полном смысле любимцами публики. Некоторые профессора, как, например, Ф.А.Бредихин или В.О.Ключевский, были не менее известны, чем популярные артисты, а тексты публичных лекций М.Соловьева, Н.И.Стороженко, К.А.Тимирязева и др. неоднократно переиздавались и по сегодняшний день со храняют познавательный и методический интерес. Участие профессоров в об щественно-культурной жизни Москвы не офаничивалось чтением публичных лекций. Профессора принимали активное участие в организации библиотек для домашнего чтения, экскурсий, выставок, разработке школьных профамм и со ставлении учебников. Офомной заслугой московской профессуры в вопросах распространения высшего образования и просвещения было также создание под руководством В.И.Герье Московских высших женских курсов - первого в России университета для женщин.Столь активное участие профессуры в просветительской деятельности было мотивировано не личными интересами, не стремлением к публичному признанию и широкой известности, а имманентно присущей потребностью де литься с окружающими радостью знания и познания, искренним желанием раз вивать собственную науку, широкую образованность и культуру. Профессора были твердо убеждены в том, что отечественное самосознание может успешно развиваться без постоянных сравнений с Европой, ставших привычными в Рос сии с петровских времен. Они считали, что для этого необходимо создать усло вия и в первую очередь предоставить ученым право самостоятельно, без надзоpa со стороны властей решать научно-педагогические задачи, определять со держание и способы преподавания, характер и формы взаимоотношений со студентами и внутри профессорской корпорации. Поэтому образование и педа гогическая деятельность понимались ими в самом широком смысле как созда ние (от англ.building - создание, созидание, творение) эмоционально зрелой, ответственной и внутренне свободной личности. Утилитарное и прагматиче ское отношение к высшему образованию и науке, господствовавшее в XVIII в., благодаря работе профессоров к концу XIX столетия уступило место осозна нию обществом важнейшей культуротворческой функции науки, конечной це лью которой является создание (созидание) образованной личности и нации в целом. Здесь уместно привести высказывание одного из родоначальников фи лософской антропологии профессора М.Ф.Шелера, который в начале XX в. пи сал, что образование - "это не учебная подготовка к чему-то, к профессии, к специальности, и уж тем более образование существует не ради такой подго товки. Наоборот, всякая учебная подготовка к чему-то существует для образо вания человека, человеческого в нем, человечности"^. В этом смысле научно педагогическая и просветительская активность профессоров определялась по ниманием ими того, что образование и просвещение позволяют увидеть больше альтернативных возможностей развития, а потому образованными людьми труднее управлять, чем теми, кто лишен знаний. Сама же профессура во второй половине XIX столетия становится ощутимой культурной и общественной си лой. Благодаря творческому характеру научного труда это был не только самый «информационно заряженный», но и наиболее активный слой образованного класса^.Исследователями психологии науки установлено, что в психологическом плане личность ученого-профессора складывается на протяжении длительного периода самостоятельной научной работы. Принципиально важным при этом ' Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск, 1998.'' Бастаркова М.С, Павлова Г.Е. Указ. соч. 286.является сформированность системы личностных ценностей, в том числе и не посредственно связанных с научной деятельностью, ее процессом и содержани ем. Поведение личности профессоров определяла основная жизненная ориента ция на профессиональную состоятельность, интеллектуальную и духовную зре лость, поэтому в ценностной системе профессуры проявлялись как общемиро воззренческие ориентиры, определявшие их позицию по отношению к наиболее значимым явлениям окружающего мира, так и особые, специфические элемен ты, непосредственно связанные с наукой. Общеразделяемыми ценностями были морально-этический подход к оценке людей и научному творчеству, самоак туализация по отношению к сущностным вопросам бытия, высокий уровень рефлексии. Этико-социальные установки профессуры отличались устойчиво стью на протяжении всего исследуемого периода. Осознание общего социо культурного кризиса и, в связи с этим, серьезная обеспокоенность судьбой страны выдвигали на первый план осмысление многих научных проблем с по зиций общеисторической перспективы и гражданской ответственности. "Я не могу уйти в одну науку, - писал В.И.Вернадский. - Есть времена, когда без вре да для самого научного знания нельзя стоять в стороне от кипучих вопросов жизни. Особенно теперь, когда вопросы науки тесно связаны со всем миросо зерцанием и даже с самой техникой жизни" . Эти слова великого ученого и гражданина выражают общие настроения в среде московской профессуры по отношению к научной и преподавательской деятельности и во многом объяс няют ее чрезвычайно высокую общественную активность. В этом смысле исто рия и судьба профессорской интеллигенции Москвы неотделима от судьбы ли беральной российской интеллигенции в целом: озабоченность социальными проблемами, та же нацеленность на совершенствование личности на основе общечеловеческих ценностей, то же стремление эволюционного обновления общества.' Вернадский В.И. Письма... T.2. 42.Московские профессора обладали стабильной мотивационно-ценностной системой, что служит одним из показателей завершения становления личности.Каждый из них имел свое неповторимое "лицо" - совокупность идеалов, уста новок, убеждений, побуждавших их деятельность и составлявших смысл жиз ни. Самостоятельность мысли, чувств и действий, умение оставаться собой, в особенности в ситуациях, требующих личностного выбора были отличитель ными чертами абсолютного большинства московских профессоров. Это были именно те черты, которые, по словам Ю.М.Лотмана, отличают подлинно ин теллигентного человека от неинтеллигентного: интеллигентный человек "имеет выношенные, свои мысли и строит жизнь в соответствии с этими мыслями...Единство мысли и жизни - это одно из важнейших свойств человека думающе о го и человека интеллигентного" .Система ценностей профессуры представляла собой устойчивое образо вание: в ней доминировали те компоненты, которые позволяют говорить о про фессорах как о людях "высокой социальности" (Ю.М.Лотман). Доброта и ду шевная мягкость в сочетании с твердостью и готовностью отстаивать свои убе ждения, толерантность по отношению к тем, кто имел иные убеждения и вместе с тем смелое и открытое неприятие того, что препятствовало свободному раз витию науки и культуры, самоуважение и высокий уровень самосознания и рефлексии, глубокая привязанность к своей культуре и своему народу - все это выступало основополагающими свойствами личности подавляющего большин ства московских профессоров. Эта система убеждений и ценностей придавала смысл индивидуальным характеристикам поведения, таким, как целеустрем ленность, настойчивость, воля и т.д. Именно сформированность системы лич ностных ценностей, в том числе и непосредственно связанных с научной дея тельностью, ее процессом и содержанием, открывала перед профессорами ши рокие возможности для творчества. При этом следует отметить, что и в повсе дневной жизни они проявляли себя как личности незаурядные, наделенные " Лотман Ю М . Воспитание души. Воспоминания. Интервью. Беседы о русской культуре (телевизионные лек ции). Спб.,2003. 480-481.творческими способностями в самых разных областях жизни, склонные к вос приятию действительности как посредством серьезного рационального осмыс ления, так и на уровне глубоких переживаний, эмоций и чувств. Проникнове ние в мир повседневности профессоров позволило увидеть их не только как крупнейших ученых и ярких индивидуальностей, но и как обычных людей, ко торым свойственны обычные беды и радости, удачи и заботы. Особенности по вседневного бытования московских профессоров выступали важным фактором групповой сплоченности и служили одним из важнейших способов взаимодей ствия друг с другом и общественно-культурной средой.Таким образом, московская профессура представляла собой не только ин теллектуальную, но и духовно-нравственную элиту отечественной интеллиген ции. Во второй половине XIX в. в российском обществе появилась группа лю дей, составивших не только "золотой фонд" отечественной науки, но выпол нявших важнейшую задачу аккумуляции национальной культуры, способство вал "сохранению культурных традиций, накоплению материалов и дальнейше му порождению культуры" . Профессора Москвы составляли тот численно не большой "культурный слой" нации, на формирование которого уходят многие десятилетия, но без наличия которого то или иное государство не может пре тендовать на достойное место в истории.' Там же. 483.
Список научной литературыНикс, Наталья Николаевна, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1999. С.268.
2. Лебедев П.Н. Научная переписка П.Н.Лебедева. М.,1900. с.7.
3. Огнев С.И. Заслуженный профессор И.Ф.Огнев. (1855-1928). На основе рукописных записок И.Ф.Огнева и личных воспоминаний. М.,1944. С.7.Сеченов И.М. Автобиографические записки. М.,1945. С.7-8.
4. Чичерин Б.Н. Воспоминания. Записи прошлого. Воспоминания и письма. Т.З. Путешествие за границу. М., 1932. С.99, 102.
5. Цит. по кн.: И.А. Каблуков. М.,1957 С. 8.
6. Чичерин Б.Н. Воспоминания. Москва 1840-х гг. М.,1991. С.21
7. Янжул И.И. Воспоминания о пережитом и виденном.( 1864-1909). ТТ. 1-2. Спб., 1910. С.4.22 Там же. С. 120, 123.
8. БуслаевФ.И. Указ.соч. С.78.25 Там же. С.6!.
9. Берг Н.В. П.Я.Петров профессор-ориенталист.//Русская старина. 1876.№10. С.397.32//Психология науки. М.,1998. С. 16.
10. Соловьев С.М. Указ. соч. С.22.
11. Ковалевский В.О. Письма А.О.Ковалевскому. В кн.: Ковалевский 8.0. Собрание научных трудов. M.I950. С.9.
12. Янжул И.И. Указ. соч. С.53.
13. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С.85-86.
14. Огнев С.И. Указ. соч. C.I 1.45Боголепов Н.П. Автобиографическая записка. В кн.: С.А.Венгеров. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т.4. Спб. 1891. С. 148.
15. Там же. С.30-31. 4S Там же. С.34.
16. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С. I.
17. Каблуков И.А. Из воспоминаний о химии в Московском университете с семидесятых годов XIX в. //Московский университет в воспоминаниях современников. М.,1989. С.507-508.
18. Чичерин Б.Н. Москва 1840-х гг. С.24.
19. Сеченов И.М. Указ. соч. С.55.
20. Стороженко Н.И. Воспоминания о студенческих годах Н.В.Бугаева. //Научное слово. 1904. "№2. С.28.
21. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С. 13.71 //Н.Я.Грот в очерках. C.2I.
22. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С.314.
23. Воспоминания о Н.Е.Зернове. В кн.: Любимов Н.А. Мой вклад. М.,1887. Т.2. С.788.
24. Глубоковский H.H. Памяти покойного проф. А.П.Лебедева. Спб.,1908. С.28.
25. Соловьев С.М. Указ. соч. С. 141.
26. Чичерин Б.Н Там же. С.30-31.
27. Корш Ф.Е. Речь по поводу избрания его почетным членом Императорского Московского университета. В кн.: Ф.Е.Корш. Автобиография. М., 1913. С.7.
28. Чичерин Б.Н. Москва 1840-х гг. С.11.
29. Чичерин Б.Н. Москва 1840-х гг. С.64.Кизеветтер А.А. Указ. соч. С. 195-196.
30. Соловьев С.М. Указ. соч. С. 141
31. Богданов А.П. Указ. соч. С. 154.
32. Вернадский В.И. Страницы автобиографии. //Из архива В.И.Вернадского: фрагменты писем, дневников. М.,2001. С. 127.
33. Ешевский С.В. П.Н.Кудрявцев как преподаватель. //Русский вестник. 1858. Т. 13. №1-2. С. 108.
34. Трачевский А. С.В.Ешевский. М.,1865. С. 19.
35. Глубоковский H.H. Указ.соч. С.29.
36. Письмо А.О.Ковалевскому от I февраля 1883 г. В.О.Ковалевский. Указ. соч. С.415.
37. Н.Я.Грот был инициатором создания Психологического общества и журнала "Вопросы философии и психологии".Из письма Н.Я.Грота Я.К.Гроту от 19 ноября 1892 г. В кн.: Н.Я.Грот в очерках. С.334.
38. Ключевский В.О. Характеристики и воспоминания. М„ 1912. С.28.
39. Щетинин Б.А. Ф.А.Бредихин. Страничка из воспоминаний. //Исторический вестник. 1904. №7. С.118.
40. Лебедев П.Н. Письмо Н.П.Кастерину от 14 декабря 1901. //Научная переписка П.Н.Лебедева. М„ 1990. С. 195.
41. Цит. по кн.: И.А.Каблуков. М„ 1957. C.115.
42. Орлов Ф.Е. Дневник заграничной командировки. 1869-1872. М., 1898. С.50.Ключевский В.О. Афоризмы. С. 21.Памяти М.И.Коновалова. С.36.
43. ЦИАМ. Ф.2244. On. I. № 450. Л.23.
44. Берг H.B. П.Я.Петров профессор-ориенталист. //Русская старина. 1876. №10. С.394.
45. ЦИАМ. Ф.2202. Оп.З. №1. Л.З.
46. Ковалевский В.О. Письма. Письмо от февраля 1870 г. В кн.: В.О.Ковалевский. Указ.соч. С. 318.
47. Анучин Д.Н. О людях русской науки. С.А.Усов. М.,1952. C.2I3.
48. Муромцев С.А. Стаитьи и речи. Н.И.Крылов. М.,1910. Вып. 1.С. 14.
49. Шварц A.H. Моя переписка со Столыпиным. Мои воспоминания о Государе. М., 1994. С.348.
50. ЦИАМ. Ф.2202. Оп.З. № I. Л.12-13.
51. Ключевский В.О. Характеристики и воспоминания. М.,1912. С.2.
52. Венгеров С.А. Указ.соч. С. 10.
53. Речь и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1884 г. М., 1884. С.272-273.
54. Буслаев Ф.И. Указ.соч. С. 156-157.
55. Чичерин Б.Н. Там же. С.28.
56. Кудрявцев П.Н. Письмо Т.Н.Грановскому отлета 1845 г. Переписка П.Н.Кудрявцева. //Средние века. Вып. 17. М.,1960. С.4)5.
57. Вернадский В.И. Письмо к Н.Е.Вернадской от 24 августа 1888 г. Письма. T.I. С.164.170 Там же.
58. Василенко C.H. Из воспоминаний композитора. //Московский университет в воспоминаниях современников. С.551.1,9 Ключевский В.О. Афоризмы. С.41.200Радциг С.И. Страницы из воспоминаний. // Московский университет в воспоминаниях современников. С.598.
59. Пичета В.И. Воспоминания. //Московский университет в воспоминаниях современников. С.584.20:1 Любавский М.К. В.О.Ключевский. В кн.: В.О.Ключевский. Характеристики и воспоминания. С. 14.
60. Кизеветтер А.А.Указ.соч. С.63.
61. Грушка А.А. Ф.Е.Корш. M.I9I6. С.60.
62. Кизеветтер А.А. Указ. соч. C.6I.
63. Цит. по кн.; Кизеветтер А.А. С.А.Муромцев председатель 1 Государственной думы.M.1918. С.6.
64. Янжул И.И. Указ. соч. С.139-140.
65. Боголепов Н.П. Автобиографическая записка. //Венгеров С.А. Критико-биографический словарь. Т.4.Спб. 1891. С. 150.
66. Янжул И.И. Указ.соч. С.34-35.
67. Каблуков И.А. Из воспоминаний о химии в Московском университете с семидесятых годов XIX в. //Московский университет в воспоминаниях современников. С.509.
68. Смирнов С.А. Воспоминания о Ф.И.Иноземцеве. //Русский архив. 1872. без №. С.719.280 Там же. С.729.
69. Сеченов И.М. Указ. соч. С.61.
70. Губерти Н.Н. Воспоминание о Ф.И.Иноземцеве. //Русский архив. 1898. "№ 2. С.235.
71. Витмер A.M. Знакомство мое с Захарьиным. //Исторический вестник. 1913. Т. 132. № 4. С.226-23 I.284 Там же. С.232.290 //Памяти А.Г.Захарьина. С. 12-13.
72. Е.А.Домбровская. Н.Е.Жуковский. Л., 1939. С.77.
73. Любавский М.К. Указ. соч. С. 132.302 //Памяти Н.С.Тихонравова. С.36.
74. Ковалевский М.М. Указ.соч. С.502.
75. Отношения "я-ты", "мы-вы": ценности в области межличностных отношений.
76. Отношения "я-оно", "мы-оно": ценности в области "человек-природа".
77. Отношения "я-я", "я-мы": ценности, направленные на собственное "Я".
78. Шледер Б. Структура ценностных ориентации. // Иностранная психология. 1994. Т.2. №2(4).
79. Аникеев А.А. Указ.соч. С.6.
80. Орлов Ф.Е. Указ. соч. С.218.
81. Ковалевский В.О. Указ. соч. С.316.
82. Анучин Д.Н. Указ. соч. С.229-230.ЦИАМ. Ф.2202. Оп.З. №11. Л.20-21.
83. Кирпичников А.И. О Ф.И.Буслаеве. В кн.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь. M.I897. T.5.C.3 10.Памяти профессора А.И.Кирпичникова. Харьков. 1905. С.5.
84. Склифософский H.B. Воспоминания.//Врач. 1882. Т.З. № 10. С.167.
85. Безобразов П.В. Указ.соч. С.77.Цветаева А.И. Указ.соч. С.25.
86. Кирпичников А.И. Указ.соч. С.З I I.
87. ЦИАМ. Ф.2244. On. I. № 450. Л.41.41 //Памяти Н.С.Тихонравова. С. 12.
88. Анучин Д.Н. Указ.соч. С.228.
89. Безобразов П.В. Указ.соч. С.77.
90. Буслаев Ф.И. Указ.соч. С.272.
91. ЦИАМ. Ф.2244. On 1. № 450. Л.25.
92. Буслаев Ф.И. Указ. соч. C.I60-I6I.
93. Чичерин Б.Н. Путешествие за границу. С.73, 76.
94. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С.377.
95. Орлов Ф.Е. Указ. соч. С.54.
96. ЦИАМ. Ф.2244. Оп.450. № I. Л. 12
97. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С. 181-182.
98. Андреева Г.М. Социальная психология. М.,1999. С.84-117.
99. Поржезинский В.П. Указ. соч. С.5-6.
100. Кизеветтер А. А. Указ. соч. С. 17190 Там же. С. 172.
101. Вернадский В.И. Письма. Кн.1.С.28.н0// Грот Н.Я. в воспоминаниях. С.33.101 Там же.
102. Орлов Ф.Е. Указ. соч. С.22.10:1 Чичерин Б.Н. Москва 1840-х гг. Воспоминания. С.84.
103. Янжул И.И. Указ. соч. С.85.
104. Вернадский В.И. Письма. T.I. С.29.
105. Орлов Ф.Е. Указ. соч. С. 106.т Там же. С.95.
106. Овчинников В.Ф. Указ. соч. С.64.
107. Вернадский В.И. Письма. Т. I. С. 17.
108. Янжул И.И. Указ. соч. С.84.
109. Чичерин Б.Н. Москва 1840-х гг. С.84.
110. Сеченов И.М. Указ. соч. С. 121.
111. Цветаева А.И. Указ.соч. С.26.1 Янжул И.И. Там же.
112. Вернадский В.И. Письма. Т.I. С. 165.
113. Орлов Ф.Е. Указ. соч. С.80.
114. Цветаева А.И. Указ. сом. С.497. 12,1 //Памяти Е.В.Амфтеатрова. С.З I.
115. Соловьев С.М. Указ. соч. С.21.131 Там же. С.34.
116. Вернадский В.И. Письма. T.I. С.132.134 Там же. С.72.
117. Буслаев Ф.И. Указ. соч. С.244.
118. Ключевский В.О. Афоризмы. С.9,14.Памяти Е.В.Амфитеатрова. С.28.15:1 Вернадский В.И. Страницы автобиографии. С. 155.
119. Рубинштей С.Л. Принципы и пути развития психологии. М.,1960.
120. Вернадский В.И. Письма. Т.1. С.15.
121. Вернадский В.И. Страницы автобиографии. С. 132.171 Там же. С. 140.
122. Бастракова М.С., Павлова Г.Е. Наука: «ученые средства» и «ученые силы». П Очерки русской культуры XIX п. Т.З. М.,2001. С.280-281.
123. Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России. Томск, 1998. С.20.