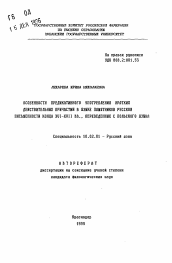автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Особенности предикативного употребления кратких действительных причастий в языке памятников русской письменности конца XVI-XVII вв., переведенных с польского языка
Полный текст автореферата диссертации по теме "Особенности предикативного употребления кратких действительных причастий в языке памятников русской письменности конца XVI-XVII вв., переведенных с польского языка"
С ^ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОНВТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
\ ^ ПО ВЫСНЕНУ ОБРАЗОВАНИЮ
КУБАНСКНИ государственный университет
На правах рукописи НДК 808.2:801.53
ЛЕКАРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТИВНОГО »ПОТРЕБЛЕНИЯ КРАТКИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИИ В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ КОНЦА ХМ-ХШ ВВ.. ПЕРЕВЕДЕННЫХ С ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
Специальность 10.02.01 - Русский язык
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Краснодар 1998
Диссертация выполнена на кафедре русского язнка для иностранных учацихся Кубанского государственного университета
Научный руководитель кандидат филологических наук
доцент ШОРЯДИНА Л.В.
Официальные оппоненты доктор филологических наук
доцент РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Т.В.
кандидат Филологических наук доцент НЙЛЕВИНСШ С.О.
Ведущая организация Ростовский государственный педагоги-
Зацита состоится " 13 " ноября 1996 г. в 9 часов
на заседании диссертационного совета Д 063. 73. 01 в Кубанской государственном университете (350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, филологический факультет, ауд. 231).
С диссертацией иоано ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государственного университета.
Автореферат разослан "1996 г.
ческий университет
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических нау доцент
В реферируемой работе исследуется особенности предикативного употребления нечленных форм действительных причастий на материале памятников конца XVI - XIIII веков, переведенных с польского языка.
. История причастий в русском языке издавна привлекала внимание исследователей. Основы морфолого-синтаксического изучения русских причастий были заложены в трудах А.Й.Потебни, 0.А.Шахматова,' А.М.Пешковского, Д.Н.Кудрявского, Е.С.Истриной, П.С.Кузнецова, а затем получили развитие в работах Т.П.Ломте-ва, В.Л.Георгиевой, Л.К.Дмитриевой, Л.В.Граве, И.Б.Кузьминой, Е.В.Немченко и многих других. Ставились и решались такие проблемы, как история деепричастий (А.А.Потебня, Д.Н.Кудрявский, П.С.Кузнецов и др.), функции причастий в говорах (П.С.Кузнецов, И.Б.Кузьмина, Е.В.Немченко, В.И.Трубинский и др.), история оборота "дательный самостоятельный" (И.М.Белоруссов, Л.В.Граве, Е.М.Ниакова, и др.) отдельные функции причастий в памятниках ХП-ХиП вв. (Е.С.Истрина, З.И.Коротаева, Е.Л.Голубева и др.).
Тем не менее, представляется актуальным выявление имеющихся оппозиций внутри системы предикативных функций причастий в целом, что позволило бы глубже охарактеризовать общую категориальную семантику данного грамматического класса, отраженную в синтаксическом употреблении, и отграничить функции причастий от синонимичных им функций финитных форм.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМИ определяется возрастающим интересом современной лингвистики к семантике полипредикативных конструкций, к закономерностям взаимодействия грамматики, лексики и кйнтекста; форм языка и мышления; необходимостью систематизации накопившихся' знаний по историческому синтаксису прйчастий; нерешенностью некоторых теоретических .проблем, в частности, функционирования краткого действительного причастия как анало.га финитных форм-глагола, разграничения омонимичных атрибутивных ' и предикативных' причастных конструкций.
Отдавая долнное большой исследовательской работе, отечественных лингвистов в области исторического ■ синтаксиса причастий, следует сказать, что остается ряд вопросов, которые еце не нашли своего окончательного решения или не рассматривались. И те, и другие могут быть продвинуты, во-первых, осмыслением и
обобщением достигнутых к настоящему моменту результатов; во-вторых, путей анализа данных нового языкового натериала.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ реферируемой работ являвтся краткие формы действительных причастий в языке памятников письменности конца Хи1-Хип вв., переведенных с польского языка.
МАТЕРИАЛОМ ИССЛЕДОВАНИЯ послувили извлеченные из текстов "Великого Зерцала", "Фацеций" и "Назирателя" примеры предикативного употребления именных форм причастий, представленные на 1832 рукописных карточках.
Тексты переводнцх произведений были выбраны в качестве материала для анализа по следующим основаниям. Во-первых, названные тексты мало изучены лингвистически. Исключение составляют работы О.Л.Рюминой по исследованию синтаксиса действительных причастий проведиего времени в "Фацециях'Ч 1962 и 1982 гг.) и работа Р.В.Корепановой "О синонимии независимого инфинитива и императива в "Назирателе" (1979). -
Во-вторых, привлечение для исследования текстов, переведенных со старопольского языка, позволяет отчетливее выявить особенности повествовательного и научного ванров русского литературного языка рассматриваемого периода с точки зрения участия в них церковнрславянских элементов. По определению В.Н.Ви-вова, указанные тексты относятся к "гибридному регистру* книв-ного языка, особой языковой установкой пииуяих было "не максимальное сбливение языка новых сочинений с языком корпуса основных текстов, а условное товдество этих языков по ряду релевантных формальных признаков", "с наибольшей наглядностью отличавших книвный язык от некнивного". В состав основных "индикаторов книаности" входили славянские формы ИДП и конструкции, их содервацие (Живов В.М. Язык и культура в России Х1Ш1 века. Н.. 1996, с.32).
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является рассмотрение предикативного Функционирования именных действительных причастий в языке текстов XIII - Хин вв., переведенных с польского языка. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ состоят в следующем: 1. Описать систему предикативных функций именных действительных причастий, отмеченных в анализируемых текстах, определить степень их взаимодействия и взаимовлияния.
- 5 - .
2. Определить имеющиеся основные лексико-семантические группы анализируемых причастий, дать количественную характеристику употребления форм настоящего и проиедаего времени; выявить связь меяду полученными количественными характеристиками и категориальной семантикой причастий.
3. Исследовать особенности функционирования предикативных именных действительных причастий, вытекающие из жанрово-стили-стической принадлежности текстов; определить возмояность и степень влияния языка, с которого были выполнены переводы (старопольского языка).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Примеры предикативного употребления именных действительных причастий извлекались из текстов анализируемых произведений путем сплошной выборки и обрабатывались описательным, сопоставительным, трансформационным, компонентным и статистическим методами.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ определяется новизной целей и задач, направленных на выявление особенностей предикативного функционирования именных форм причастий в текстах Хи1-ХШ вв.
1. Впервые предпринята попытка описания всех предикативных функций именных форм причастий в системе с точки зрения общей категориальной семантики данного грамматического класса.
2. Функциональные значения предикативных причастий рассматриваются как результат взаимодействия лексики, грамматики и контекста; обосновываются впервые и предлагаются к применению критерии идентификации ряда предикативных функций и отграничения их от атрибутивных, эксплицируемых омонимичными построениями. -
3. Сделана попытка выявить закономерность синтагматики лексико-семантических групп причастий и глаголов-сказуемых и проследить ее связь с проблемой однородных и неоднородных сказуемых.
4. Новым является использование в качестве источников языкового материала текстов "Великого Зерцала" и "Назирателя",
ранее не изученных в работах по историческому синтаксису причастий, а также текста "Фацеций", послувившего источником для анализа предикативных функций только действительных причастий пропедпего времени (работы О.Л.Рюминой).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
Результаты диссертации могут быть использованы при исследованиях в области функциональной грамматики, при составлении вузовских курсов по исторической грамматике русского языка, по истории русского литературного языка, при проведении спецкурсов и спецсеминаров по названным курсам, для написания курсовых и дипломных работ.
ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ Hfl ЗАЩИТУ
1. В итоге разрушения старой и становления новой синтаксической системы русского литературного языка к XUII-му веку традиционные грамматические формы активно принимают новые функциональные значения, при этом возрастают их текстообразуащая и стилеобразующая роли,
2. Сложная система глагольных форм древнерусского языка отражала особенности мышления средневекового человека, его идеологию. Различия в степени расчлененности содержания при отражении действительности, в иера'рхии понятий, в идеологических значениях были закреплены за определенными грамматическими формами.
3. В исследуемых текстах причастное сказуемое последовательно и многопланово проявляет свою специфику по сравнению с глагольным и именным типами сказуемых, образуя в то же время общую парадигму с глагольными предикатами, коррелируя с последними по ряду признаков.
4. Различия между полупредикативными и собственно атрибутивными функциями нечленных причастных форм непосредственным образом зависят от сочетания входящих в синтагму опорных лексем, обуславливающего наличие или отсутствие актуального членения внутри синтагмы.
5. Тип литературного стиля, являясь определяющим фактором при выборе языковых форм, сохраняет определяющее значение и при переводе. Национальный литературный язык на уровне синтаксиса наименее проницаем для иноязычного влияния.
АПРОБАЦИЯ РАБОТ«
Результаты диссертации докладывались и обсуядались на заседаниях аспирантского семинара при кафедре русского языка Ленинградского государственного университета, на Всесоюзных конференциях преподавателей и аспирантов - Ленинград 1987, Тбилиси 1987, на заседаниях кафедры русского языка^ для иностранных учащихся Кубанского государственного университета.
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, приложения и имеет общий объем 140 машинописных страниц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность ее изучения, определяются цель, основные задачи, положения, выносимые на защиту, научно-практическая значимость исследования, дается характеристика источников.
С вопросом определения общей категориальной семантики причастий связан вопрос о грамматической синонимии причастных и финитных глагольных форм. В самом деле, все выделяемые исследователями предикативные функции русских причастий характеризуются через установленные для них аналоги Функций личных форм глагола. Следующим шагом после проведения параллели между причастиями и глаголами является анализ функционально-семантических различий, существующих между ними.
Способность именных действительных причастий (далее - ИДП) выражать "зависимый таксис" (термин Р.Якобсона) не моает служить достаточным критерием для рыявления специфики причастных предикатов, так как личные (финитные) формы такяе могут выражать различные виды зависимости при помощи подчинительных союзов. Если же обратиться к другому свойству ИДП - выражать зависимые отношения синтетически, то и оно не является достаточным отличительным признаком инфинитных форм, поскольку в древнерусском языке именное действительное причастие часто соединялось с глаголом сочинительным союзом.
В связи с вышеизложенной проблемой находится зафиксированное рядом иследователей функционирование ИДП как самостоятельного предиката в русском литера-
турноы языке ХЮ-ХОШ в., трактуемое неоднозначно. Данное языковое явление привлекало внимание Й.Й.Потебни, fi.fi.Шахматова, Е.С.Истриной, М.И.Пигина, Л.И.Коноваловой и многих других авторов. Так, Е.С.Истрина писала: "Трудно (разрядка наша -И.Л.) уловить разницу значения менду глагольным и причастным сказуемым" (Истрина Е.С. Синтаксические явления Синодального списка 1-й Новгородской летописи. Изв. ИОРЯС РосйН,т.24, кн.2, СПб, 1923, с.87). По мнению Н.С.Бикташевой, "как самостоятельный предикат краткое действительное причастие прошедшего времени выступало в таком предлонении, где его употребление не обусловлено ни соседним собственно глагольным сказуемым, ни какими-либо особыми конструкциями ... Причастие могло быть как единственным предикатом в предложении, так и членом ряда равноправных предикатов" (Бикташева Н.С. Предикативное употребление кратких действительных причастий прошедшего времени в русской письменности Хи -Х1Ш вв. // Способы выражения субъективных смыслов и синтаксической связи в сложном предложении. Душанбе, 1984, с.79). Тезис о том, что указанная предикативная функция ИДП никак синтагматически не обусловлена, представляется нам крайним мнением, равно как и точка зрения, что краткое действительное причастие этой функцией не обладало.
В то же время примеры, где ИДП выступает "единственным предикатом отдельного предложения или предложения, примыкающего к главному предложению по способу подчинения" (Истрина Е.С. Указ. соч., С.80) явно не укладываются в привычные представления о функции второстепенного сказуемого как центральной функции данного типа причастий. Объяснения этого синтаксического явления в имеющихся работах сводятся к трем основным вариантам.
Первое объяснение: употребление ИДП как самостоятельного предиката возможно только в качестве знаменательного компонента составного сказуемого. Поэтому во всех случаях употребления ИДП как единственного предиката предложения подразумевается опущение первоначально присутствовавшей там глагольной связки. Такой точки зрения придерживаются С.Д.Никифоров, Е.Л.Голубева, ВЛ.Георгиева. Однако против данного подхода, отказывающего ИДП в его предикативной силе, высказывался еще А.А.Потебня, который писал, что в древнем языке причастие имело "большую сте-
пень предикативности, чей в современном языке", и что это находило выражение "в возможности подлежащего с аппозитивным причастием при глагольном сказуемом, имеющем свое подлежащее", а такне в том, что причастия могли соединяться с глаголом союзом (Потебня ft.fi. Из записок по русской грамматике, ТТ. 1-2. М., С.187).
Второе объяснение, упрощающее: употребление ИДП как самостоятельного предиката - это ошибка пишущих при смешении форм ИДП с уже вышедшими из разговорной речи формами аориста и имперфекта. Пример такого понимания проблемы дается в "Очерках по синтаксису юнновеликорусского наречия" С.И.Коткова и З.Д.Поповой (М.,1986 ). Но в той же работе авторы пишут: "сами формы именных действительных причастий из живой речи не выпадали, а их синтаксические функции не устранялись": в памятниках деловой письменности обороты с ИДП выступали "как зависимые части сложного предложения, как обстоятельства действия, как одиночные определители глагола" (Указ. соч., С. 66). Таким'образом. Функционирование именных действительных причастий в исконных причастных" значениях должно было исключить возможность десе-мантизации данного типа причастия в языковом сознании русских книжников, во всяком случае, до такого предела, чтобы не отличать причастную форму от глагола.
Третье объяснение: употребление ИДП как самостоятельного предиката связано с функционированием данного типа причастий в роли второстепенного сказуемого (термин А.А.Потебни).Такого объяснения придерживаются большинство исследователей. Но вопрос о конкретных причинах появления у ИДП значения основного сказуемого решается только в некоторых работах, а именно: Л.В.Граве ( 1955 ), Н.И.Сабельфельд-(1985), О.Л.Рюминой ( 1982 ), Б.В.Кунавина (1985).
По мнению Л.В.Граве, "дательный самостоятельный", центром которого выступает ИДП, применялся в роли "независимого предложения" как особый прием для отграничения слов автора, вводящих прямую речь, и для выделения одного факта из ряда нескольких (Л.В.Граве. Дательный самостоятельный в русском литературном языке ХП-ХиП вв. Л.. 1955, С.11).
- 10 -
Н.И.Сабельфельд отметила а форм ИДП с суффиксами настоящего времени функции введения в повествование "дополнительной информации по поводу каких-либо сюжетных действий, событий" (Н.И.Сабельфельд. Система глагольных форм в сибирских летописях ХиМ века. Томск, 1985: 15).
Б.В.Кунавин также придерживался мнения о генетической связи мевду ИДП в роли "второстепенного сказуемого" и употреблением данного типа причастий как центров оборотов "именительных самостоятельных" и как единственного предиката придаточной части сложноподчиненного предложения. Исследователь поставил своей целью доказать, если не общность субъекта для причастия и глагола, то хотя бы наличие "особых семантических отновений между подлежащими именительного самостоятельного и глагольной части" (Б.В.Кунавин. Функциональные характеристики именных действительных причастий в дренерусском языке. П., 1985, С. 13).
Несомненно, общность субъекта "именительного самостоятельного" и глагольной части выступает показателем зависимости причастной конструкции. Однако она является лишь следствием отношения зависимости первой от второй, ведь та же самая общность субъекта у личных форм признается рядом авторов показателем однородности сказуемых.
Вопрос о том, являются ли ИДП и личная Форма, соединенные союзом, однородными сказуемыми, решается исследователями по-разноау, соответственно тому, как ими интерпретируется проблема однородности в целом. Если учитывать наличие у ИДП и глагола общего субъекта, а такше общую функцию - сказуемого, то по этим характеристикам причастие и личная форма могут рассматриваться как однородные, но однородность эта не может быть полной, так как всегда существует иерархическое отношение между самими сказуемыми, выраженными ИДП и глаголами. Сложность заключается в том, что степень зависимости ИДП от глагола-сказуемого может варьироваться и даже приближаться к нулю. Вот почему некоторые исследователи (Е.С.Истрина, А.Г.Руднев и др..) прибегают к термину "однородность" при определении отновений между ИДП и глаголом, как бы отграничивая случаи, где причастие обладает большей степень^ независимости, от случаев, где оно Функционально приближается к наречию.
Мы придеряиваемся точки зрения, высказанной А.А.Потебней, что ИДП и глагол-сказуемое "не связывались союзом как однородные члены предлояения, но в то яе время постановка союзов -это не механическая овибка писцов, хотя причастие в этих случаях не заменяет глагол" (А.А.Потебня. Указ, соч., С. 187).
В качестве источников материала для исследования привлечены два сборника новелл "Великое Зерцало" и "Фацеции", а также руководство- по сельскому хозяйству, садоводству и медицине конца Х1Лв."Назиратель". Все эти произведения были переведены с польских текстов ХУ1-Х1Ш вв., в свою очередь восходящих к латинскому оригиналу. ХШ век - это период, когда в России резко возрос интерес к западноевропейской культуре вообще и к научной, нравоучительной, художественной литературе, в частности. В этот период было сделано огромное количество переводов, пользовавшихся широкой популярностью в русском обществе.
Русские переводы художественных произведений были, скорее, вольными изложениями и даже переосмыслениями западноевропейских оригиналов. Переводчики отступали от текста оригинала не только из-за отсутствия лексических эквивалентов, "они приспосабливали переводы к повествовательным традициям славяно-русской письменности" (Р.Б.Тарковский. О формах повествовательно речевого приспособления текста в системе пословного перевода в России в ХиП веке // ТОДРЛ, Т. 36, Л.. 1981, С. 115-125).
В первой главе "Особенности употребления именных действительных причастий в функциях с идентифицирующим значением" определяются критерии отграничения предикативных причастий от непредикативных и рас1матриваются особенности функционирования ИДП в роли предикативного члена, аппозиции и в обороте "двойной винительный".
Общепризнанным критерием предикативного характера ИДП является наличие связи между ним и глаголом-сказуемым. ИДП без связи с глаголом - атрибутивное причастие, обозначающее постоянный, неотделимый от своего носителя признак. Но ваяно также наличие связи причастия с определяемым именем, поскольку в отсутствие этой связи ИДП превращается в наречие.
Характер соотношения именной и глагольной зависимостей предикативного причастия определяет синтаксический уровень, ко-
торока соответствует та или иная синтаксическая позиция ИДП. Можно выделить три таких уровня:
1) уровень распространяющего члена предложения, когда одна из синтаксических зависимостей заметно преобладает (употребление причастий в аппозитивном значении, в конструкции "двойной винительный", в функции предикативного обстоятельства);
2) уровень зависимой предикативной единицы, когда именная и глагольные зависимости причастия стремятся к равновесии (употребление причастий в оборотах "дательный самостоятельный", "именительный самостоятельный" и их трансформированных разновидностях);
3) уровень самодостаточной предикативной единицы, или отдельного предложения, когда связи причастия находятся в статическом равновесии (употребление причастия в качестве предикативного члена составного сказуемого).
Довольно широко распространенные в древнерусском языке сочетания действительных причастий и глагола-связки начали выходить из употребления к Хи веку. В изобилующем архаичными построениями тексте "Великого Зерцала" выявлено только два бесспорных примера, причем с глаголом-связкой БНТИ в форме будущего времени. Интересно также, что й обоих случаях данная конструкция употреблена в прямой речи персонажей. В первом примере отец невесты уговаривает отца жениха отдать все имущество екну, освободив себя таким образом от хозяйственных забот: сын твой восприимет свое, сам да блюдет, аз же буду ему п о-ы о г а я (ВЗ, л. 42 об).
Во втором примере сатана выносит приговор отсылаемому в преисподнюю: не и м е я буди покоя во веки (ВЗ, л. 29).
Семантика подобного построения, исходя из ситуации, предполагает действие, имеющее начало, но не имеющее конца. Взаиморасположение ИДП и глагола БЫТИ представлено двумя вариантами: 1) Г + ИДП; 2) ИДП + Г. Объясняется это, по всей видимости, тем, что во втором предложении отсутствует подлежащее, которое могло бы повлиять на порядок следования компонентов сказуемого (размещение глагола-связки в интерпозиции между именем и ИДП). Поскольку тексты предназначались большей частью для чтения вслух (Б.А.Рыбаков. Древняя Русь, й., 1963, с.265 ),
порядок слов зависел также от канонов ритмической организации устной речи. При сопоставлении обоих примеров отмечен их сходный ритмомелодический рисунок.
А.А.Потебня ввел термин "аппозиция" по отношении к той Функции ИДП, которая предшествовала формировании деепричастия, а также термин "второстепенное сказуемое" для уточнения значения аппозиции. Названные термины ученый употребил в паре, но не параллельно, так как они выражают разные стороны одного (в данном случае) явления. Аппозиция - это преаде всего специфическое отношение между определяемым и определением, а второстепенное сказуемое - это отношение между подлезащин и полупредикатом. Содержание аппозиции, на наш взгляд, предполагает триаду отношений: определительного (основного отношения), предикативного и обстоятельственного (дополнительных отношений).
Из понимания аппозиции как особого случая определения вытекает, что аппозитивное функционирование ИДП было возможно до тех пор, пока в древнерусском язнке сохранялось атрибутивное употребление этого типа причастий. Единичные примеры применения ИДП в собственно определительной значении отмечены нами в текстах "Великого Зерцала" и "Фацеций": [учитель] вмале познаваше его, ибо яко мертвец много времени во гроае л е ж а щ видеся (ВЗ, л. 96 об); изведоша пред кесаря коня зело буява и жестока, высоку выи н о с я ц а, скорообратна и быстрозрачна (Ф, л. об).
Для аппозитивного причастия связь с определяемым является основной, а с глаголом-сказуемым - добавочной. Проблема отграничения аппозитивного причастия от атрибутивного резается с помощью анализа содержания отношений между: а) ИДП и опорным существительным: б) между ИДП и глаголом-сказуемым. Если предмет, названный опорным существительным, отличается неопределенностью (впервые упомянут в тексте, назван нарицательным существительным, относится к не единственным в своем роде предметам), то причастие выполняет при таком существительном собственно атрибутивную функцию и составляет с ним нерасчлененное понятие, например: при некоем граде змий великий вселися человеки и скоты пожирая, ему же ни орудие, ниже кая сила людская что возможе сотворити (ВЗ, л. 117).
- 14 -
Если названный опорным существительным предмет характеризуется определенностью, то наблюдается изначальная семантическая расчлененность определяемого имени и его признака, следовательно, Форма причастия в данном случае выступает в роли предикативного определения (аппозиции). Мевду- аппозитивным ИДП и глаголок-сказцемкм существует причинно-следственная связь, например: Сократ име Ксанфиту вену, учену ве, но злоба и учение превозмогает, ибо злоязычная сущи, всегда мужу злоречила, поносила и лаяла (О, дл. 34 об); братия неции единоотечни, н е >: с т е в а е работати, обнищаша (ВЗ, л. 27).
В функциональном отношении аппозиции близка конструкция "двойной винительный" (переходный глагол + имя в винит, падеве с согласованным причастием), которая большинством исследователей (К.А.Гоионова, И.Б.Кузьмина, Е.В.Немченко и др.) относится к сфере предикативного употребления причастий. Однако у некоторых авторов "двойной винительный" упоминается лишь в связи с атрибутивной функцией ИДП (Е.А.Голубева).
Причиной разной интерпретации оборота является существование в древнерусском языке двух омонимичных построений: ' "Винительного атрибутивного" и "двойного винительного". В современном языке эта омоникия устранена различием в порядке слов и употреблением предикативного причастия в форме творительного падева. Атрибутивный и предикативный обороты с винительным падевом имени и причастия могут быть трансформированы соответственно в придаточные определительные и изъяснительные. Предикативное причастие долвно иметь семантическую связь с глаголом-сказуемым и семантическую расчлененность с определяемым именем-объектом. Для этого необходимо сочетание трех условий: 1) глагол-сказуемое должен относиться к ЛС Г со значением мышления или чувственного восприятия; 2) ИДП должно иметь форму настоящего времени: 3) имя-объект должно характеризоватся определенностью. Например: и некоя годины зрит [инок]" господа нашего Иисуса Христа грядуща (ВЗ, л. 8 об).
Сравним с атрибутивным оборотом: и молит [брат] его да изыдет на мало время и поможет ему извлещи вола во блате п о-г р я з в а (ВЗ, л. 182 об).
- 15--------
Функции с идентифицируациа значением были исторически первыми в ряду предикативных функций НДП и отражали первоначальное главенство именного компонента в категориальной семантике причастия. Последующий семантический сдвиг кратких причастия в сторону глагола привел к утрате последними этих санкций, пере-аедвих к местоименным формам. По своему лексическому наполнения ИДП в данных синтаксических позициях предстазяязт самые разные лексико-семантические группы (далее - ЯСП. Принципиальное значение для отнесения того или иного случая употреблении конкретной причастной форма к определенной функции с идентифицирующим значением имеют лексические значения опорных существительных и основных предикатов.
Во в тор ой главе "Особенности употребления иягнннх действительных причастий в функции полупредиката с обстоятельственным значением" рассматривается применение НДП в функций, которая послужила прообразом функции современна, деепричастий.
В качестве членов предложения русские деепричастия квалифицируются либо как второстепенное сказуемое (далее - ВС), либо как обстоятельство с различными оттенками значений. По традиции, термином "второстепенное сказуемое" называется функция ИДП (впоследствиии и - деепричастия), отличагдаяся больаей "предикативной силой" (выраяение А.А.Потебни), по сравнения с Функцией обстоятельства образа действия, бдазкой по значекнп к наречию. Под "второстепенностьв" обычно понимается обозначение "добавочного, побочного, сопутствующего действия" (А Л). Припад-чев). Однако сопутствующие действия могут обозначаться такае Финитной формой и. деепричастием в роли обстоятельства образа действия. Кроме того, термин ВС применяется такие для обозначения функции аппозитивного причастия.
Исходя из вывеизложенного", необходимо уточнить понятие "второстепенного сказуемого". Применительно к ИДП, две Функции (ВС и обстоятельства) таким образом пересеклись в одном словоупотреблении, что причастие в предлозении выступает сиазуемыа по отновению к подлежащему и одновременно - обстоятельство:« по отношению к предикату. Дефиниция "второстепенное" подчеркиваэт тот факт, что ИДП является сказуемым отчасти, что оно - полупредикат и степень предикативности его не "первая", а "вторая".
Баланс связей ИДИ с подлежащим и сказуемым может колебаться от примерного равновесия до явно выравенного главенства последней. Б первое случае ВС будет основным (из двух) функциональных значений ИДП. во втором - добавочной, слабо выраженной. По аналогии с общепринятой характеристикой аппозиции как "предикативного определения" (опорное слово в этом словосочетании соответствует главной из двух функций аппозиции), можно предложить использовать термины "обстоятельственный предикат" (для случаев с доминированием ВС) и "предикативное обстоятельство" (как синоним обстоятельства образа действия, выраженного ИДП). Предикативное определение, обстоятельственный предикат и предикативное обстоятельство - это три разновидности полупредикатов, т.е. членов предложения, в которых функция сказуемого сочетается с атрибутивной и обстоятельственной. Функция второстепенного сказуемого объединяет все три названные разновидности полупредккатов и является системообразующей (центральной) для всех предикативных функций ИДП.
Формальными и семантическими признаками обстоятельственного предиката являются: 1) препозиция ИДП относительно сказуемого; 2) наличие у ИДП распространителей; 3) принадлежность ИДП и основного предиката к разным ЛСГ; 4) наличие причинно-следственных отношений между действиями, обозначенными ИДП и основным сказуемым; 5) включенность действия, обозначенного основным предикатом, б действие, обозначенное ИДП.
К названному синтаксическому типу мы отнесли как случаи, где ИДП примыкает к основному предикату, так и примеры с постановкой сочинительного союза между причастным и основным сказуемым. Характерными особенностями данного применения ИДП являются, во-первых, преимущественное расположение типа И - ИДП - Г (где И обозначает имя существительное, а Г - любую глагольную форму, от которой синтаксически зависит ИДП); во-вторых, преобладание форм ИДП прошедшего времени. Препозитивное расположение причастия отражает характер временной зависимости: предшествование или одновременность (но обязательно с некоторой фазой предшествования) действия, обозначенного ИДП. Форма проведшего времени соответствует указанному значению. Например: Кассандра не, уловивши муза, зело радуется о службе слу-\
ги СФ, л. 47); тогды после годд выкопав оное все розде-лити или росколоти оную колоду мея леторасльми СН. л. 150).
Форма ИДП настоящего времени указывает на включенность в обозначенную им ситуацию действия, называемого основным сказуемым, например: веси единыя житель, умирая, завеща вене продати вола (Ф, л. 40); сланость песку в глубине будучи испортит все (Н, л. 117).
Случаи с постановкой между ИДП и основным предикатом сочинительных союзов И, ДА, НО, ОБАЧЕ, SE представлены только в повествовательных текстах. Особенно ими изобилуют новеллы "Великого Зерцала" - примерно 2Q У. от общего количества употреблений ИДП в роли обстоятельственного предиката. 0.Д.Рюмина проанализировала в плане семантических форм мышления три типа сочетаний: "послушавг., поиде", "послушавъ и поиде" и "послуза и поиде" на материале переводных новелл XUII в. и пришла к выводу, что с точки зрения семантической формы все три конструкции не синонимичны iО.Л.Рюмина. Формально-семантические особенности глагольных конструкций типа "послушавъ и поиде"// Семантика грамматических форм. Ростов н/Д, 1982, С,63). В целом признавая справедливость данного вывода, приведем следующее предположение. Как правило, семантические расхождения оформлены. И все же стоит учесть такую черту древних текстов, как плеоназм, особенно широко отмечаемый в период разрушения старых и становления новых форм. Бесспорно, ИДП и финитная форма - не тождественны. Сочетания же типа "послушавъ, поиде" и "послушавъ и поиде", на наш взгляд, можно признать синонимичными. Постановка союза не указывает на новые семантические отношения между полупредикатом и предикатом, а плеонастично эксплицирует традиционные. Кроме того, применение союзов могло иметь также интонационную природу. В.В.Колесов отмечает синтагмообразующую функцию древних союзов, обусловленную стремлением "восстановить ритмическую структуру традиционного текста, разрушенную после падения редуцированных". Кроме того, отсутствие знаков препинания в'современном значении вынуждало средневековых авторов изобретать различные "средства грамматической отмеченности синтагмы" (основной единицы древнего текста), среди которых было также использование причастных форм (В.В.Колесов. Древнерусский ли-
тературный язык. /1., 1989, С. 23, 68). например: епископ некий добродетелный великаго апостола первозваннаго Андрея между всеми паче ке и над вся святыя почитая и великую веру име к нему сБЗ, л. 30 об); балбер за се зело возъярився и повеле [...] (Ф., л. 56 об).
В подобных сочетаниях отмечены формы как настоящего, так и проаэдаего времени, соединенные союзами не только с последующей, но и с предыдущей глагольной формой.
ИДП в роли обстоятельства образа действия (далее - 00Д) такае широко представлены в анализируемых текстах. В "Назира-теле" данная функция является доминирующей в силу характера текста, представляющего собой свод рецептов и советов по домоводству. По мнении ряда авторов, указанная функция не относится к предикативным. Тем не менее, у ИДП (как и у деепричастий) в значении 00Д, хотя и в слабой степени (при наличии соотнесенности с подлежащий), присутствует функция второстепенного сказуемого. Случаи употребления ИДП в роли ООД отграничиваются от примеров с обстоятельственными предикатами на основании лексических значений причастия и глагола.
А.А.Припадчев полагает, что деепричастие в функции ООД "полностью включено в действие глагола и называет не столько самостоятельное действие, сколько вместе с глаголом одно слоа-_. ное действие" (А.Й.Припадчев. Синтаксическое функционирование глагольных форм в русском языке ХУII века // Развитие и функционирование русского глагола. Волгоград, 1981, С. 31).
Формально-семантическими признаками функционирования ИДП в роли ООД являются: 1) преимущественно постпозитивное расположение ИДП относительно основного предиката; 2) принадлежность причастия и глагола к одной ЛСГ; 3) отсутствие причинно-следст-вйнных отношений между полупредикатом и предикатом; 4) полная включенность действия, обозначенного ИДП, в действие глагола-сказуемого (как одного из этапов или как ограничителя сферы и интенсивности). Из компонентов, актуализирующих значение ООД, наиболее характерны наличие при ИДП отрицания, распространителей, обозначающих меру и степень, называющих инструменты или предметы труда; нередко распространители при глаголе и причастии восходят к одному дендтату. Например: егда отруби пшеничные
намочит в теплой воде смешавши в воде.а после перецедивши что кислые шти и едячи сицевые эти очищают и лекчают перси и легкое (Н, л. 132 об).
Наиболее ярко проявляется значение 00Д, когда перед ИДИ стоит ЯКО при сравнении, например: аена ае не я к о превде понося, но ласкательными словесы нача вещати (0, л. 40). Такае при отнесенности ИДП и основного сказуемого к одной ЛСГ: [девица] едва нозе влекущи, побеае (ВЗ, л. 63); мокрота после дабы растлелася изгнивши (Н, л. 63 об).
Особую группу составляют примеры с ИДП от глаголов со значением речи, употребляющиеся в устойчивых формулах, содерзацих ИДП и глагол из одной ЛСГ. Это сочетания типа "рече, г л а г о-л я", "и з в е с т в у ю щ е, рече" и т.п., маркирующие чужую речь. Высокой частотностью таких штампов объясняется появление примеров без финитной формы: не печалуй, глаголице, приятелю наш С ВЗ, л. 51 об).
Характерной особенностью повествовательных текстов является преобладание в функции обстоятельственного предиката ИДП, относящихся к ЛСГ двиаения, чувственного восприятия, мышления и говорения. 9 ИДП в роли 00Д перечисленные лексические значения отмечены главным образом в сочетании с глаголами-сказуемыми из той ае ЛСГ.
В третьей главе "Особенности употребления именных действительных причастий в оборотах-аналогах придаточных предложений" рассматривается функционирования конструкций "дательный самостоятельный", "именительный самостоятельный" и использование ИДП в роли единственного предиката придаточного пред-лояения, зафиксированные только в повествовательных текстах.
Старославянский оборот "дательный самостоятельный" включал имя существительное (местоимение) в форме дательного паде-аа и согласованное с ним именное действительное причастие, располагался в препозиции к основной части предложения и имел значение придаточного времени, реае - причины, условия и уступки. Субъекты действий классического "дательного самостоятельного" и предложения не совпадали. В 2/3 случаев употребления данной конструкции в тексте 'Великого Зерцала" оборот предстает или
неказенным формально, сохраняя исконную семантику, или не сочетает внешнЕзз и внутреннюю трансформации. Например, "дательному самостоятельному" (далее - ДС) в его исконном значении - обстоятельственного придаточного - придавались плеонастичные подчинительные союзы; вместо способа примыкания ДС присоединялся к основной части с помощью союзов И, НО; субъект действия оборота и глагольной части в ряде случаев стал совпадать. Сравним классический и внешне исканенный ДС: 1) святому Герману епископу пришедшу в Галлию, нищим просители просиша у него милостыни (ВЗ, л. 123); 2) и ЕГДА оному работнику идущу от молитвы И от богатого приимши хлеб и в дом свой иде (ВЗ, л. 124 об).
Кроме того,- в 43 примерах ДС выступает в функции независимого предлокения (как часть сложносочиненного, как главная часть сложноподчиненного или как отдельное предложение). Во всех случаях подобного функционирования ДС его субъект отличается от субъекта граничащих с ним предложений. Возможно, что такое использование оборота было стилистическим изобретением средневековых авторов для маркировки чередующихся субъектов в цепочке предложений, учитывая характерное для синтаксиса того времени чередование субъектов, часто имплицитных или выраженных при помощи местоимений. Эту черту древнерусских текстов неоднократно отмечали исследователи (Б.А.Рыбаков. Указ. соч.; З.Трестерова. К некоторым особенностям связности древнерусского текста и их роли в перестройке синтаксиса // Восточные славяне. Языки. История. Культура. М., 1985, С.16). Например: он презрев суд божий, угождая человеком.и не хотя ослави-тися и сомнению грызущуине достоин сый при-коснутися таковых странных таинств (ВЗ, л. 170).
Оборот "именительный самостоятельный", как и ДС, использовался для введения в повествование информации, служащей завязкой сюжета произведения, или поясняющей события. Например: в вечер глубокий возвратися в дом и с е д я тако, себе д а я покой и воздремався (ВЗ, л. 110). Аналогично ДС, "именительный самостоятельный" использовался для переключения внимания при чередовании субъектов и для акцентирования какого-либо важного факта, например: и егда токмо сие [хо-
зянн] изрече, абие kckoí? н петел в о с к о ч.и з е со Слада на стол (33, л. 183).
НДП в роли единственного предиката придаточного предложения представлены в текстах довольно аироко (5 Á' от общего количества примеров). Подобные конструкции подробно исследованы Б.В.Кунавиным. В основном на«и данные совпадаат с полученными им результатами. Однако имеются и отличая. По мнения 5.В.Куна-вина, "ваянейаим конститутивным признаксн" аналнзярувянх построений является "односубъектность глагольного и причастного сказуемых" (указание на генетическув связь с функцией второстепенного сказуемого) (Б.В.Кунавин. К вопросу о причастии-сказуемом в древнерусском языке // Функционирование языковых единиц в синхронии и диахронии. Л., 1987, С. 74). Нами зафиксировано 12 примеров, в которых сказуемые главной и зависимой частей имеют разные логические субъекты, например: и ESE что о нем бог творя не себе, но богу и силе его во останках святых присущдааб (ВЗ, л.120 об). Подавляющее большинство примеров представлено конструкциями с совзом ЙЗЕ.
Заключение содераит обобщенные выводи об особенностях предикативного употребления ИДП в анализируемых текстах.
Рассмотренные примеры предикативных ИДП объединяатся в систему из 8 функций, центром которой выступает значение "второстепенного сказуемого", в наибольией степени присутствующее у причастий в роли обстоятельственного предиката. Указанное значение является основным и у современных деепричастий. Группа древних функций с идентифицирующим значением, равно как и группа нетрадиционных функций оборотов-аналогов придаточных пред-лощений, составляли периферию предикативных Функций ИДП и потому были утрачены. Употребление кратких действительных причастий в позициях, в которых нормой современного русского языка допускается использование только финитных форм, было вазаоано не потому, что причастие якобы приравнивалось к личной форае, а потому, что древнее членение текста не совпадало с современным. Следовательно, функциональные значения причастий выявляются в рааках того образования, которое соотносится не с отдельным предлоаениеа современного русского языка, а со слоеным синтаксическим целым или даае со всем текстом. Ряд особенно-
стей функционирования ИДП (порядок слов, наличие плеонастичных выражений) были связаны с ритмической организацией текста.
В сфере синтаксиса рассмотренных переводных текстов следов влияния языка, с которого были сделаны переводы, не обна-рукено.
Половина предикативных Функций ИДП, в том числе центральная функция системы, в значительной степени формируются сочетанием лексических значений причастных и глагольных предикатов. Это обусловлено тем, что данные функции теснее других связаны, между собой узами происхождения одна от другой и поэтому эксплицируются омонимичными построениями.
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:
1. Функции оборота "дательный самостоятельный" в языке "Великого Зерцала" //Проблемы референции; в языке И литературе. Тбилиси, 1987, С. 150 - 151.
2. К вопросу о независимом причастном сказуемом. Д., 1987. 7 с. Деп. в ИНИОН 26.05.87, N 29552.
3. Модель комплексного семантического анализа конструкции "двойной винительный" в древнерусском языке //Теоретическая и прикладная семантика: Парадигматика и синтагматика языковых единиц. Краснодар/ 1996, С. 34 - 36.
Подписано в печать Формат бумаги 60 х 84 1/16. Усл. печ. л. Уч. изд. л. Тираж 110 экз. Заказ N
Подразделение оперативной полиграфии КубГУ 350040, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 25.