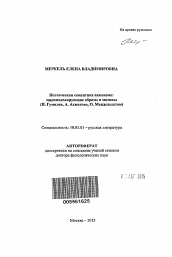автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Поэтическая семантика акмеизма: миромоделирующие образы и мотивы
Полный текст автореферата диссертации по теме "Поэтическая семантика акмеизма: миромоделирующие образы и мотивы"
На правах рукописи
МЕРКЕЛЬ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Поэтическая семантика акмеизма: миромоделирующие образы и мотивы (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам)
Специальность: 30.01.01 - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации па соискание ученой степени доктора филологических наук
2 О АСГ 2015
005561625
Москва —2015
005561625
Работа выполнена на кафедре русской филологии Технического института (филиала) ФГАОУВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри
Научные консультанты:
доктор филологических наук, профессор Кихней Любовь Геннадьевна, доктор филологических наук, доцент Гавриков Виталий Александрович
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, доцент Дзуцева Наталья Васильевна,
профессор Ивановского государственного университета (10.01.01)',
доктор филологических наук, профессор Леденев Александр Владимирович,
профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (10.01.01);
доктор филологических наук, доцент Раскипа Елена Юрьевна, научный сотрудник Международного гуманитарно-лингвистического института, профессор кафедры общегуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин МГЛИ (10.01.01).
Ведущая организация:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук» (сектор литературоведения)
Защита состоится «18» сентября 2015 года на заседании диссертационного совета Д 212.203.23 при Российском университете дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, ауд. 730.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
Объявление о защите и автореферат размещены на сайтах http://vak.ed.gov.ru и http://dissovet.rudn.ru
Автореферат разослан «17» августа 2015 года. Учёный секретарь
диссертационного совета /
кандидат филологических наук, доцент (/г^б*1^*^^) Базапова А.Е.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Обоснование темы и предмета исследования. Выбор темы обусловлен тем, что с самого момента становления акмеизма как литературного течения его критикуют, во-первых, за оторванность художественной практики от теоретических, закрепленных в манифестах и метапоэтичесюи статьях тезисов; во-вторых, за отсутствие единства внутри течения, невозможность интегрировать наследие ведущих акмеистов в единую поэтику. Соответственно, назрела необходимость, с одной стороны, обобщить и критически осмыслить то, что было сделано литературоведением в области изучения поэтики акмеизма; с другой стороны, предложить универсальные критерии, которые бы позволили подтвердить или опровергнуть положение о единстве поэтики акмеизма как иерархически организоватгой, единой в своих основах структуры.
Подходом, способным решить данную проблему, является рассмотрение поэтической семантики акмеизма в ее основных миромоделирующих образах и мотивах. Семиотическая школа (Ю.М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров и др.) показала, что именно в данных категориях закреплены не только ориентационный фундамент самоощущения (пространственно-временной континуум), но и многие аспекты, связанные с дискурсивными, поэтологическими, субъектными н другими характеристиками. При этом скрупулезное исследование миромоделирующих мотивов и образов позволяет, получить представление об акмеизме не только как о едином в своих семантических и миромоделирующих основах литературном течении, но и как, как о явлении эволюционирующем, обладающем своей внутренней логикой развития, которой были подчинены идиопоэтики крупнейших представителей данной поэтической школы (Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама).
Предпринято уже достаточное количество исследований, проливающих свет на ряд аспектов поэтики акмеизма, так ми иначе связанных с поэтической семантикой и другими общими вопросами, которые прямо или косвенно коррелируют с темой настоящего исследования. Первые литературно-критические отзывы о творчестве акмеистов появились в момент зарождения датпгаго течения. Но, за исключением В.М. Жирмунского, литературные критики судили о новой школе предвзято и поверхностно. В советское время акмеизм паходился на периферии исследовательского внимания, а если ученые его а касались, то рассматривали, как правило, с ьульгарно-социологических позиций.
Академическое исследование акмеизма началось лишь в эпоху «оттепели». Начиная с 1960-х годов поэтическая семантика акмеизма анализируется в контексте изучения общих проблем литературного и культурного процессов начала века. В работах В.М. Жирмунского, Е.Б. Тагера, АЛ. Григорьева, Е. Эткинда, Е.В. Ермиловой, И.В. Корецкой, A.B. Леденева, В.А. Мескина, Д.М. Магомедовой, JI. Силард, И.П. Смирнова, Е. Паплы, М.Л. Гаспарова и др. акмеизм вписан в парадигму других модернистских течений, установлены его временные рамки, определена эстетическая платформа.
Особую значимость для настоящего исследования представляют трехчастные «Заметки об акмеизме» Р. Тименчика (Russian Literature.1974, 1977, 1981) и статья Ю.И. Левина, Д.М. Сегала, Р.Д. Тименчика, В.Н. Топорова, Т.В. Цивьян «Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма» (Russian Literature. 1974). В названных трудах осмысляется поэтика «раннего» (Р. Тименчик) и «позднего» (Ю. Левин, Д. Сегал и др.) акмеизма.
И.П. Смирнов в ряде работ («Художественный смысл и эволюция поэтических
систем» (М., 1977); «Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней» (М., 1994)) выявляет семиотические механизмы бытования поэтических течений русского модернизма в целом и акмеизма в частности, а также анализирует поэтические течения Серебряного века в контексте психоаналитической методологии.
В конце 1980-х — начале 2000-х годов изданы фундаментальные отечественные монографии об акмеизме - O.A. Лекманова («Книга об акмеизме и другие работы» (Томск, 2000)) и Л.Г. Кихней («Философско-эстетические принципы акмеизма и художественная практика Осипа Мандельштама» (М., 1997); «Акмеизм: миропонимание и поэтика» (М., 2001; М., 2005)), где обстоятельно проанализированы системные начала акмеизма.
В последние десятилетия появился ряд интересных исследований и проектов, посвященных истолкованию акмеизма как разновидности постсимволизма (работы X. Гюнтера, Н. Дзуцевой, И. Есаулова, О. Клинга, С. Мартьяновой и др.) и неотрадиционализма (работы В. Тюпы, С. Бройтмана, В. Хализева, О. Склярова).
В 2000-х годах наметилась тенденция более детального и скрупулезного изучения акмеизма в некоторых его семантических аспектах. Здесь следует выделить, прежде всего, монографию Е. Куликовой о поэтике акмеистического пространства («Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов» (Новосибирск, 2011); а также исследования по семантике телесности (Л. Кихней, Е. Полтаробатько), поэтической коммуникации акмеистов (Т. Круглова), особенностях лирической циклизации (Е. Верхоломова), поэтике городского и архитектурного текстов (Н. Шмидт, С. Крутий), проблемам интертекста (Е. Раскина, А. Рослый), специфике цеховой консолидации акмеистов (А. Чабан). Появилось немало ярких работ, связанных с рассмотрением творчества первостепенных представителей акмеизма -Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама.
Однако проведенные исследования не сняли вопрос о единстве акмеизма как литературного течения. В этой связи назрела необходимость парадигматического исследования миромоделирующей семантики акмеистического дискурса. Уже неоднократно отмечена повторяемость и вариативность многих ключевых образов акмеистов, циркулирующих не только в рамках индивидуального творчества, но и в общем семантическом поле акмеизма. Тем не менее далее констатации литературоведение пока не пошло. До конца не определена и встроешгость идиопоэтики каждого из крупнейших представителей поэтической школы в интегральную акмеистическую поэтику, а также соотношение теории и художественной практики акмеистов. Нерешенность вышеозначенных проблем предопределяет актуальность предложенного исследования, одновременно обусловливая его цели, предмет, объект и выбор методологии.
Для того чтобы преодолеть противоречие «системы» и «индивидуального языка», а также теоретических деклараций и творческой практики, следует пересмотреть методологические принципы изучения акмеизма.
Очевидно, акмеизм следует рассматривать в рамках системно-типологического подхода: не столько как статическую данность, сколько как конструктивную тенденцию целевых установок и художественных принципов, общих для ряда авторов. А это предполагает выявление общего знаменателя школы.
Данные интегральные основы первично заложены в акмеистической теории, отраженной в манифестах, а именно - в статье Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (1913) и в статье Сергея Городецкого «Некоторые течения в
современной русской Поэзии» (1913). Эти работы, равно как и статья Осипа Мандельштама «Утро акмеизма» (написанная в 1912 <или 1913> году, но опубликованная лишь в 1919 году), имеют важнейшее значение для уяснения общеэстетической стратегии школы. Однако их сопоставительный анализ показывает, что основная цель этих статей — разграничительная. И Гумилев, и Городецкий, и Мандельштам ставили перед собой задачу отделиться от предшественников-символистов.
Второй из возможных путей поиска общей платформы течения — обнаружение стилевой гомологии, общности приемов художественного выражения. По этому пути пошли такие авторитетные ученые, как И. Смирнов, О. Клинг, В. Вейдле и др., которые выявили специфику языка акмеистов по сравнению с языком символистов или футуристов. Но исследовательские результаты, полученные в рамках стилевого дискурса, не дают ответа на вопрос о причинах и закономерностях формирования тех или иных стилевых парадигм.
Наша гипотеза состоит в том, что различия художественных систем модернистских течений Серебряного века лежат в различных «моделях мира», на которые ориентируются поэтические течения начала XX века. Только формирование общей для всех адептов течения миромодели может служить тем базисом, который порождает новую эстетическую стратегию, влекущую за собой изменение конкретных приемов литературного письма.
В таком случае целью нашего исследования является вычленение миромоделирующих координат акмеизма и описание семантических закономерностей их образно-мотивного воплощения.
Исходя из этого, в качестве первоочередных задач мы выдвигаем:
1) вычленение семантических координат миромодели акмеизма как поэтического течения;
2) селективный отбор и функциональное описание миромоделирующих образов и мотивов - в их парадигматическом развертывании - в индивидуальных идиопоэтиках акмеистов;
3) компаративистский и дистрибутивный анализ означенных мотивно-образных комплексов с целью выявления семантических инвариантов акмеистической онтопоэтики.
Для решения поставленных задач необходимо прежде всего определить более точно предмет исследования, выделив его из той сложной сетки взаимно пересекающихся параметров, образующих индивидуальные семантические системы. Для его определения необходима опора на методологию структурно-семиотической школы. Отечественные литературоведы-семиотики ЮМ. Лотман (см.: Лотман Ю.М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3 т. Т. 1. Таллинн: 1993. С. 413-447; Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970) и В.Н. Топоров (см.: Пространство // Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М., 2010. С. 421-434; Топоров В.Н. Пространство и текст // Указ. соч. Т. 1. С. 318-382) убедительно доказали, что фундаментальными категориями, формирующими процесс миромоделирования в художественном дискурсе, становятся категории времени и пространства.
Вслед за Ю.М. Лотманом и В.Н. Топоровым мы полагаем, что именно эти параметры моделируют самые глубинные уровни художественного текста. И по нашей гипотезе, у художников, чьи модели мира совпадают, названные параметры должны быть гомологичными. Отсюда вытекает, что эти две категории в первую очередь
должны рассматриваться при изучении галогенной семантики течения. Причем исследоваться не количественно и статистически (например, через подсчет лексем, как это делает Л. Г. Панова в монографии о Мандельштаме («"Мир", "пространство", "время" в поэзии Осипа Мандельштама» (М., 2003)), а системно-типологически. Ведь главная проблема, которая здесь встает перед исследователем, заключается в том, чтобы показать их системно-смысловую связь друг с другом и определить, как эта «онтопоэтическая» система влияет на гносеологический и собственно поэтический уровень.
Для того чтобы определиться со следующими базовыми параметрами, определяющими специфику акмеистической миромодели, необходимо вернуться к заявлениям-манифестам теоретиков течения, где отражается полемика с символистами. Дело в том, что на стержне этой полемики была провозглашена и позитивная программа, правда, выраженная достаточно декларативно. Здесь имеется в виду сформулированная в каждом из трех манифестов установка течения на аксиологическую реабилитацию посюстороннего бытия, ценность которого символистами подвергалась сомнению. Причем оправдание реального мира затрагивало все его аспекты: ценностными признавались даже самые малые, незначительные явления (в манифесте Гумилева), прозаически-бытовые (в эссе Мандельштама «О природе слова») и даже «безобразные» (в манифесте Городецкого).
Сосредоточенность поэтов-акмеистов на внешнем бытии предполагает, что в парадигму миромоделирующих координат течения входят образные категории, отражающие «вещественную плоть» реального мира. Сюда относятся природные субстанции и явления: астральные (звезды, солнце, луна), земные: земля как почва, камни (камень как субстанция), песок, горы; водная стихия (море, реки, земля, вода как субстанция), трава, цветы, лес, деревья (дерево как субстанция); тело, телесные субстанции (кровь, кости / хребет), предметы, вещи домашнего быта (интерьер, аксессуары одежды), предметы и явления городского быта (здания, домашние помещения), соборы, средства передвижения, образы еды (хлеб / пшеница, вино, вода, яблоки и пр.).
И наконец, последний образно-мотивный комплекс, определяющий специфику акмеизма как течения, включая такой важнейший для каждого течения параметр, как цель искусства и назначение художника, связан с акмеистической интерпретацией Слова и концепцией творчества. Согласно акмеистам, с одной стороны, вещам свойственна интенциональная потребность обрести имя, чтобы войти в круг бытийствешюй коммуникации, с другой стороны, тем же стремлением обладает мышление - воплотиться, оформиться в слове. Слово оказывается «медиатором» между сознанием и внешним миром. Это связано, как полагают акмеисты, с тем, что слову свойственны структурирующие, смыслообразующие потенции. Экспликация смысла происходит в языке, поэтому язык - тождествен всему. Философия слова акмеистов, представление о слове как о «картине бытия» предмета, пронизанной «смысловыми энергиями», и в то же время представление о его ипостазированности (обозначении разницы в его смысловой наполненности в бытовой и художественной речи) неразрывны.
Отсюда следует, что предмет настоящего исследования предопределен философскими и аксиологическими установками акмеизма. Им являются миромоделирующие мотивно-образные комплексы (хронотоп ические, природно-субстанциалъные, предметно-телесные илогосно-поэтологические).
Аналитическое рассмотрение обозначенных миромоделирующих комплексов обретает особую значимость при анализе поэтической семантики акмеизма, так как
именно эти семиотические коордштаты и позволяют определить те смысловые параметры, которые обеспечивают «смысловую целостность» течения, типологию его поэтики.
Объект настоящего исследования — поэтическая семантика трех акмеистов — Николая Гумилева, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой. Непосредствешшм материалом рассмотрения является их лирическая поэзия, а также критическая проза и эссеистика. В выборе объекта исследования мы руководствовались, в первую очередь, репрезентативными и ценностными критериями. Выбранные для аналитического рассмотрения авторы - поэты первой величины, которые составляют ядро акмеизма (О. Лекманов). Ведь именно они являются «застрельщиками» течения (практика ранних ахматовекпх сборников послужила, по свидетельствам участников литературпого процесса Серебряного века, материалом для построения акмеистической парадигмы); его организаторами (Гумилев) и теоретиками (Гумилев, Мандельштам). Мы полагаем, что в поэзии Гумилева, Мандельштама и Ахматовой акмеистическая модель мира воплотилась наиболее полно, ярко и многомерно. Выводы нашего исследования и сам методологический алгоритм, с помощью которого они были достигнуты, позволят в дальнейшем проверить полученные результаты на материале творчества других акмеистов, системное изучение творчества которых только начинается (см. работы О. Лекманова, Л. Кихней, Е. Полтаробатько, А. Чабан и др.) — Сергея Городецкого, Владимира Нарбута и Михаила Зенкевича.
Наше исследование предполагает комплексную методологию. Помимо системно-типологического метода, указанного выше, мы используем принципы культурно-исторического и компаративистского методов. Разумеется, мы обращаемся и к структурно-семиотическому подходу, отличающемуся строгой методологической обоснованностью. Вместе с тем структуралистские методы исследования хотя и позволяют обозначить морфологию мотивно-образных структур, но не выявляют контекстуальные механизмы функционирования их семантических дериватов.
Прослеживание функционирования сквозных смысловых комплексов, обязывает нас обратиться к функционально-семантической методике анализа. Подобная методика — применительно к поэтическому тексту — была разработана Н. Павлович в работе «Язык образов: Парадигмы образов в русском поэтическом языке» (1995). Исследователь определяет образную парадигму как «инвариант ряда сходных образов, который состоит из двух устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления» (Указ соч. С. 7). Вне парадигматического осмысления ключевых семантических комплексов Мандельштама их смысловое наполнение, на наш взгляд, представляется односторонним, ибо, для того чтобы «по-настоящему понять образ, нужно узнать его парадигму» (Там же. С. 7). Заметим, что при отборе лексем для анализа их семантических дериватов мы руководствовались не только принципом повторяемости, но и их семантической значимостью, опираясь при этом на концепцию И. Силантьева, изложенную в его книге «Поэтика мотива» (М., 2004).
Вместе с тем, по мере надобности мы обращаемся к другим аналитическим техникам рассмотрения художественных произведений (к герменевтической интерпретации текста, к интертекстуальному и ритуально-мифологическому комментарию).
Для достижения поставленных цели и задач, на наш взгляд, наиболее целесообразен следующий алгоритм исследования:
1) в поэтических системах каждого из акмеистов выявляется типология:
а) пространственно-временного коптннуума,
б) субстанциональных и вещно-вещественных образов и мотивов,
в) представлений о слове, произведении, творчестве.
2) Все эти образные и мотивные варианты (выявленные в творчестве каждого из рассмотренных поэтов) сводятся к инвариантным моделям:
а) хронотопическим;
б) природно-субстанциональным, вещественно-предметным;
в) логосно-поэтологическим.
3) На основании вычлененных инвариантов выстраивается верифицированная модель акмеизма как литературного течения.
Предлагаемый алгоритм, основанный на компаративистской и структурно-семиотической методологии, позволит выявить специфику акмеизма как литературного течения. Полагаем, что он может быть полезен при исследовании любых художественных систем, что определяет его методологическую значимость.
Положения, выносимые на защиту:
1. В поэтических системах каждого из акмеистов выявляется общая типология: а) пространственно-временная, б) субстанционально-природная, в) предметно-вещественная, г) поэтологическая.
2. Отсюда выявленные в творчестве Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама образно-мотивные варианты, относящиеся к указанным смысловым сферам, сводятся к инвариантным семантическим моделям: а) хронотопическим; б) природно-субстанциональным; в) вещественно-предметным; г) логосно-творческим, которые в совокупности представляют собой квшпэссенцию акмеистической картины мира и акмеистической семантики.
3. Пространственные модели акмеистов выстраиваются по мифологически ориентированному бинарному принципу, который продуцирует антитетичные отношения при парадигматическом и синтагматическом развертывании «картины мира». Как правило, это альтернация своего УБ чужого, домашнего Ув внешнего пространств, которая в зависимости от логики развития течения симультанно в трех идиопоэтиках (Гумилева, Ахматовой, Мандельштама) приобретает ту или иную аксиологическую валентность.
4. Стремление запечатлеть в художественной практике бытие как таковое, напряженное взыскание «бытийствующей» семантики приводит, во-первых, к предельной конкретизации локативных образов и мотивов, во-вторых, к стремлению дать максимально широкую панораму пространства во всем его многообразии (географическом, этническом, культурном).
5. При этом эволюция пространственной сферы акмеизма - это путь от географии к «геософии»; от постижения окружающего мира во всей его пестроте до взыскания локусов, стоящих за пределами «бытийствующей» вселенной; от реальных до сакральных (магических) локусов - спациализованных пространств смерти, памяти, культуры.
6. Акмеисты продемонстрировали напряженное внимание к точкам на оси истории, к конкретному мгновению и дате. Такой подход в позднем акмеизме эволюционировал в замысловатую систему числовых перекличек и шифров, связанных с датами и годовщинами.
7. Временная модель поэтики акмеизма типологически сходна с мифологическим кольцевым хронотопом, однако наибольшее число соответствий она обнаруживает с христианской концепцией «эона», представляющего собой
симультанное восприятие всех событий мировой истории как существующих одновременно, привязанных к общему темпоральному инварианту.
8. Поиск «вещества существования» привел не только к особой системе чувственно-конкретных образов и мотивов, но и более того — к тотальному акмеистическому овеществлению, спациализации и «отслсспивашпо» различных абстрактных категорий, связашшх с темпоральпой, творческой, мептальпой и другими сферами.
9. Особую роль в миромоделирующем дискурсе акмеизма сыграли субстанции' огня, воды, земли и воздуха, которые явились той вещественной основой поэтики течения, которая, трансформируясь в различных типологически сходных инкарнациях, обрела вид обусловленной едиными принципами, взаимоувязанной системы.
10. Глубинная телеологическая связь предметов, натуральных явлений, ментальной сферы привела к их изоморфизму, когда артефакт способен обернуться природным объектом, архитектура «оживляется» телесной семантикой, вещь преобразуется в пространство памяти и т.д.
11. Акмеисты создали сложную и эволюционирующую поэтологическую концепцию, главным в которой были представления о слове как об отражении божественного Логоса, о двуипосгасности слова (мертвое бытовое Ув сакральное), о его визионерском и повышенно аксиологическом статусе.
12. Большое значение в поэтологических воззрениях акмеистов занимала рецептивная эстетика, рефлексии на тему читательского сознания, в котором стихотворение и обретает истинное бытие.
Научная новизна работы обусловлена, во-первых, тем, что впервые скоррелировапы принципы поэтической семантики ведущих акмеистов с акмеистической картиной мира. Во-вторых, выявлены основополагающие принципы миромоделирования в творчестве ведущих акмеистов; в-третьих, предложены новые критерии обоснования литературного течения как некоего семиотического единства. В-четвертых, выявлены синтагматические и парадигматические закономерности развертывания ключевых мотивов и образов Гумилева, Мандельштама и Ахматовой, определена роль литературного и внелитературного контекста в генезисе и развитии акмеистической онтопоэтики. Все это в целом позволило выявить семантические открытия акмеистов и доказать, что их лирическое творчество в диахроническом развертывании представляет собой относительно единый сверхтекст.
Теоретическая ценность работы заключается в разработке и верификации методологического алгоритма исследования акмеистической онтопоэтики; в формировании новой концепции поэтической семантики отдельно взятого литературного течения. Указанный алгоритм и выработанные семаптические принципы типологически приложимы к онтопоэтическому анализу текстовых множеств различных литературных направлений, течений, школ.
Практическая значимость работы. Выводы и материалы диссертации могут использоваться при чтении общих и специальных курсов по истории русской литературы, теории литературы и поэтики, а также в преподавании основ лингвистического и литературоведческого анализа текстов - в рамках как вузовского, так и школьного обучения.
Апробацию основные положения исследования получили в докладах на международных, всероссийских и региональных научных конференциях в 2000-2015 годах в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Волгограде, Нерюнгри, Якутске, Уссурийске, Кемерово, Симферополе (Крым, Украина), Евпатории — Саки (Крым,
Украина), Одессе (Украина). Результаты и материалы работы внедрены в практику преподавания филологических дисциплин (истории русской литературы, теории • литературы) студентам русского отделения филологического факультета СВФУ.
По теме диссертации опубликовано 39 работ, среди которых 2 монографии, 1 учебное пособие, 18 статей, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 статьи в зарубежных рецензируемых изданиях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (посвященных, соответственно, поэтической семантике Гумилева, Мандельштама и Ахматовой), разделенных на параграфы и подпараграфы, заключения и списка литературы. Внутри разделов материал по главам распределяется — в соответствии с выдвинутой гипотезой семантического моделирования — по схожим структурно-смысловым принципам.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во Введении обосновывается выбор темы диссертационного исследования, определяются его цели, задачи, разрабатывается методология исследования, формулируется его научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
ГЛАВА I. МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
§ 1.1. Художественное пространство и время в лирике Гумилева в свете становления и развития акмеистической картины мира
В подпараграфе 1.1.1. Лирическое пространство Николая Гумилева: путь от экзотики к сакральному отмечается, что ранний Гумилев, выстраивая свою картину мира, испытывает сильное влияние со стороны мэтров символизма. Однако уже в то время, когда акмеизм не был оформлен, Гумилев в своей поэтической практике предвосхищает ряд ключевых тезисов данной поэтической школы. Один из важнейших - тезис о приятии окружающего мира в его амбивалентности, нередко обусловливающий апелляции к нижней онтологической сфере, которая уже у раннего Гумилева, наполнена «бездонной радостью глубин». Однако в начальный период творчества оппозиция верха и низа еще проявлена слабо.
Со временем поэтическая семантика, связанная с парадигматическим пространственным развертыванием, все более эволюционировала в сторону инобытийных, даже некротических образов и мотивов, выйдя в итоге к эсхатологической концепции хронотопа. Нижняя же сфера модели мира, в первых сборниках проявленная с достаточной полнотой, затем практически полностью исчезает. Функцию альтернации небесному начинает выполнять срединное (земное) пространство, эксплицированное во множестве экзотических локусов. В некоторых сборниках они полностью или существенно перетягивают на себя лирическое внимание Гумилева, например, в цикле «Костер» вертикальная локативная ось практически отсутствует, а в «Шатре» она заметно редуцирована.
Концепция пространства заметно меняется в цикле «Огненный столп», где уже само название есть яркий маркер, указывающий на ингенциальное внимание к вертикальной онтологической оси. Пространство цикла организовано по вертикально-парадигматическому принципу, связанному с концепцией прапамяти. Показательно, что сборник открывается стихотворением «Память», где обозначаются вехи становления лирического героя и соответственно указываются пространственные локусы, которые с этим становлением связываются. Примечательно, что перечисление этих локусов заканчивается выходом лирического героя к инопространству, которое знаменует собой смерть и апокалипсическое обновление.
Что касается горизонтального пространства, то в ранпих стихотворениях поэта оно является бинарным, а лирический герой оказывается, согласно классификации Лотмана, «героем пути». Именно мотив пути является важнейшим, нередко -сюжетообразующим, поэтому структурно значимой характеристикой гумилевского пространства оказывается его динамичность. Семантика пространства ранних стихотворений поэта организуется по принципу символистского двоемирия: мир земной, материальный противостоит мистериальному миру — миру дальних пространств, нередко связанному с духовными энергиями.
В сборнике «Чужое небо» большое значение приобретает мотив перемещения в дальние пространства. Лирический герой — это, в первую очередь, неутомимый путник, в чьей жизни «нет конца веселым переменам». Герой стремится обозреть весь «этот мир, такой святой и строгий». Недаром свою Музу Гумилев называет Музой Дальних Странствий. Но и персонажи стихотворений также нередко находятся в пути, таков, например, Ахмег-Оглы из «Паломника», чье путешествие га паломнического превращается в путь к загробному жру. Таким образом, дальнее странствие иногда оборачивается своей трансгредиентной стороной: «В какой пустыне явится глазам, / Блеснет сиянье розового рая?» («Баллада»). В целом же лирическое пространство сборника огромно и разнообразно: герой оказывается «в далекой Сибири», «далеко, на севере, в Каире», «в желтом Китае», перед ним открывается Африка, Европа, страны Востока и т.д.
Сборник «Колчан» во многом созвучен «Чужому небу»: в центре здесь также путь к иным землям. Однако акценты расставлены иначе: в фокусе внимания лирического героя — Италия. Кроме того, европейское пространство ассоциируется также с Грецией. При этом понимание Старого света — амбивалентно: оно может рассматриваться и как домашнее пространство, и как чужое.
Лирический герой Гумилева, останавливаясь на своем континенте, словно все ближе подбирается к родным широтам. Логичным продолжением этой тенденции становится концепция пространства в сборнике «Костер». Здесь экзотическая южная тематика практически полностью вытеснена иной: в лирическом фокусе Гумилева -Север. С одной стороны, это Русь, как современная, так и овеянная легендами, сакрализованная: провинциальный «городок» из одноименного стихотворения, Петербург, былинная Русь («Змей»), «Необозримая Русь», «Русь славянская, печенежья». С другой стороны, поэт обращает внимание на варяжские истоки Руси (стихотворения «Швеция», «Норвежские горы», «На Северном море», «Стокгольм»). Скандинавия, по мысли Гумилева, «страшная земля, такая же, как наша».
Наконец, в «Огненном столпе» происходит еще один виток сжатия: лирическим пространством сборника оказывается в первую очередь пространство ментальное и духовное, меняются и устремления героя - он взыскует уже не экзотику, а трансгредиентное, и главной задачей странствия может быть возврат к своим истокам. В «Огненном столпе» будто все земные пути героя сходятся в один: он оказывается на пороге нового трансгредиентного пространства. Путь в другие страны заменяется путем в вечность, в смерть («Лес», «Заблудившийся трамвай», «У цыган»).
Текстом, где словно сходятся вертикальная и горизонтальная проекции лирического пространства, становится «Заблудившийся трамвай». Горизонтальное перемещение здесь есть путь в инобытие, последней остановкой этого пути становится смерть, то есть уже окончательно «география перерастает в геософшо (сакральную географию)» (Раскина Е.Ю. Теософские аспекты творчества Н.С. Гумилева; автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2008. С. 2). В итоге у Гумилева конституируется
особенная пространственная модель, которая, выстраиваясь по бинарному мифологическому принципу, притягивает к себе разные пространственные локусы, соотносящиеся на уровне метатекста гумилевского творчества по парадигматическому принципу. Эта «пространственная» парадигматика приводит к специфике смыслообразования: бинарные оппозиции, накладываясь, бросают друг на друга «символические отсветы», в результате чего сам путь главного героя, связанный с преодолением границы между мирами, может прочитываться в разных мифологических ракурсах.
В подпараграфе 1.1.2. Время в поэтике Гумилева: от мифологически-сказочного к эоническому рассматривается путь поэта от темпоральных установок символизма к акмеистической эстетике. Ключевые миромоделируюпще функции в ранней лирике Гумилева выполняет «коловращение» суточно-солярного цикла. Причем эта цикличность соотносится не только с природными закономерностями, но и с культурными. Так, в стихотворении «Современность» само понятие, вынесенное в заглавие, понимается как циклическое повторение прошлого, проекция культурных архетипов в настоящее время: «Вот идут по аллее, так странно нежны, / Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя». Здесь угадывается представление акмеистов о времени как об эонически симультанном феномене: прецедентное событие, произойдя в некотором отделанном прошлом, призвано возвращаться в своих инвариантах снова и снова. Более того, гумилевские «Современность» и «Сон Адама» стали первыми в ряду других эонических стихов акмеизма.
Однако в ранней поэтике Гумилева все же властвует иная темпоральность: даже мифологически или исторически ориентированные произведения в большинстве своем подаются в линейном хронологическом ключе. Лирический герой с интересом погружается в мифологию и предание, мысля их как абсолютное (легендарное) прошлое. Время посиг преимущественно мифологически-сказочный характер и соответствует некоему мифологическому первовремени, которое имплицитно противостоит настоящему.
Если в ращщх сборниках основной миромоделирующий акцент в темпоральной сфере был сделан на суточных категориях, то в циклах «Чужое небо» и «Колчан» категория времени как бы расходится в две стороны, достигая своих максимальных и минимальных масштабов: мига и вечности. Причем при организации этих хронотопических феноменов явственно заявляют о себе акмеистические установки на аксиологичность не только протяженных отрезков, но и самых малых величин. Мгновенье, небольшой временной отрезок не просто выделяется как некая безусловная ценность, оно конкретизуется, «привязывается» к конкретным миромоделирующим приметам.
В сборниках начала - середины 1910-х годов время становится триипостасным: «повседеневное» время, большое историческое, а также момент «завершения» времени. Эти три ипостаси эксплицированы, например, в «Вечном», где есть: данный конкретный миг («живу в минутах»), линеарная христианская история («смотрю в века»), апокалипсическое бытие мира («жду Субботу из Суббот»), за которым следует новый блаженный век.
В сборниках «Чужое небо» и «Колчан» властвует ночная семантика. Причем спектр конкретных инкарнаций ночных примет достаточно велик, но преимущественно ночь - это пора стихов, молитв, откровений. Ночи связаны с тайнами («В ночи работали масоны...», «Средневековье»), но эти тайны - только для избранных, тех, у кого «сердце ночами бесстрашней» («Венеция»). Ночь желанна и притягательна, но
при этом страшна. Поэтическая семантика ночи во многом созвучна вечерним приметам. Большой солярный цикл находится на периферии лирического внимания Гумилева. Упоминания времен года единичны.
В сборнике «Костер», где большую роль играет пространственная семантика, темпоральные приметы оказываются на периферии авторского внимания. Из лирического мира Гумилева полностью уходят категории Mira, минуты, да и другие относительно краткие временные приметы не столь частотны. Правда, в тех, что встречаются, можно явствешю увидеть признаки акмеистической эстетики, как, например, в стихотворении «Роза». Здесь вещная деталь крепко связана с тем временем, в которое она появилась перед взором лирического героя: «Но роза, принесенная в отель, / Забытая нарочно в час прощанья / На томике старинного изданья / Канцон, которые слагал Рюдель...». Здесь многое по-акмеистски значимо: и сама роза, и томик, на котором она забыта. Не обходит стороной Гумилев даже описание книги, словно подчеркивая, что произошедшее было настолько важным для лирического героя, что оно в деталях запечатлелось в сознании: «час прощанья» как бы овеществился силой лирической эмоции.
Подступами к апокалипсическим мотивам, которые получат свое развитие в последних работах Гумилева, становятся стихотворения «Прапамягь» и «Стокгольм». В первом из них жизнь показана как мимолетная череда сменяющих друг друга картинок на пороге обретения «истинного Я». Причем именно в данном сборнике на первый план выходит концепция исторического генезиса России. Прошлое, преломленное через судьбы России, становится темпоральным лейтмотивом цикла. Здесь эоиическое время приобретает одну из своих важнейших ипостасей -национальное измерение: катаклизмы, обрушившиеся на Россию, рассматриваются Гумилевым как инвариант тех трагических и судьбоносных событий, что потрясали отечество в прошлом.
Эонический хрономиф разрастается, достигая своего семантического пика в сборнике «Огненный столп». Здесь открывается еще одна ипостась гумилевского зона, связанная с овеществлением времени посредством искусства. Такая спациализованпая темпоральность ярче всего проявляется в стихотворешых «Лес» и «Персидская мипиатюра». Центральным текстом сборника, где эоническое время проявляется в нескольких ипостасях, является стихотворение «Заблудившийся трамвай». Здесь смена локативного соответствует смене темпорального, а сам путь лирического героя ознаменован выходом в вечность, где уже нет ни времени, ни пространства. По мысли Л.Г. Кихней, герой попадает во время, «в котором путь лирического героя может быть понят и как его восхождение к своему надвременному прообразу, и как совмещение всех разновременных событий в один папхроничеекий пучок» (Kikhney L. Эоническое и апокалиптическое время в поэтике акмеизма // Le temps dans la poétique acméiste. Lyon, Lyon III-CESAL, 2010. P. 39}.
В «Огненном столпе» оформляется еще один показательный признак времени -его особая, данная в «чувственных координатах» бытийпость. Для того чтобы запечатлеть само «вещество бытия», Гумилев, как и другие представители акмеистической поэтики, нередко прибегает к таким приемам, как персонификация и овеществление абстрактных явлений, находящихся вне конкретно-чувственной сферы. Так, субстанциональные представления о времени встречаются в стихотворении «Канцона вторая» («И совсем не в мире мы...»): «И совсем не в мире мы, а где-то / На задворках мира средь теней. / Сонно перелистывает лето / Синие страницы ясных дней».
Таким образом, если в рашгем творчестве Гумилев, разрабатывая свою систему темпоральных миромоделирующих категорий, делал акцент на солярно-суточном и годовом циклах, то поздняя его поэтика тяготеет к большим историческим и надысторическим обобщениям, что обусловило чисто акмеистическое понимание времени, наиболее близким аналогом которого оказался осмысленный христианскими богословами эонический хронотоп.
§ 1.2 Пригодность - вещность - телесность в картине мира и поэтике Гумилева
В подпараграфе 1.2.1. Природные субстанции и стихии и их образная реализация в поэтике Гумилева говорится о том, что в раннем творчестве Гумилева реальный мир практически не проявлен. В сборнике «Романтические цветы» природные субстанции несколько конкретизируются, «овеществляются», хотя символистская эстетика еще сильна. Природа наполнена рядом вещественных локусов, среди важнейших оказывается пещера (грот). Она выполняет функцию, схожую с той, что в общекультурной традиции закреплена за домом. По сути, пещера у раннего Гумилева - это экзотический дом, связанный с позитивной, нередко сакральной семантикой, которая может быть актуализирована не только через область «дальних странствий», но трансгредиентного инобытия. Причем такая пещера нередко интериоризуется, оказывается локализованной в ментальной сфере. Пещера может быть связана и с другим сакрализованным местом - храмом: «Мы пойдем молиться на рассвете / В ласковые мраморные гроты» («Рассвет»).
Развивая логику потусторонних пространств, генетически связанных с природными образами, Гумилев приходит к соединению семантики пещеры и гроба как двух трансгредиентных убежищ. Области, находящиеся по ту сторону смерти, в свою очередь, притягивают инфернальную семантику, вследствие чего образ «мраморной пещеры» оказывается амбивалентным. К образу пещеры примыкают и другие вещественные высотные образы, такие как скалы, горы, утесы. Нередко природная возвышенность оказывается местом каких-то значимых событий или решений (стихотворения «Оссиан», «Основатели»).
То же можно сказать и о репрезентантах воздушной стихии: они не имеют четкой аксиологической валентности, оказываясь связанными то с райскими пространствами (см.: «Крест», «Ягуар», «Орел», «Рощи пальм и заросли алоэ...» и др.), то с областью смерти: «По небу бродили свинцовые, тяжкие тучи, / Меж них багровела луна, как смертельная рана...» («Оссиан»). Стихия огня в ранних сборниках представлена слабо и еще не выполняет существенных миромоделирующих функций.
Образ моря - это главный репрезентант стихии воды среди важнейших в сфере природных мотивов гумилевской поэтики. Интересен он, в частности, тем, что море -одна из главных антропоморфных субстанций. Море у Гумилева оказывается то «сошю-вздыхающим» («Отказ»), то оно может «безумствовать» («На полярных морях и на южных...»). Развернутая метафора, одушевляющая море, встречается в стихотворении: «Пощади, не довольно ли жалящей боли...»
В целом же у раннего Гумилева стихия воды нередко оказывается атрибутом Рая и, соответственно, притягивает мотив чуда. При этом вода двуипостасна: она явлена как в образах экзотического, но вместе с тем реального, «ощутимого» пространства, так и порой оборачивается своей трансгредиентной сущностью, когда в нее вписывается христологический код.
В сборниках «Чужое небо», «Колчан» центральной оказывается стихия воды и ее главный репрезентант — море, которое часто представлено одушевленным: оно
может обладать телесностью: «море голо», «Двадцать дней как плыли каравеллы, / Встречных волн проламывая грудь...» («Открытие Америки»), зооморфными коннотациями: «Как змеи, волны гнутся» («На море»). Водная субстанция наделена душевными чувствами: «Грустят валы ямбических морей...» («Об Адонисе с лунной красотой...»), «воды гневных морей» («Наступление»), волны имеют «гневные гребешки» («На море»). Море способно «говорить» («Открытие Америки», «Ангел-хранитель»),
В качестве «дальней сферы» указываются не только дольние локусы (море, равнины, реки), но и горние (облака). То есть онтологически стихии воздуха и земли объединены. В этой связи показательно и название сборника «Чужое небо», где указывается на онтологическую прикрепленность воздушной стихии к сфере экзотической, дальней. В других стихотворениях этого периода репрезентанты стихии воздуха чаще всего связаны либо с чужой пространственной сферой («Я верил, я думал...», «Пиза»), либо с райскими локусами («Отравленный», «Две розы», «Родос»),
Стихия огня нередко репрезентует райские локусы, хотя, по общекультурным представлениям, пламя — символ ада. Такая инверсия объясняется тем, что в «Чужом небе» и «Колчане» огонь коннотативно корреспондирует, во-первых, со светом, во-вторых, с очищением. Таким образом, в средний творческий период Гумилев полно и «зримо» воплощает в лирических стихиях акмеистически преображенный мир в его конкретности и пластичности, тем не менее, в подтексте многих субстанциональных образов обнаруживается некая символистско-неоромантаческая подоплека.
В сборниках «Костер» и «Огненный столп» завершается конструирование картины мира в лирике Гумилева. Природа здесь окончательно входит в мифопоэтический дискурс, ее субстанции обретают системность и взаимоувязаность. Среди стихий выделяется вода, именно она представляется лирическому герою той ключевой субстанцией, в которой заключено его прежнее «Я» («Память»). При этом семантика воды амбивалентна: она нередко связывается с чем-то аксиологически негативным. Например, в стихотворении «Перстень» вода (колодец) - место обитания инфернальных существ.
Воздух и огонь у позднего Гумилева также имеют двоякую онтологическую соотнесенность. Уже само название ключевого гумилевского сборника «Огненный столп» указывает на две важнейшие семантические корреляции заглавного образа: во-первых, он оказывается медиатором верхней и нижней сфер, во-вторых, несет в себе явные эсхатологические коннотации. В поздних стихах ощущение всеединства мира у Гумилева дополняется представлениями о его тотальной магичности и негерметичности различных пластов бытия. Некогда разведенные субстанции словно сливаются, становясь звеньями единой мифопоэтической парадигмы, в которой главпую цементирующую роль играет акмеистическая эстетика. Однако это уже не тот чувственно-конкретный акмеизм со спорадическими апелляциями к трансгредиентному, это полноценная мистическая система, причем этот мистицизм интенщюнален. Если раньше между разными типами локусов существовали границы и «швы», то теперь при переходе между реальностями не нужна никакая медиация и логическое обоснование: мир синкретичен. А это, в частности, значит еще и то, что он пе делится на «живое и неживое». Поэтому-то так много антропоморфных и зооморфных образов в поздней поэтике Гумилева.
Характерным акмеистическим маркером у поэта становится проникновение архитектурной семантики в природную область. Это может быть объяснено, например, работой трансгредиентного Зодчего, созидающего пространство, этот
крылатый «Садовод Всемогущего Бога» создал «галереи лесов, где прохладно / И светло, как в дорическом храме» («Судан»). Неслучайно, что и в других текстах этого периода природа похожа на нечто рукотворное, в стихотворении «Экваториальный лес» лирический герой «беспечно смотрел, как пылают закаты / Над зеленою крышей далеких лесов». А в произведении «Память» иерусалимские стены подобны зерну, из которого появляется злак.
Таким образом, природные субстанции у Гумилева выполняют несколько важнейших функций в плане конструирования лирической картины мира. Во-первых, они в полноте реализуют акмеистическую установку на приятие и раскрытие мира во всех его - позитивных и негативных - составляющих. Природа в поэтике Гумилева может быть враждебной и нести смерть, а может являться блаженным локусом, аналогом рая. В любом случае - ее сакральное ядро проявляется почти всегда, в противовес человеческой цивилизации, нередко являющейся дисгармоничной и профанной.
Во-вторых, сакральная суть природных субстанций приводит к их «мифопоэтизации», а значит, граница между живой и неживой природой стирается -она вся оказывается одухотворенной. Отсюда - нарастание удельного веса антропоморфных и зооморфных образов, связанных с натуральными субстанциями.
В-третьих, природные субстанции оказываются разделенными на несколько сфер, в которых на базовом уровне реализован принцип двоемирия: домашнее пространство (человеческое, профанное) - внешнее пространство (дальнее, экзотическое, сакральное). Причем, второй субстанциальный тип подразделяется в свою очередь на своеобразное «преддверие» (опасное, враждебное, которое «герою пути» необходимо преодолеть) и «основную часть» (гармоничный, чаемый мир, аналог рая). Этот второй локус, «земной рай», является точкой, в которой происходит корреляция с мистическими пространствами, «небесным раем».
В позднем творчестве все эти пласты в картине гумилевского лирического мира оказываются изоморфными, ментальное пространство (чувств, творчества, памяти) становится равнозначным и, по сути, единоприродным с внешним: душевное и духовное специализируется, вещественное - интериоризуется. Так формируется единый лирический хронотоп, характеристики которого приближены к концепции богословского эона.
В параграфе 1.2.2. «Предметный мир» в лирике Гумилева и его акмеологические функции рассматривается динамика развития вещных образов в творчестве поэта. В первых сборниках практически нет указаний на сооружения и другие рукотворные объекты, а те, что встречаются здесь, лишены субстанциональной семантики. Миромоделирующие функции интерьерных подробностей обусловлены, в первую очередь, необходимостью вписать некоторую лирическую ситуацию в вещный контекст. Однако онтологический «отклик» таких деталей еще не очень велик, чаще всего они имеют декоративное значение.
Подступы к акмеистической семантике - к воплощенной вещественности -намечаются в сборнике «Жемчуга» и коренятся в образном пространстве одежды, аксессуаров, связанных с обликом человека. Так, в стихотворении «Варвары» выпукло выписаны некоторые аксессуары, характеризующие южную царицу. В этом же сборнике появляется отчетливый знак акмеистической эстетики - скульптурная семантика. Намечена антитеза «весомости» акмеизма и «легковесности» символизма, актуализирующаяся через антитезу грота (пещеры) и башни. В поэтике Гумилева «башня» соотносится с символистской эстетикой: в литературную историю прочно
вошла знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова, квартира, в которой проходили творческие встречи представителей разных видов искусства. Но в первую очередь речь шла о мэтрах символизма. Получается, что «башня» для Гумилева - профанное, ненадежное убежище, противопоставленное «мраморной пещере» акмеизма как искусственное, безжизненное — естественному и прочному. Наиболее четко эта тенденция реализована в стихотворении «Выбор».
В сборнике «Чужое небо» интерьерные приметы по-прежнему призваны «оттенить» лирическое событие. При этом появляется важный мотив ожившей картины, который станет одним из сквозных для творчества Гумилева, он проявится и в последних произведениях (см., например, «Персидскую миниатюру», «Туркестанские генералы»), В плане субстанциальности артефактов программным может бьггь названо стихотворение «Искусство»: «Созданье тем прекрасней, / Чем взятый материал / Бесстрастней - / Стих, мрамор иль металл». Здесь Гумилев говорит о пристрастии к прекрасному, но неподатливому «сырью»: «С паросским иль каррарским / Борись обломком ты» (имеется в виду мрамор), в противовес мягкой глине, которая недостойна выразить высокое. При этом уже так по-акмеистски заявляется о предпочтении скульптуры всем другим искусствам.
В сборнике «Колчан» появляется целая череда урбанистических, архитектурных и скульптурных произведений, чаще всего связанных с итальянской тематикой. Так, в стихотворении «Венеция» этот город дан через призму ряда вещественных, ощутимых примет и деталей: «Кружев узорней аркады, / Воды застыли стеклом»; в фокусе лирического героя: «завесы черных гондол», изваянный «лев на колонпе», «дали венецианских зеркал», «мозаики блеск» и т.д. То есть перед нами уже полнокровная акмеистическая эстетика, данная в сочетании ключевых субстанций: камня, воды, воздуха, огня. Что касается архитектурной тематики, то показательным здесь является стихотворение «Падуанский собор». В этом тексте проявлена одна из характерных черт акмеизма, заключающаяся в отождествлении человеческого тела и здания (чаще всего - это храм). У Гумилева корреляция архитектурного и соматического в первую очередь связана с семантикой крови: «Как будто кровь, бунтующая пьяно / В гранитных венах сумрачных церквей». А в конце произведения появляется уже орнитоморфный образ: «Готические башни, словно крылья, / Католицизм в лазури распростер». Похожий образ находим и в стихотворении «Средневековье», где храм тоже, во-первых, ассоциируется с живым существом, а во-вторых, похож на птицу или ангела.
В «Колчане» не обходит Гумилев стороной и скульптурную семантику. Например, в стихотворении «Персей. Скульптура Кановы» дан статичный мифологический образ, воплощенный резцом великого мастера. По сути, Канова в своем мастерстве подобен и другим художникам, которые благодаря таланту стирают границу между материалом и телом, ср.: «Челлини, давший бронзе тайну плоти» («Фра Беато Анджелико»).
Путь поэта - от чувственного к сверхчувственному, от воплощения красот мира к их глубинному мистическому переживанию, в котором субстанциональная семантика хотя и не исчезает, но аксиологически уходит на второй план. В последних сборниках миромоделирующие мотивы и образы, связанные с вещественной семантикой, словно «развоплощаются»: поэт стремился к дальнейшей трансформации акмеизма, переведения его в «мистический регистр». Это привело к изменениям в поэтике Гумилева, вхождению ее в новую смысловую парадигму, «магический акмеизм», в котором за наличным бытием постоянно угадывается нечто большее и где постоянные
корреляции между этим миром и потусторонним приводят к изоморфизму ключевых миромоделнрующих мотивов.
В подпараграфе 1.2.3. Телесная семантика в картине мира и поэтике Гумилева отмечается, что телесность в наследии Гумилева тесно связана с природным и пространственным аспектами. Первая из этих корреляций часто реализуется в мотиве оборотничества, вторая - актуализируется через образы спациализации соматического. Но такие соотнесения, раскрывшиеся в своей полноте лишь в последних сборниках, — плод долгой эволюции гумилевской поэтики. А вот в «Пути конквистадоров» телесность выражена пока еще слабо, она испытывает сильное влияние символистской эстетики.
В циклах «Романтические цветы» и «Жемчуга» появляется уже несколько характерных особенностей, которые, развившись, будут определять соматическую семантику в поэтике Гумилева до 1921 года. Так, в указанных сборниках присутствуют первые обращения поэта к оборотничеству, важной теме, создающей «стык» между антропоморфной и зооморфной тенденциями. Вообще, при описаниях людей, даже с точки зрения метафорической, Гумилев нередко прибегает к сближениям с животным миром (см.: «Сада-Якко», «Каракалла»), однако более показательны те примеры, где оборотничество явлено эксплицитно, например: «Я встретил голову гиены / На стройных девичьих плечах. // На острой морде кровь налипла, / Глаза зияли пустотой...» («Ужас»). Причем оборотничество может быть уделом не только персонажа, но и лирического героя: «Превращен внезапно в ягуара, / Я сгорал от бешеных желаний, / В сердце - пламя грозного пожара, / В мускулах - безумье содроганий» («Ягуар»).
Неслучайно, что при описании человека Гумилев использует и ряд природных аналогий, метафор, имеющих отчетливую мифологическую подоснову. В первых сборниках наиболее ярко эта тенденция раскрыта в стихотворении «Портрет мужчины», уже первая строка здесь - указание на мирообразносгь человеческого тела, семантическую взаимоположность природного и антропоидного: «Его глаза -подземные озера». Ряд специальных метафор произведения связывает телесное и пространственное: «руки - бледный мрамор полнолуний».
В сборниках «Чужое небо» и «Колчан» появляется четкое разделение на телесность мужскую (часто связанную с лирическим героем) и женскую. В последней сильны символистские коннотации. Женское тело - ускользающе, эфемерно. Что касается мужской телесности, то здесь на первый план выходит союз и противостояние трех категорий: душа - тело - дух. В одних стихах лирический герой говорит о победе телесного над духовным («плоти я никак не мог смирить», «Рай»), в других -наоборот: «Усмирю усталую плоть» («Снова море»).
В поздних стихах развивается тема оборотничества. Так, в произведении «У цыган» оно рисуется не как традиционное оборачивание человека в животное, но как исчезновение границы между двумя типами телесности: «героем стихотворения оказывается странное существо, чья человеческая телесность граничит со звериной» (Кихней Л.Г., Полтаробатько Е.Д. Телесный код в поэзии акмеизма. М., 2014 С. 50), а это, в свою очередь, мотивирует их фантасмагорическое смешение (ср. сходный мотив в «Деве-птице»), Телесность в стихотворении «У цыган» словно бы рассыпается на ряд ипостасей, маркирующих переходы между героями и состояниями этих героев. Перед нами несколько взаимоувязанных реальностей, каждая из которых добавляет в общую соматическую семантику произведения свою «сему».
В поздних сборниках Гумилев снова возвращается к спацкализации телесного, создавая очередное «портретное» стихотворение, - «Андрей Рублев». Здссь спациализация физиогномического дана уже более развернуто, чем это было в «Портрете мужчины». Лицо женщины сравнивается с таким трансгредиептшлм локусом, как рай: «...лик жены подобен раю, / Обетованному Творцом». И дальше это сравнение раскрывается в нескольких конкретных метафорических эманациях: «Нос -это древа ствол высокий», брови - пальмовые ветви, под которыми сладостно поют едва вещих сирина, два глаза».
Важной составляющей телесности в поэтике Гумилева является такая субстанция, как кровь. В сборниках «Путь конквистадоров» и в «Романтические цветы» образ крови зачастую маркирует романтическое, а точнее, — символистское мировидение, соединяющее смерть и любовь. В сборниках «Чужое небо» и «Колчан» семантика крови заметно меняется. При этом сохраняется во многом ее миромоделирующая функция: кровью наделены не только живые существа, но и природа. Нередко семантика крови связана с войной, борьбой, опасностями... Но главное - с семантикой дальнего, чужого пространства, обладающего, как это обычно бывает у Гумилева, положительными коннотациями. Бунтующий, рвущийся в бой, ищущий риска, презирающий смерть — таков по преимуществу герой указанных циклов. И кровь - как его собственная, так и им проливаемая - неизменный атрибут его приключений. Совсем иная семантическая функция мотива крови в позднем творчестве Гумилева. В сборнике «Огненный столп» этот мотив становится символом зла, причем зла ирреального, выходящего за рамки повседневной реальности. В стихотворении «Заблудившийся трамвай» кровь оказывается знаком онтологического зла, которое несет в себе свершившаяся революция.
§ 1.3. Формирование акмеистических представлений о слове в творческой практике Гумилева
В подпараграфе 1.3.1. Логосные представления Гумилева в свете акмеистических установок говорится о том, что уже в первых манифестах акмеисты придавали большое значение поэтологической теме и ее ядру - концепции слова. По Гумилеву, небрежное обращение со словом, сугубо утилитарное его использование привело к тому, что многие имена вещей «утратили первоначальный смысл и в качестве простых ярлыков стали бесконечно далеки от своего сакрального прообраза — Божественного Логоса, и от тех первослов, которыми мир именовал Адам» (Кихней Л.Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М., 2005. С. 45). Затем происходящие исторические катаклизмы, повреждение человеческой патуры вследствие грехопадения изменяли те первые слова, которые несли в себе максимальный заряд сакралыюсти. Это «выхолащивание» было длительным процессом, в истории которого были свои вехи, подобные вавилонскому смешению языков. Соответственно, в современности эта сакральная логосная идентичность утрачена, именно поэтому «дурно пахнут мертвые слова». А для того чтобы «воскресить» слово, согласно акмеистическим представлениям, надо восстановить адекватность слова и вещи, найти для вещей имена, точпо выражающие их сущность.
Главной поэтической манифестацией логосной философии у Гумилева стало стихотворение «Слово». Здесь воплощается гипостазированная концепция слова, включающая мифотворческие, в первую очередь, христианские, потенции. Стихотворение пронизано аллюзиями на ветхозаветные и новозаветные сюжеты. Первые из них отчетливо проявляются в строках: «Солнце останавливали словом, / Словом разрушали города». Мотив остановки солнца можно найти в Книге Иисуса
Навита. Неожиданно напав на аморреев, израильское войско посеяло хаос в рядах врага: «Иисус воззвал к Господу в тот день... и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим» (Иис. Н. 10:12-14). Остановка солнца, точнее, его движение вспять запечатлено в 4-ой Книге царств: «воззвал Исайя пророк к Господ}', и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней» (4 Цар. 20:8-11). Строка «словом разрушали города», вероятно, есть указание на известную библейскую историю, связанную с разрушением Иерихона.
Ключом к пониманию заявлешюго в тексте противопоставления звука (слова) и числа является та часть Библии, в которой повествуется о жизни пророка и патриарха Моисея и которая входит в Книгу Чисел. В Библии нет упоминания о том, что Моисей чертит тростью числа на песке - «в прямом значении» этого действия. Однако сам путь по пустыне, который проделал великий пророк и законодатель, опираясь на посох, может быть теми самыми письменами-числами, о которых говорит Гумилев. То есть «числа» можно в таком случае трактовать как путь по пустыне к обетованной земле, а пребывание в ней - пребывание в Слове. В Евангелии есть упоминание о том, как Христос чертит на земле (Иоан. 8:3-6). Подступившие в этот момент к Иисусу фарисеи пытались именно Законом Моисея (условно говоря, «числами») осудить женщину, взятую в прелюбодеянии. И этому механическому, дотошному фарисейскому пониманию Закона божьего Спаситель противопоставляет новое Слово, фактически создавая новый закон - закон любви.
Подпараграф 1.3.2. Социализация и овеществление слова в поэтике Гумилева посвящен становлению и развитию онтопоэтических идей и связанных с ними художественных приемов мэтра акмеизма. Уже в первых доакмеистических стихах Гумилева звучит мысль о том, что слово, и словесное искусство в частности, обладает особой значимостью и силой. Повышенная аксиологичность слова не могла не сказаться на его образном «претворении»: движитель стихий сам оказывается заключен в их вещество и формы. Поэтому большое количество образов в ранней лирике Гумилева связано со спациализацией и овеществлением слова и близких типологически категорий. Например, частотны соотнесения слова и огня.
Иногда специализация слова актуализируется в развернутой метафоре: «Неутомимо пльггь ручьями строк, / В проливы глав вступать нетерпеливо / И наблюдать, как пенится поток, / И слушать гул идущего прилива!» («Читатель книг»). Художественная строка здесь эксплицитно соотносится с ручьем, главы - с проливами, надо полагать, что море или океан в представлениях поэта - это книга. Такое соотнесение показательно: по Гумилеву, путешествие в дальние края может состояться не только в их пространственном измерении, но и с помощью литературных произведений. Иногда субстанциональность слова выражается в соотнесении с некоторыми предметами. Так, в стихотворении «С тобой я буду до зари...» произведение словесного искусства сравнивается с драгоценностью: «И заключу в короткий стих, / В оправу звонких слов». Зачатки логосной концепции встречаются в стихотворении «Правый путь», где указывается что слово, подобно человеку, «рождается в муках».
В сборниках «Чужое небо» и «Колчан» словесные образы по-прежнему вещественны и соматичны, однако здесь меняется их эстетическая подоснова: поэтика Гумилева все активнее перестраивается на акмеистический лад. Метафорическая «сцепка» слова и металла появляется во многих произведениях этого периода. Так, в
стихотворении «Искусство» стих назван «надменным» (антропоморфизм), при этом он «властительней, чем медь» (овеществление). При посредничестве слова коррелируют природное и телесное в стихотворении «Об Адонисе с лунной красотой...». В этом тексте слова не просто метафорически сопоставляются или связуготся через сравнения со стихиями (землетрясеньями, громами, водопадами), но оказываются им единосущными. Здесь же дан своеобразный семантический «многоугольник»: в одном развернутом образе коррелируют звук (пенье, музыка, громы), стихии (землетрясения, водопады), тело (тело - музыка) и слово. Все это указывает на системный изоморфизм различных - как субстанциональных, так и ментальных - категорий в поэтике Гумилева.
Крупнейшие псэты акмеизма использовали прием персонификации творчества, данный через призму мифологической и религиозной семантики. Не только у Гумилева, но и в наследии Ахматовой, Мандельштама, Нарбута большую роль играет образ Музы как выразительницы творческого начала. В ранних гумилевских стихах она появляется лишь раз, зато в сборниках 1912- 1916 годов образ Музы упоминается в целой череде стихотворений: «Искусство», «Открытие Америки», «Памяти Анненского», «Персей. Скульптура Кановы», «Отъезжающему». Муза акмеистов обладает целым рядом качеств. И у Гумилева она не лишена индивидуальных примет: так, поэт указывает в первую очередь на быстроту и легкость своей Музы: «Мы с тобою, Муза, быстроноги» («Открытие Америки»). Кроме того, она нежна, ее голос назван «высшим».
В поздних сборниках, в контексте «магического акмеизма», слово полноправно обретает логосные черты, бытийствует, инспирирует происходящее в этом мире: «Моим рожденные словом, / Гиганты пили вино...» («Творчество»), «...колдовской ребенок, / Словом останавливавший дождь» («Память»). Онтологический пафос, связанный со словом как вместилищем трансгредиентных энергий, выходит на качественно новый уровень, преображаясь согласно динамике гумилевской поэтической системы: если в раннем творчестве для Н. Гумилева главной ценностью слова была его возможность «завораживать» читателя, то в позднем преобладает стремление «вернуть слову ту крепость и свежесть, которая утеряна им от долгого употребления». Вселенная оказывается пронизана словесными энергиями, причем, как это у Гумилева было и раньше, божественный логос неразрывно связан с поэтическим словом.
ГЛАВА II. МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ АННЫ АХМАТОВОЙ
§ 2.1. Лирический хронотоп Ахматовой в свете акмеистических установок
В подпараграфе 2.1.1. Пространственная вертикаль в поэтике Ахматовой: онтологический, мифологический, психологический аспекты указывается, что «акмеистичность» ранней лирики поэтессы в первую очередь связывается со спецификой локативно-темпорального компонента, так как именно в рамках хронотопа реализуется установка на одомашнивание мира. Стремление показать само вещество существования приводит к тому, что в лирическом пространстве ахматовской лирики ключевое положение занимает категория психологизма. Лирическая эмоция сплавляется с деталями пространства, в результате чего чувства как бы спациализуются, получают внешнее выражение, а само пространство субъективируется и интериоризуется. Эта психологичность пространства вполне
закономерно приводит к формированию особого пространства памяти и воображения, что ярко проявилось, например, в сборнике «Четки».
Специфика ахматовского хронотопа заключается в постепенном наращивании мифопоэтических коннотаций, что в итоге приводит к семиотическому членению пространства на ряд бинарных архетипов. В этой связи прежде всего следует выделить мифопоэтические константы, которые воплощают семиотическую оппозицию верха -низа и группируются вокруг вертикальной оси природных координат: неба - земли. Вертикальная ось - в отличие от символистской онтологической модели - чаще всего не ассоциируется с божественным или трансгредиентным началом (подобная тенденция обнаруживается и у Мандельштама). Небо символизирует, скорее, некий порыв лирической героини ввысь, идеальное отторжение души от всего будничного. В позднем творчестве нижний (подземный) ярус бытия обретает демонические (адовые) коннотации. При этом грань между средним и нижним мирами стирается.
Инфернальное пространство в поэзии Ахматовой эволюционирует, из абстрактного превращается в вещественно-зримое, из внешнего - в ментальное. Что касается конфетных репрезентантов преисподней, то они могут быть как максимально широкими - захватывая всю область мира посюстороннего, сужаться до размеров страны, города (как правило, у Ахматовой это Петербург-Ленинград), дома. Репрезентантами райского пространства становятся либо абстрактные понятия («любовь», «творчество», «невинность» и т.д.), спациально связанные с метальным «пространством» лирического субъекта, либо отсылающие к библейскому дискурсу локусы: сад («чудесный», «Божий»), город (идиопоэтическая «транскрипция» небесного Иерусалима), идиллический юг. Помимо иудео-христианского представления о горних чертогах, эдем у Анны Ахматовой может быть связан с антично-мифологическим дискурсом, славянской мифологией, русским фольклором.
Медиатором, связующим дольнее и горнее, является искусство, например, музыка: «Не ты ль, увы, единственная связь / Добра и зла, земных низин и рая? / Мне кажется, что ты всегда у края» («Музыка»). Отсюда и представление о художнике как о существе, находящемся на границе миров и способном преодолевать эту границу в разных направлениях. В этой связи закономерно появление в творчестве Ахматовой орфического и дантовского кодов, связанных также с категорией памяти об ушедших близких, друзьях и соратниках, а также оплакиванием их, христианском поминании — как способе трансгредиентного контакта с умершими: «Миссия преобразования мира, впавшего в хаос, согласно Ахматовой, принадлежит Поэту, который - посредством Слова-Логоса — "одомашнивает" "отчужденный" мир, возрождая его из тоталитарного (или милитаристского) небытия» (Кихней Л.Г., Галасва М.В. Локус «дома» в лирической системе Анны Ахматовой. Волгоград, 2005. С. 245).
В подпараграфе 2.1.2. Семиотическая парадигма «горизонтального пространства» и медиация между его сегментами доказывается, что одна из важнейших характеристик ахматовского пространства, разворачивающегося в горизонтальной проекции, связывается с установкой на мифологизм. Так, уже в «Вечере» сквозь бытовое пространство просвечивают иные структурные модели, соотнесенные с мифологическим типом локативности. Пространство отчетливо разделяется на два комплекса: мир этот и иной мир. Эта универсальная бинарная оппозиция задает целую парадигму двоичных противопоставлений: дом - не дом («Хорони, хорони меня, ветер...»); истинное пространство — ложное пространство («Мне с тобою пьяным весело...», «Ты поверь, не змеиное острое жало...»). Из этих оппозиций и рождается лирический сюжет некоторых стихотворений «Вечера»,
который можно обозначить как попытку героини пересечь некую пространственную границу. Поскольку доминантной темой становится тема любви, постольку эта попытка связывается с мотивом соединения возлюбленных, которое чаще всего оказывается трагически невозможным.
Мотив пространственной разделенносги присутствует и в сборнике «Четки», где между героем и героиней возникают разного рода конфронтации (ср. «Смятение», «Я не любви твоей прошу...»). При этом в первых сборниках бинарно противопоставленные пространственные сферы Ахматова не разводит, а, наоборот, сополагает в художественном пространстве произведения. И огромную роль у нее обретают образы с семантикой «границы» (окно, дверь, порог, крыльцо, ворота, зеркало и т.п.). Такая же тендепция сохранится и в позднейших сборниках.
В «Белой стае» пространство также оказывается внутренне разделенным. Там появляется идиллический хронотоп («Твой белый дом и тихий сад оставлю...», «Слаб голос мой, но воля не слабеет...», «Был он ревнивым, тревожным и нежным...» и др.), связанный с системой повторяющихся мотивов спокойствия, философской отрешенности. Этот идиллический тип пространства часто обретает символические очертания.
Книга «Подорожник» также реанимирует пространственные мифологические архетипы. Здесь, во-первых, усиливается роль образа дома, который тесно связан с психофизиологической целостностью героини («Теперь никто не станет слушать песен...», «И вот одна осталась я...» и др.). Во-вторых, снова появляется бинарная модель своего и чужого пространства. Например, в стихотворении «Ты - отступник: за остров зеленый...» бипарно организованное пространство мотивирует мотив ухода-расставания, на который накладывается мотив предательства. При этом в противовес «чужому», «демоническому» месту в сборнике формируется и сакральный тип пространства, соотносимый со «страной господней», образ которой появляется в стихотворении «Теперь прощай, столица...».
Мифологическая пространстве1шая бинарность сохраняется и в «Anno Domini», где в некоторых стихотворениях на эту инвариантную схему накладывается петербургский миф, который противопоставлен идиллическому хронотопу Бежецка. Граница между этими подпространствами закрыта («Петроград, 1919», «Бежецк»),
В книге «Тростник» мифологизация пространства усиливается, Ахматова в мир яви вводит приметы иного мира («Надпись на книге»). Реальное пространство под воздействием этих архетипов смещается и обретает «второе мифологическое дно» (ср. такие стихотворения, как: «Заклинание», «Одни глядятся в ласковые взоры...», «Подвал памяти», «Так отлетают темные души...»). Этот тип «смещенного», семантически сдвинутого пространства обнаруживается также и в «Седьмой Книге».
Наряду с бинарно организованными пространствами в философско-художественпой картине мира Анны Ахматовой важную роль играет феномен «границы» - семиотическая универсалия, выполняющая важные миромоделирующие функции. Общая закономерность здесь такова: если между лирическим субъектом и миром складываются гармонические отношения, образы-медиаторы, прежде всего, окно и дверь, выполняют функцию соединения своего локуса и чужого (личностного или природного). Когда же граница теряет свою проницаемость, внутреннее пространство оказывается замкнутым, наглухо закрытым, отделенным от внешнего пространства непреодолимой преградой.
В параграфе 2.1.3. Категория времени у ранней Ахматовой в контексте акмеистического дискурса показывается, что поэтика ранней Ахматовой
обнаруживает пристальное внимание к конкретной дате, часу, мгновению, которые могут быть связаны как с солярно-суточным циклом, так и с конкретными датами. Кроме того, осмысление времени в раннем творчестве Ахматовой связано с календарной символикой, в которой причудливо сплавлены как фольклорные, так и религиозно-православные архетипы. Чаще всего в ахматовских текстах встречаются православные торжества, иногда - светские праздничные дни.
Ахматова строит собственные причинно-следственные отношения между окружающими явлениями, заимствуя из фольклора принцип симпатических связей (по такому принципу построено, к примеру, стихотворение «8 ноября 1913 года»). Ахматова не просто насыщает свои первые циклы конкретными временными метами и датами, но за счет выбора «особого числа» придает им сакральность. Такое внимание к нумерологии станет отличительной чертой и поздней ахматовской поэтики, более того - оно разовьется в сложную систему числовых перекличек, маркирующих тайные смыслы и намеки на важные события, людей, точки пространства.
Большое значение у ранней Ахматовой приобретает солярно-суточный цикл. В «Вечере» (ср. в том числе и название сборника) и «Четках» таких темпоральных примет превеликое множество. Немало и указаний на время года. При этом наблюдается инверсия общекультурного кода, речь идет о смене аксиологической валентности такого времени года, как весна, которая оказывается несущей гибель («Не в лесу мы, довольно аукать...», «Сегодня мне письма не принесли...»).
Тема памяти обозначается в «Вечере» и развивается в «Четках» («Покорно мне воображенье...», «Голос памяти», «Память о солнце в сердце слабеет...»). При этом память здесь является как личной («И мальчик, что играет на волынке...»), так и культурной (цикл «В Царском селе»). Поэтесса различными способами спациализует художественное время, вводит его в вещно-вещественную картину бытия, уделяя внимание различным частным проявлениям времени: начиная с конкретных дат и событий и заканчивая бесконечной онтологической перспективой.
В следующих трех сборниках Ахматовой («Белая стая»; «Подорожник»; «Anno Domini») время углубляет свое отологическое измерение, лирический фокус расширяется за пределы личной судьбы, так появляется тема последних дней, которая мотивируется культурно-исторически («Чем хуже этот век предшествующих? Разве...», «Теперь никто не станет слушать песен...» и т.д.). Появляется новая темпоральная перспектива - личное отдаленное прошлое, меряющееся годами. Более отчетливо кристаллизуется и такой тип времени, который можно условно назвать «всегдашним». Мерилом времени становится не мет, а час, причем данный в обобщенном виде: «В каждых сутках есть такой / Смутный и тревожный час», «тяжелый час сомненья».
Новая концепция времени закономерно возникает в эпоху исторических потрясений, наступившую с началом Первой мировой войны. Появляется осознание распавшейся связи времен, что обусловливает противопоставление недавнего прошлого - как времени гармонического и идиллического - и настоящего - как времени гибельного, трагического, эсхатологического («Думали: нищие мы, нету у нас ничего...»). Поэтому если в «Вечере» и «Четках» превалирует целостное, «гармоничное» время, то, начиная с «Белой стаи», время меняет свою природу: оно становится дискретным, энтропийным, «апокалиптическим».
Тема «последних времен» особенно усиливается в «Anno Domini», здесь она накладывается на культурно-исторические обстоятельства, которые прочитываются Ахматовой в библейском ключе, что усиливает религиозный компонент сборника.
Историческое время, которое Мандельштам назвал «сумерками свободы», наложило и календарно-суточный след на лирику Ахматовой. Следуя общеакмеистическим тенденциям, поэтесса особое внимание уделяет пограничным состояниям природы как репрезентантам рубежного исторического времени. Причем закат статистически существенно превалирует над всеми другими отрезками суток.
В поздних сборниках время соотносится в первую очередь с категорией памяти, которая понимается как «оживленное прошлое». Именно воспоминания становятся тем сакральным «пространством», которое, как и миф для носителя мифологического сознания, является реальностью, гораздо более значимой, напряженной, в конечном счете - истинной, чем эмпирическая действительность. Уже в сборнике «Тростник» тема «оживленного времени» оказывается одной из ключевых. В стихотворении «Надпись на книге» поэтически поясняется смысл заглавия сборника: память - это звучащий тростник, повествующий о событиях прошлого. Категория памяти в поздних сборниках раскрывается с позиции двух изоморфных ее разновидностей: культурной и личной памяти.
Как и было прежде, Ахматова большое значение придает сакральным датам, ср. стихотворения: «Ленинград в марте 1941 года», «Август 1940», «Петербург в 1913 году» и т.д. Использует также и символику дат и цифр. На этом этапе у поэтессы возрастает значение годовщин («незабвенных дат»), которые становятся одними из важнейших мемориальных маркеров у поздней Ахматовой («Годовщину последнюю празднуй...», «Вторая годовщина», «Поэма без героя»).
глава 2.2 «Вещество существования» в художественном мире Ахматовой: природные субстанции, предметность, телесность
В подпараграфе 2.2.1. «Вещный мир»: от психологизма к онтологической семантике показана эволюция вещных образов в поэзии Ахматовой. В ранней лирике поэтессы часто простота окружающего мира противопоставлена сложному и напряженному внутреннему бытию лирической героини. Причем ее лирическая логика порой парадоксальна и основана на «странных соответствиях»: как отмечал В.М. Жирмунский, Ахматовой свойственен «неожиданный, капризный поворот мысли» (Жирмунский В.М. К вопросу о синтаксисе А. Ахматовой // Анна Ахматова: Pro et contra. СПб., 2001. С. 719). Такой «поворот» инспирирует особую семантическую аттракцию, повышает аксиологию вещи как выразителя неуловимого состояния.
Исследователи сосредоточивались на функции предметных / вещных образов как проводниках эмоции, поэтому их миромоделирующая функция осталась на периферии исследовательского внимания. А ведь именно вещный мир оказывается в ранних стихах Ахматовой тем семантическим «инвариантом», который связан с другими иерархическими ярусами ее поэтического мировидения. При этом бытовые приметы имеют не только цвет, вес, запах, но наделены онтологичностью, то есть бинарны по своей внутренней сути: являясь вариантом, указывают и на наличие глубинного инварианта, связывающего цепь генетически однородных атрибутов реальности.
В «Белой стае», «Подорожнике», «Anno Domini» уже гораздо меньше вещных деталей, лирический кругозор поэтессы расширяется, и для создания «чувственного» параллелизма используются в основном природные приметы. А когда детали и появляются, нередко они даны не как воспоминание о случившемся, а как «улика», которая характеризует несбывшееся, потерянное: «И на груди моей дрожат / Цветы не бывшего свиданья». Нередко речь вдет об утраченном перстне или кольце как о предмете, имеющем репрезентацию в психологической сфере. Ветцно-вещественные
детали нередко у Ахматовой оказываются связующими звеньями между эпохами, своеобразными «окнами», позволяющими преодолевать огромные локативно-темпоральные расстояния. Люди, времена, явления, ставшие историей, имеют своих «представителей» в настоящем благодаря зримым, осязаемым, весомым предметам. При этом Ахматова как бы присваивает культурно-значимое, интимизирует его через особую причастность, выражающуюся в пространственно-вещных сближениях (ср. цикл «Стихи о Петербурге», «Смуглый отрок бродил по аллеям...»).
В сборниках, созданных после 1923 года, предметный мир заметно меняет свою функциональность, он больше не связан так жестко с психологическим, скорее, детализация есть попытка указать на внутреннюю суть, а не на мимолетное чувство, беглый психологический оттенок. Ставший классическим ахматовский «вещный параллелизм» используется уже редко, на смену ему приходит другой прием: не психологическая, а онтологическая корреляция между человеком и телеологически связанным с ним предметом («Когда человек умирает...», 1940).
Эволюция вещно-веществеиного мира у Ахматовой есть движение от конкретного к типическому, от бытового к бытийному. Расширяя лирический ракурс, поэтесса все более обращается свое внимание на «большое время» и «большое пространство», поэтому аксиологичность единичной вещи снижается. При этом интересуют Ахматову в большей степени инвариантные сущности, а не их конкретные варианты, в реальном и ощутимом она все более провидит онтологическое, в своих лирических медитациях позднего периода доходя до символа и мифа.
2.2.2. Корреляция субстанциональной и чувственной сфер сквозь призму акмеистических и мифопоэтических установок. В поэтике Ахматовой можно выделить три сферы: природную, вещную и телесную, связанных с внутренним миром лирической героини, или - иначе — подверженных интериоризации. То есть речь идет о трех типах параллелизма: «параллелизм природного», «параллелизм вещно-вещественного» и «параллелизм телесного».
Большое значение приобретают природные миромоделирующие аспекты, связанные с четырьмя архаическими стихиями, это: земля, вода, воздух, огонь. Уже первая из них демонстрирует отчетливое влияние акмеистической семантики. Изоморфизм человеческого и хтонического проявлен, например, в стихотворении «Я пришла сюда, бездельница...», где героиня проделывает «трехэтапный» путь: превращение из земли в человека и спять — в землю. Но бывает у Ахматовой и наоборот: не человек приобретает хтонические черты, а олицетворяется сама земля («Первое возвращение», «Хорони, хорони меня, ветер!», цикл «Июль 1914»),
В поздних стихах Ахматовой земля, как правило, рассматривается с двух аксиологически амбивалентных позиций: с одной стороны, эта субстанция связана с некротической семантикой, а потому - нередко пейоративна («Как мы тебя укрывали / Свежей садовой землей»); с другой, земля — это территория родной страны («склоны могучей, победительной земли»). Во втором случае данная субстанция антропоморфируется через связь с фольклорным образом Руси-матушки («Победа», 1942).
Особняком стоит сонет «Родная земля», ставший своеобразным манифестом Ахматовой. Взгляд поэтессы на родную землю - мужественно-стоический: уж она-то на склоне лет, пережившая две мировых войны, гражданскую, эпоху Большого террора, сполна узнала, сколько бед и невзгод готовит Россия своим сыновьям и дочерям. Поэтому поэтесса не удостаивает родную землю высоких эпитетов, не поет ей столь привычных в поэтической традиции похвал, не обожествляет ее («в заветных
ладанках не носим на груди»). Но от Родины нельзя отречься, как нельзя отречься от самого себя, ведь нет ничего ближе той, с которой каждый воссоединится в час своей смерти: «Но ложимся в нее и становимся ею, / Оттого и зовем так свободно - своею».
Вода у Ахматовой на протяжении всего творчества наделена мифологическими чертами: например, может быть «задумчивой», вода «замирает», «пруд лениво серебрится» (примеры из ранних сборников); приветствующие «хоры вод»; «речка вечерняя», которой «не спится»; «изнывающий лед» (примеры из стихотворений 1930-х — 1950-х годов) — всё это свидетельствует о перманентной мифологизированности рассматриваемой субстанции через антропоморфизм.
Воздушное пространство, как правило, не так четко сопряжено с мифопоэтической семантикой, даже количественно воздух серьезно уступает земле и воде в ранней поэтике Ахматовой. Правда, относительно частотен ветер как один из репрезентантов воздушной субстанции, он чаще всего наделен позитивными характеристиками: несет обновление, свежесть. Совсем иное дело — произведения 1930-60-х годов. Здесь ветер становится одним из ключевых субстанциональных мотивов, фактически замещая собой всю воздушную сферу. В каждом из десятилетий XX века, после второго, в творчестве поэтессы появляются антропоморфные образы, связаниые с ветром.
Мотив огня может перемещаться в психологическое измерение за счет корреспондирования с любовной сферой. Огонь любви, огонь страстей - широко используемые метафоры у Ахматовой: «Пытка сильных - огненный недуг», «О, сказавший, что сердце из камня, / Знал наверно: оно из огня...»; «Кое-как удалось разлучиться / И постылый огонь потушить» и др. В позднем творчестве Ахматовой такое соотнесение чувств и пламени практически не встречается.
Наделяя мир понятными и узнаваемыми деталями, связанными с повседневностью, с бытом, Ахматова как бы «одомашнивает» природу, «транскрибирует» вселенную близкими человеческому сознанию знаками. Что касается конкретных архитектурных примет, воплощающих мироздание, то в ранних сборниках Ахматовой таковых немало. Во-первых, стоит отметить соотнесение небесного свода с потолком, храмовым куполом: «Сводом каменным кажется небо...», «Небывалая осень построила купол высокий...», «Потускнел на небе синий лак...». Видимая вселенная, как и здание, имеет свои окна и двери. Следование акмеистическим установкам на представление вселенной посредством архитектурных образов будет характерной чертой у Ахматовой на протяжении многих лет («Художнику», 1924, «Воронеж», 1936, «Август 1940», 1940, «Я не была здесь лет семьсот...», 1944).
В подпараграфе 2.2.3. Онтология и символика телесной сферы в лирике Ахматовой показывается, как микрокосм и макрокосм у Ахматовой становятся изоморфными, сфера природно-предметная оборачивается телесным. Своеобразным ахматовским кредо могут служить слова: «Мир родной, понятный и телесный». Причем, с одной стороны, тело героини оказывается как бы «сделашшм» -предметным: «Я ведаю, что боги превращали / Людей в предметы, не убив сознанья...», «А теперь я игрушечной стала». С другой стороны, природа жива, олицетворена, имеет плоть: «Дымилось тело вспаханных равнин», «Липы нищенски обнажены». Аналогичная «пропорция» сохраняется и в позднем творчестве Ахматовой. Тело лирической героини сравнивается с космосом, в котором горит светило: «А с каплей жалости твоей / Иду, как с солнцем в теле». Логичным представляется и обратное соотнесение: природного или предметного и телесного. В
поздней лирике Ахматовой таких примеров также немало: «Но вдруг твое затрепетало тело...» - речь идет о тетради («Сожжеш1ая тетрадь»); «В каждом древе распятый Господь, / В каждом колосе тело Христово...» («В каждом древе распятый Господь...»).
Как бы живыми оказываются крупные топографические объекты. Такая тенденция особенно ярко проявилась в сороковые годы: «Это рысьи глаза твои, Азия / Что-то высмотрели во мне»; «Не шумите вокруг — он <Ленинград - Е.М> дышит, / Он живой еще, он все слышит...»; «Как в первый раз я на нее, / На Родину, глядела. / Я знала: это все мое - / Душа моя и тело». В последней цитате изоморфными оказываются тело лирической героини и Родина.
Телесные образы очень важны для раскрытия душевных переживаний лирической героини. Этот своеобразный «язык тела» выполняет те же функции, что и ахматовская детализованная предметность. Мир ранней ахматовской лирики наполнен большим числом неуловимых, но многозначительных прикосновений, И почти всегда за ними стоит напряженная любовная коллизия. Чаще всего лирической героини касается субъект «он». Начиная со сборника «Белая стая», телесность перестает играть такую важную роль для самораскрытия лирической героини.
Особое значение в «телесной эстетике» Ахматовой придается семантическому мотиву крови. В первых сборниках Ахматовой семантика крови становится психофизическим кодом, передающим внутреннее состояние героини. В «Вечере» и «Четках» часто встречаются образы «скучающей крови», крови, «отхлынувшей от лица», крови, «стучащей» в висках или, напротив, «холодеющей» крови. В сборниках 1917-1923 годов мотив крови выводится из любовной семантической сферы и рассматривается через призму исторических катаклизмов, искажающих онтологическую сущность мира. Подтверждением этого становится появлетге - как и у позднего Гумилева - мотива жертвы, но не ритуальной демонической, а природно-языческой. В послереволюционном творчестве Ахматовой мотив «крови» претерпевает существенные изменения и становится знаком «апокалипсического времени».
§ 2.3. Концепция слова и творчества в художественной практике Ахматовой
Как показало в подпараграфе 2.3.1. Поэтопогические воззрения Ахматовой: овеществление, соматизация и спациализация слова, Ахматова не стремилась к «объективации» своих поэтологаческих воззрений, не оставила близких к литературоведческим трудов, связанных с философией слова, что она компенсировала в ряде «метапоэтических» стихотворений, многие из которых считаются хрестоматийными («Кого когда-то называли люди...», цикле «Тайны Ремесла», «Мужество» и некоторые другие). В качестве ключевой здесь можно привести цитату из стихотворения «По той дороге, где Донской...»: «Шиповник так благоухал, / Что даже превратился в слово, / И встретить я была готова / Моей судьбы девятый вал». В этих четырех строках сжато представлено логосное кредо поэтессы, переплетены два важнейших мотива: представление о слове как о имеющей плоть, бытийной субстанции, а также стоическое принятие бедствий, инспирированных уделом поэта.
В ранних произведениях смысловой акцент смещен к первому из указанных аспектов. В «Вечере» и «Четках» со всей очевидностью проявляется телеологическая связь между словом и данным в чувственных «координатах» миром. Сознание героини Ахматовой, подобно архаическому, словно не различает лексему и денотат; между природным миром, его темпоральными характеристиками и словом установлены
глубокие и живые корреляции, поэтому указанные «субстанции» могут оказываться в одном типологическом ряду. Фактически вещественным бытием обладает слово в стихотворении «Эта встреча никем не воспета...»: «И нужнее насущного хлеба / Мне единое слово о нем» (обратим внимание и на присутствие евангельского кода). Та же семантическая линейка «слово - зерно - тело» встречается в стихотворении «Песня о песне»: «Я только сею. Собирать / Придут другие. Что же!»
В сборниках 1917-1923 годов встречается масса примеров, когда слово связывается с физиологическими аспектами («глухая жажда песнопенья», «песню отдам на смех и поруганье», «свежесть слов»), онтологическими («песни, в которых мы все живем»), даже визуальными, колористическими («золотыми стихами», «тени песен»). На протяжении двадцатых-сороковых годов данные тенденции мало изменялись. Разве что расширяется амплитуда «овеществления» слова за счет затягивания его в более разнообразные семантические сферы.
Наиболее отчетливо мысль о непреходящей суш истинного творчества высказана в программном стихотворении «Кого когда-то называли люди...» (1945): «Ржавеет золото и истлевает сталь, / Крошится мрамор - к смерти все готово. / Всего прочнее на земле печаль / И долговечней - царственное слово». Здесь присутствует имплицитное соотнесение поэтического творчества с образом Христа, ведь в сочетании «царственное слово» есть два понятия, напрямую связанные со Спасителем: во-первых, Он - Царь (вспомним, например, евангельскую сцену с Пилатом (Ин. 18:37)), также Он - Слово, божественный Логос, обретший плоть.
Особняком в поэтологическом наследии Ахматовой стоит цикл «Тайны Ремесла». Цикл подтверждает приверженность Ахматовой идее об инобытийном статусе стихов. Они приходят свыше, из иных, трангредиентных пространств и миров. И приходят как отблески, отзвуки чего-то недоступного обычному человеческому восприятию: «Неузнанных и пленных голосов / Мне чудятся и жалобы и стоны». С таким представлением сополагается и тезис о визионерском статусе поэта, его творческой несвободе, своеобразной «нетварности» стихотворений, которые посылаются свыше: «просто продиктованные строчки». Источником творческой энергии может быть Бог, однако и не только, поэт создает свои произведения, «Подслушав у музыки что-то / И выдав шутя за свое». Кроме того, неисчерпаемым источником вдохновения оказывается природа, тогда работа поэта — «подслушать у леса, / У сосен, молчальниц на вид».
Развернутая поэтологическая концепция, связанная с овеществлением, соматизацией и специализацией творчества, дана в произведении «Про стихи» и в «Последнем стихотворении». Во втором га них художественное слово сопоставляется с громом, дыханием жизни, некой сущностью из зазеркалья, источником в овраге, злой девчонкой, безмолвием... Опо предпринимает множество соматических (нередко -свойственных человеку) действий: трепещет, кружится, рукоплещет, крадется, смотрит, бормочет, струится, меняется...
Большую роль отводит Ахматова рецептивной эстетике, смещая свое поэтологическое теоретизирование к образу читателя, который должен быть «как тайна», при том что с поэтом дело обстоит совсем иначе: «Чтобы быть современнику ясным, / Весь настежь распахнут поэт», намечается антитеза «распахнутый» (поэт) -скрытый в земле клад (читатель). Получается, что трансгредиентный мир, являющийся источником стихов, есть первый и высший уровень поэтологической системы Ахматовой. Второй уровень — поэт как своеобразный передатчик, дешифровщик инобытийного «сигнала». Третий уровень — воспринимающее сознание читателя,
которое обладает перманентно отологическим статусом, что сближает образ читателя и образ Бога.
2.3.2. Персонифицированные образы творчества. У Ахматовой немало спапиализованных и вещественных репрезентантов креационистской сферы. Среди них выделяется ряд антропоморфных образов, коррелирующих с семантикой творчества и поэтологическими установками. Все они являются морфологически сходными с Музой, поэтому могут выступать в качестве ее вариантов. Что же касается собственно Музы, то исследователями давно отмечено, что ее «среда обитания», внешний вид во многом заимствованы из многовековой традиции антропоморфных представлений о вдохновении, творческом труде. Так, Л.Г. Кихней подчеркивает, что в стихотворении «Муза» «образные приметы Музы восходят как к дантовской образности (покрывало), так и к пушкинской топике (дудочка, мотив открытия лица)» (Кихней Л.Г. Дантовский код в поэзии Анны Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Вып. 8. Симферополь, 2010. С. 122-124). Еще один из источников рассматриваемой темы у Ахматовой — наследие Некрасова. Отсылку к его произведению «Вчерашний день, часу в шестом...» (о наказании женщины на Сенной) находим и у Ахматовой в стихотворении «Кому и когда говорила...».
Уже первые исследователи ахматовской Музы, в частности, В.М. Жирмунский, большое внимание уделяли ее облику. По верному наблюдению Е.Ю. Куликовой, образ ахматовской Музы уже в самых ранних стихах «приобретает снежно-скульптурные черты, помимо уже неоднократно отмечавшихся, начиная со "смуглых" ног и рук, "дырявого платка" и пр.» (Куликова Е.Ю. Динамические аспекты
пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика: автореф. дис____докт. филол.
наук. Новосибирск, 2012. С. 26). Ахматовская Муза связана с божественными сферами, поэтесса ассоциирует свое поэтическое слово со Словом-Логосом и одновременно - с мифической птицей Феникс, возрождающейся из пепла («Забудут? - вот чем удивили!»).
Ахматовой важно развенчать общепринятые представления о Музе, в том числе литературные стереотипы. Поэтом}' поэтесса намеренно снижает, огрубляет образ. Муза Ахматовой - своевольна, жестка и даже жестока; она - императивна, повелительна, на вместе с тем абсолютно непредсказуема в своем появлении.
Большую роль при создании рассматриваемого образа играет тема двойничества. Она реализуется, как правило, в стихах, где Муза называется сестрой лирической героини. Хотя иногда такие «родственные отношения» могут выявляться по косвенным признакам. Так, в стихотворении «Я пришла тебя сменить, сестра...» не сразу можно понять, кто же - субъекты лирического диалога. И только по узнаваемым приметам, сопровождающим ахматовскую Музу (например, флейте) можно определить, о ком идет речь.
ГЛАВА III. МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
§ 3.1. Лирический хронотоп Мандельштама как пространственно-временная модель акмеизма
3.1.1. Пространственные модели в поэтике Мандельштама. В раннем творчестве Мандельштама большое место занимает тема полноты времени (вечности), представленная в образах, семантическим инвариантом которых является парадигма «верха». Она включает в себя образы неба, звезд, эфира, высот, которые чаще всего сопровождаются негативно окрашенными эпитетами и сравнениями со значениями «мертвенности», «пустоты». Восприятие неба раннего Мандельштама восходит,
очевидно, к античной мифологической модели. Аксиологическая значимость астральных явлений подвергается сомнению, их место в системе авторских ценностей занимают земные, рукотворные вещи, несущие на себе печать культуры и человеческого труда.
В середине 1910-х годов в поэтике Мандельштама появляется тенденция к «одомашниванию» универсума. Его внутреннее родство с человеком закреплено, например, в стихотворении «Отравлен хлеб, и воздух выпит». Это ведет к тому, что небеса оказываются плотными, ощутимыми. Такая субстанциализация небес, сопряженная с архитектурным метафорированием, приводит к тому, что верхняя сфера обретает устойчивые вещественные коннотации: «Под вечным куполом небес», «Где под стеклянным небом ночевала / Родная тень в кочующих толпах...».
Узнаваемая акмеистическая «вещественность», чуть ли не рукотворность неба сохраняется в 1930-е годы и («Не мучнистой бабочкою белой...», «Небо вечери в небо влюбилось...»). В тридцатые проявляется дихотомия, связанная с «истинными» и «ложными небесами». Так, в стихотворении «Я скажу это начерно, шепотом...» эксплицирована бинарность небесного, заключенная в антитезе «временного неба чистилища» и «счастливого небохранилища».
Что же касается средней онтологической сферы, то в целом в поэтике Мандельштама ее роль берет на себя земля. Она воспринимается часто как домашнее пространство, лишенное явных альтернирующих небу признаков. Ситуация меняется после наступления исторических катаклизмов, которые в том числе и за счет системы мифологических аналогий становятся вариантом конца света, своеобразным «малым апокалипсисом». Это выражается в мотиве расплавления почвы. Так, в стихотворении «Сумерки свободы» земля теряет свою сущность тверди, развеществляется, становится жидкой. Происходит инверсия привычных субстанциональных кодов: небо становится твердым, ощутимым, архитектурно воплощенным, земля, наоборот: теряет плотность.
Те же тенденции сохранятся и в тридцатые годы. Земля по-прежнему будет связана с жидкими состояниями материи (((Гончарами велик остров синий»). Кроме того, образам, связанным с землей, будет нередко сопутствовать семантика воздуха («Я тебя никогда не увижу...», «К пустой земле невольно припадая...»). В стихотворении «Чернозем» о земле говорится следующее: «вся воздух и призор...». Таким образом, субстанциональная инверсия верха и низа есть своеобразная метафора перевернувшегося мира, вселенной, сошедший со своих оснований.
Дольняя сфера у Мандельштама нередко персонифицируется. Часто этот процесс актуализирован через воплощенную телесность: «Земли девической упругие холмы / Лежат спеленатые туго»; «Словно нежный хрящ ребенка / Век младенческой земли». В тридцатые годы эти образы получили развитие: земля оказалась пе только телесной, но и зрячей, ей присущи и другие свойства живого — способность потеть, слышать и т.д.
На протяжении многолетних творческих исканий Мандельштама тема подземного, глубинного пространства эволюционировала. В раннем творчестве нижнюю сферу можно назвать «родовым лоном» мира, первозданной стихией. В сборнике ((Камень» нижнее онтологическое пространство проявлено не слишком отчетливо, поэт еще только подступается к нему, чтобы осознать в новой форме и статусе в сборнике «Тш^а». Здесь нижний мир «символизирует посмертное состояние жизни, души - то есть свою противоположность» (Кихней Л.Г. Осип Мандельштам: Бытие слова. М., 2000. С. 53-54).
Классическая традиция, на которую в первую очередь опирался Мандельштам в лирических медитациях сборника, продуцировала активное обращение к античным образам залетейского мира. Отсюда, например, и орфический мотивный комплекс. Достаточное количество античных мифологем «Tristia» также связано с реалиями нижнего мифологического пространства: это и Эреб, и асфодели, и река Лета... Несколько раз упоминается богиня подземного царства Персефона (в римском пантеоне - Прозерпина). Особое место в представлениях о нижней сфере занимает образ Петрополя как репрезентанта подземного царства.
Наконец, в тридцатые годы, по мере нарастания репрессий и проникновения инфернального ужаса во все сферы жизни общества, у Мандельштама появляются образы, объединяющие нижгаою и среднюю сферы. Дольний мир словно оборачивается царством мертвых, например, Ленинград / Петербург наделяется отчетливой некротической семантикой. Но не только Аид «поднимается» в повседневность, но и лирический герой посредством этой повседневности может стать обитателем низших онтологических сфер. В этой связи показательно стихотворение «Ламарк», где поэт дает развернутую картину деградации, расчеловечивания лирического субъекта: «герой бежит от своего человеческого обличья по причинам "людских безобразий", - отмечает В.А. Гавриков, - конечно, у Мандельштама эта тема имплицитна, загнана в подтекст, но ее контуры отчетливо просвечиваются через художественную "ткань" произведения» (Гавриков В .А. Деантропоморфизм субъекта у Высоцкого и Мандельштама (на материале стихотворений «Упрямо я стремлюсь ко дну...» и «Ламарк»)//Владимир Высоцкий - XXI век. Новосибирск, 2014. С. 31).
Что касается горизонтальной проекции, то на первых подступах к экспликации акмеистически ориентированного бытия во всей его сущностной полноте Мандельштам обращает внимание на урбанистическую тематику, которая логически продолжала заглавный образ первого полноценного сборника поэта под названием «Камень». Ориентируясь на евангельское прочтение имени «Петр» (то есть -«камень»), Мандельштам насыщает свой сборник приметами Петербурга, а также другого города, связанного с первоверховным апостолом - Рима. Кроме того, если говорить о географических координатах Европы, то здесь важнейшими пространствами оказываются еще колыбель всей культуры Старого света (названного, кстати, «Новой Элладой») — Греция с ее сакральным центром Афоном, а также генетически связанная с античностью Таврида.
Особенно занимает поэта петербургская архитектура, в которой, как в зеркале, отражается само мироздание, также наделяемое вещественными, чуть ли не рукотворными чертами («купол... Как на цепи, подвешен к небесам»). Мир Мандельштама насыщен разными строениями, заключенными уже в самих названиях стихов: «Казино», «Адмиралтейство». Да и в других произведениях - масса по своей сути каменных образов; вокзалы, казармы, дворцы, одноэтажные дома, особняки, рестораны, театры, протестантская кирха, таверна и т.д. - все это попадает в лирический фокус поэта.
Мировое пространство также наполнено различными архитектурными чертами и объектами, особое место среди которых занимают храмы. Айя-София, Notre Dame (см. одноименные стихотворения), собор святого Петра в Риме (см. «Поговорим о Риме -дивный град...», «Здесь я стою - я не могу' иначе...») - эти величественные строения, по мысли поэта, являются одновременно и вершинным воплощением человеческой культуры, в первую очередь - европейской, и живым организмом, что является общим местом для всех акмеистов. Является
В сборнике «Тпвйа» меняется аксиология крупных культурных центров, подобных Петербургу или Риму, и акцент смещается к периферии. Мегаполисы уже осознаются как пространства мертвые, лишенные своего сакрального стержня, а истинная красота бытия открывается на периферии европейской цивилизации. Так, город на Неве насыщен различными приметами, связанными с некротической семантикой («В Петрополе прозрачном мы умрем...», «На страшной высоте блуждающий огонь!», «В Петербурге мы сойдемся снова...»).
Зачарованность Мандельштама «провинцией», окраинами Европы выразилась в ряде стихотворений, связанных с Крымом и Грузией. В этих по своей сути пограничных пространствах Старый свет вступает в соприкосновение с другими цивилизациями, обогащаясь и оплодотворяясь энергией пестрого мира. Поэт откровенно любуется грубой и насыщенной жизнью цивилизационных окраин.
В стихах 1921-25 годов остается любование простыми бытовыми деталями, характеризующими пространственную периферию. Однако провинция все более теряет свои конкретные географические черты, онтологизируется, представляя собой некий обобщенный мир, в котором пребывает лирический герой. В произведениях этого периода можно найти приметы ислама (Азраил), Ближнего Востока («ассирийские крылья стрекоз»), библейских локусов (Вифлеем), но вместе с тем и Москвы, Парижа; хотя в большей степени поэта занимает все-таки эстетика «крутых козьих городов» и архаического уклада жизни.
Особняком стоят стихи, написанные Мандельштамом по впечатлениям от поездки в Армению. Этот цикл, созданный в 1930 году, продолжает серию «географических» произведений поэта, обогащая представления об экзотической периферии. Здесь поэт, как и прежде, с удовольствием обращает свое лирическое внимание на бытовые детали.
Гармоничному Востоку в поздней лирике Мандельштама противопоставлено некротическое пространство столиц, Москвы и Петербурга. То есть лежащая на поверхности антитеза столиц оказывается скрытым, имманентным их тождеством. Москва у Мандельштама названа «курвой», здесь поэту «не спрятаться от великой муры». К пейоративному пространству примыкает и Воронеж, выступающий в качестве места ссылки поэта, а значит - входящий в семантическое поле со значением несвободы.
3.1.2. Антропоморфное и субстанциальное время в поэтике Мандельштама. В программной статье «Слово и культура» Мандельштам выводит емкую формулу своих представлений о темпоральности: «...вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. <...> Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий». То есть свойство всех событий мира — онтологическая одновременность: различные времена бытийно связаны, события настоящего имеют постоянную, живую связь со всем произошедшим («О времепах простых и грубых...», 1914). Подобное представление есть отражение христианской концепции «эона».
Но эоническое время у Мандельштама — это не только целокушюсть темпорального, но и внеположность ему. Лирическому герою иногда свойственен взгляд на происходящее из вневременного континуума, в котором нет текучести. Здесь отсылка к постапокалипсическому состоянию вселенной, когда, согласно Библии, «времени больше не будет» (Откр. 10:6). Подобная концепция представлена, например, в произведении «Вот дароносица, как солнце золотое...».
Примечательное свойство лирики Мандельштама - персонификация времени («Как растет хлебов опара...», «1 января 1924»), В последнем мандельнггамовские
представления о времени-субъекте развернуты в целую картину, где один за другим следуют его антропоморфные признаки. А в произведении «Век» рассматриваемая категория представлена в виде зверя с разбитым позвоночником. В частности, век сопрягается с принесешшм в жертву ягненком; и в этом образе присутствует аллюзия на Агнца-Христа. Сквозным для поэтики Мандельштама становится и образ «века-волкодава» (см. «Ночь на дворе. Барская лжа...», «За гремучую доблесть грядущих веков...»). Здесь уже «порода» зверя уточняется, при том что уходят коннотации, связанные с болезнешюстыо, немощью рассматриваемого образа. В тридцатые годы зверь «исцелился», и уже не он оказывается жертвой, а сам лирический герой.
Время может оборачиваться природной субстанцией, овеществляясь силой мандельштамовской метафоры. Например, з стихотворении «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» время-земля встроено в субстанциональный ряд, в котором не хватает только стихии огня: «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух. / Время вспахано плугом...». Объяснение этих строк можно отыскать в статье Мандельштама «Слово и культура», где он представляет поэзшо в виде плуга, который вскрывает время, вынося его потаенные пласты наверх, то есть создавая своеобразный «эонический эффект».
§ 3.2. Субстанциональные образы Мандельштама в акмеистическом измерении
В подпараграфе 3.2.1. Камень как парадигмообразующий мотив поэтики Мандельштама анализируется центральная лексема акмеистического периода Мандельштама - камень. Это связано не столько с частотой употребления этого образа, сколько с его ономастическим статусом: данная лексема стала заглавием первого сборника поэта. Субстанция камня в пространстве сборника претерпевает мифологические метаморфозы: уподобляется воздуху, воде, слову, организму, человеку; обретает двуипостасную природу (в оппозиции: сырой материал -произведение искусства).
Семантические пересечения образов «камня» и «Петербурга» возникают не только на основе камня как материала-сырца, ставшего «плотью Петербурга», но и благодаря лексической аналогии камня с латинским petra (в переводе - камень, скала). Камень, будучи материальным элементом произведепий зодческого искусства, теряет свою «непросветленную» тяжесть, обретая свойства легкости, невесомости. Одновременно камень выступает в мандельштамовских контекстах библейской метафорой веры. В ряде стихов актуализируется сакральный смысл 1-ого соборного послания Св. Петра, построенного на метафоре «камня» как материала духовно-религиозного строительства, который отождествляется с человеком.
Камень выступает и как природный элемент, и в то же время в смысловой структуре архитектурных и городских стихотворений камень и его корреляты (мрамор, каменные здания, статуи, соборы) становятся символом культуры, связи времен. Программным с этой точки зрения является стихотворение «Notre Dame». На первый взгляд речь в стихотворении идет о соборе Парижской Богоматери, об истории его построения и его внутренней организации, своего рода анатомии. В свете постулата тождественности слова и камня каждая поэтическая реалия этого стихотворения обретает второй план. В развернутом образе храма можно усмотреть метафору стихотворения как целостного художественного высказывания (художественного здания, структуры). Если в первой строфе дан образ храма в сравнении с Адамом, то есть подчеркивается его органическая первсзданность, несотворенность,
одушевленность (ср.: «играет мышцами»), то во второй строфе Мандельштам как бы поверяет алгеброй гармонию.
На рубеже «Камня» и «Тпвйа» меняется образная парадигма: камень как субстанциальное начало мира и материал культуры уступает место дереву как органическому феномену («Уничтожает пламень...»). В «ТпБПа» семантика камня воплощается в основном в эпитетах, несущих в себе положительные коннотации тяжести, связанные со значениями твердости и незыблемости земного бытия, земной опоры. Именно в таком значении встречаются лексемы каменный, каменистый и т.д. в стихотворениях «Зверинец», «Золотистого меда струя из бутылки текла...», «На каменных отрогах Пиэрии...», «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...», «Феодосия» и др.
В эпоху разлома, когда материальные вещи, по Мандельштаму, «развоплощаются». В подобном - деструктивном - контексте бытия камешше образы воспринимаются как семантический противовес грядущему Апокалипсису. Не случайно каменистая земля Крыма для Мандельштама в жизни была обетованной землей и всегда ассоциировалась с античной топикой Золотого века. В двадцатые годы этот образ все более «онтологизируется», его смысловое наполнение расширяется, хотя метафорические находки и ассоциативные ряды, обретенные в 1910-е годы, по-прежнему сохраняют свою актуальность. Важная тенденция здесь - дальнейшее «овеществление» камня: преодолевая словесную семантику, он обретает доступную органам чувств экзистенцию, выстраиваясь в ряд ассоциативно-образных параллелей.
В то же время многие парадигматические образы, отражающие субстанциальные реалии в «Камне» и «ТпБЙа», претерпевают в стихах 1920—1930-х годов значительные изменения, которые коснулись образов, входящих в парадигму «земной тверди». Уже в «Стихах 1921-1925 годов» меняется семантическое наполнение образной парадигмы камня. Так, «Грифельная ода» посвящена метаморфозам камня как материальной основы природного и культурного бытия. В ней мы видим движение образов, имеющих явно двойную семантику: они относятся, с одной стороны, к геологической сфере, а с другой — к орудиям ученичества. Мандельштам обыгрывает эту двойственную семантику, показывая перетекание природы в культуру, а культуры -для обновления последней - снова в природу. Получается, что камень становится не просто метафорой слова, как в раннем творчестве, а материальным орудием языка — природы, Бога, бьггия.
В «Московских стихах» образы с семантикой каменного обогащаются дополнительными значениями державности, превращая камень в символ государственной твердыни. Но парадигма «земной тверди» пополняется в «московском» цикле еще и глиняными образами. Если в «ТпБЙа» семантика глины ничем не отличается от общеупотребительных узуальных значений, то в цикле «Стихи 1921-1925 годов» глина становится онтологическим материалом, из которого лепится плоть жизни и речи. На пересечении семантики глины и жизни рождается мифологический образ Голема, то есть глиняного великана, оживляемого магическими средствами. Причем, с одной стороны, глиняная жизнь синонимична каменной жизни в «Грифельной оде». Но, с другой стороны, век-властелин - это глиняный истукан, имплицитно ассоциируемый с Големом. Подобная амбивалентность глиняных образов отчасти сохраняется и в стихотворениях 1930-х годов. Однако там появляется еще один смысловой нюанс: глина становится синонимом культуры — рядом часто появляется гончар.
3.2.2. Телесные и растительные субстанции как репрезентанты живого и неживого. В поэтике Мандельштама частотны образы хребта и его органических эквивалентов — позвоночника, хряща. С.М. Марголина считает образ хребта, позвоночника у Мандельштама «архетипом подлинности, реальности бытия». «Введение этой мифологемы, — отмечает исследователь, - говориг о реальной угрозе уничтожения культуры и исторической памяти» (Марголина С.М. Мировоззрение Осипа Мандельштама. Marburg / Lahn, 1989. Р. 144). Перебитый позвоночник свидетельствует о прерванной связи времен в стихотворении «Век». Хребет порождают семантическое поле остроты, колючести, костистости. Так, в стихотворении «1 января 1924» не случайно появляется образ «известкового слоя», твердеющего «в крови больного сына», «щучьей косточки», сюрреалистглески проступающей сквозь «ундервуда хрящ», рыбы с атрибутами плавников, костей и пр. Индуцированные семантическим полем костистости являются образы рыб или ежа.
Семантика «колючести», «колкости» конденсируется в стихах 1920-х годов также в образах занозы, жала, при этом заноза в лазури в стихах 1930-х годов связана с семантикой земной / мировой оси (отмечено В. Микушевичем и JI. Кихней). Если в раннем творчестве осевые значения реализовывались в образах «веретена», «посоха» (имплицитно соотносимых с мифологемой «мирового древа»), то у позднего Мандельштама ось воспринимается как семантический дериват хребта, позвоночника («Век»).
Древесная семантика у Мандельштама двуипостасна: это не только указанный мифологический образ, эксплицирующий онтологическую вертикаль, но и дерево как строительный материал. В подобных семантических вариациях дерева реализуется семантика сухости и, соответственно, связанные с ней свойства «горючести». Дериватом дерева как легко воспламеняющегося органического материала становится солома, которая еще больше, чем дерево, символизирует процесс усыхания мира. Смыслообраз соломы, например, в «Tristia» встречается достаточно часто. В цикле «Соломинка», как и в широком контексте, солома обретает символическое значение истончения, убывания жизни, изнеможения ее органической природы. Причем совершенно ясно, что ломкость соломы, хрупкость проецируется Мандельштамом не только на образ героини - Саломеи, но и на культуру и собственно саму жизнь в ее метафизической глубине. Подобное же значение этот образ будет иметь в стихах 1920-х годов.
Наряду с онтологически значимыми образами, рассмотренными выше, заметную роль в лирике Мандельштама играют семантические парадигмы с семантикой хлеба, соли, яблока и т.д. Особенно значим образ хлеба, который, с одной стороны, выступает в тесной связи с соломенной парадигмой, а с другой стороны - с семантикой слова. При этом если в «Камне» образ хлеба является показателем сакральной еды, то в «Tristia» и в «Стихах 1921-1925 годов» - это атрибут Евхаристии и аналог слова-плоти. Начиная с цикла «Стихи 1921-1925 годов», в мифологеме хлеба, по млению Е.А. Тоддеса, «кодируются различные феномены культуры»: поэзия, религия, народ как носитель культуры и т.д. (Тоддес Е.А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С.185). Поскольку слово ассоциируется с плотью, то возможна и обратная зависимость: хлеб утоляет, по Мандельштаму, «не только физический, но и духовный голод». Отсюда сакрально-логосные ассоциации в стихах 1920-х годов, метафорическое отождествление хлеба (зерна, колобка) со словом, верой; каравая — с церковью', церкви — с амбаром, зернохранилищем, ригой, житницей, закромами.
В позднем творчестве хлеб становится миродержавным образом и метафорой самого необходимого в жизни: «Народу нужен свет и воздух голубой, / И нужен хлеб и снег Эльбруса...». Солома же в «хлебном» контексте является своего рода антиподом зерна, хлеба, каравая. Подобное противопоставление особо значимо в цикле «Стихи 1921-1925 годов».
Таким образом, движете семантических парадигм, включающих важнейшие образные составляющие картины мира позднего Мандельштама (камень, землю, глину; небо, воздух; воду, кровь; хлеб, солому, дерево), позволяет сделать вывод об амбивалентности их семантической природы. Двойственная аксиология онтологических начал обусловлена контрапунктным развертыванием двух мифологических комплексов, называемых в критике «мифом конца» и «мифом начала».
В подпараграфе 3.2.3. рассматриваются, как следует из его названия, «оксюморонные качества жидких и эфирных субстанций» в онтологической поэтике Мандельштама. Революция вписывается в эсхатологическую модель тотальной гибели, а также в модель растворения «космоса» в «хаосе». Первый случай представлен парадигмой небесных светил, второй - парадигмой воды. Данная субстанция является инвариантным образом, ее семантические вариации представлены лексемами: океан, река, Нева, вино, лед. При этом жидкие субстанции могут быть связаны как с мотивом рождения, так и гибели, разгулом /раз гул А -??/ стихий.
Тенденция искажения бытия, наблюдаемая в «ТгаНа», воплотилась в трансформации субстанциальных образов стихотворений этого сборника: солнца, земли, воды. Подобные метаморфозы коснулись и образа воздуха, отраженные в необычной семантической сочетаемости данной лексемы. Воздух предстает «помутившимся», «темным», «граненым», «дремучим», «смертным».
Поэтика стихотворений циклов «1921-1925» и «Московские стихи» еще более усложнена по сравнению с «Тпвйа». При этом воздух, находящийся в «воздушно-небесной» парадигме, активно коррелирует и с образом дыхания. Воздух насыщается миазмами «смуты», исчезает, поглощаемый вещами, становится смертельным, мертвым непригодным для дыхания. Однако начиная с «Восьмистиший» ситуация кардинально изменяется: дыхание становится не просто мерой жизни, но мерой творчества, преодолевающей костную материю.
В «Воронежских тетрадях» образ воздуха двоится: с одной стороны, как физиологический эквивалент дыхания, он «дощатый», «мертвый», и в этом случае символизирует состояние удушья поэта, находящегося в «неволе». Оно «чревато смертью», отсюда образ «воздушной могилы», «воздушной ямы», объединяющий в себе землю и небо в «смертельном» оксюмороне. Но, с другой стороны, в онтологическом плане воздух — «свидетель», а также «участник» всего происходящего. Более того, воздух, дыхание - это жизнетворческая материя, внутренний ветер, соединяющий человека и небо.
Гармонизация «картины мира» в лирике Мандельштама 1935-1937 годов сказалась и в трансформации «субстанциального образа» воды. Если в «Московских стихах» «вода» выступает как в положительном, так и в отрицательном регистрах, то в «воронежском» цикле она, безусловно, положительное начало мира, несущее жизнь.
Особое место в парадигме образов, реализующих значение жизненной влаги, занимает лексема кровь. В «Камне» семантика крови достаточно традиционна. Исключение составляют те случаи, когда она символизирует сакральную жертву, которую следует принести как залог прочности созидаемого бытия. В «ТпБ^а» кровь
становится субстанцией с измененными характеристиками. В нее проникает холод, она нередко предстает в твердой, «тяжелой» ипостаси. Вместе с тем кровь приобретает и оксгоморонное качество сухости. Произошедшая метаморфоза позволяет Мандельштаму включать в один синонимический ряд лексемы кровь и дерево. Причем эти слова через «сухость» объединяются с семантикой «любви», «любовной страсти».
В цикле «Стихи 1921-1925 годов» мы видим новую стадию смыслообраза: кровь приобретает амбивалентное значение. С одной стороны, она служит мерой жизни в ее убывании, утекании, угасании - в соответствии с мифом конца, реализуемым в творчестве Мандельштама этого периода (см.: Кихней Л.Г. Эсхатологический миф в позднем творчестве О. Мандельштама // Вестник МГУ. Сер. 9. 2005. № б. С. 108-123), а с другой стороны, кровь является строительницей и «скрепителыпщей» эпох. Значение крови как связующего начала расширяется до смыслового показателя культурной преемственности: платоновские архетипы, оказывается, хранятся в образцах крови, по мысли Мандельштама, а не в каких-то бесплотных умозрительных конструкциях. Вот почему кровь служит символом преображения мира. Симптоматично, что в «Стихах о неизвестном солдате» кровь становится предвестником грядущего апокалипсиса как всеобщей смерти, ознаменованной обескровливанием, и последующего воскрешения, символом которого становится образ наполнения кровью аорт.
Заключительный параграф третьей главы (§ 3.3. Концепция слова в поэзии Мандельштама) посвящен манделыптамовской философии слова и ее влиянию на поэтическую семантику.
3.3.1. «Логосный» период поэтологических воззрений Мандельштама (первая половина 1910-х годов).
Если в центре ранних теоретический работ акмеистов в основном находилась полемика с предшественниками-символистами, то у Мандельштама сразу акцент делается на онтологические воззрения, в центре которых находится поэтологические размышления. Рассматривая природу слова и поэтической семантики, поэт на первый план выдвигает проблему сущности и назначения словесного искусства. Например, в статье «Утро акмеизма» Мандельштам рассматривает тот же поэтологический вопрос, что и Гумилев: профанное и сакральное слово. Только, в отличие от коллеги по поэтическому цеху, Мандельштам создает недиахронную, «статичную» концепцию, не разделяя слово на современное и древнее. «Водораздел» проходит по линии слово обычное, обыденное УБ слово поэтическое. Последнее наделяется не только сугубой емкостью и значимостью, но и особой бытийностью, воплощенностью. Поэтическое произведение - мощная энергетическая субстанция, которая продуцирует и смысловые, и онтологические потенции. По Мандельштаму, слово — «звучащая и говорящая плоть».
Большое значение у акмеистов имеет библейское соотнесение Слова с Богом. Подобные логосные представления были заимствованы и развиты как в теоретическом, так и в художественном наследии Мандельштама. Однако они имели и отчетливые специфические черты: поэт настаивает на проницаемости семантики и акустической «оболочки», формы и содержания. В его концепции телеологически связаны также лексема и денотат, что ведет к взаимопроникаемости различных семантических планов, связанных со словом. Кроме того, в слове содержится мощная креативистская сила, используя которую, поэт уподобляется Творцу.
Развитие логосных идей наблюдается в работах «Скрябин и христианство» (1915) и «Петр Чаадаев» (1914), которые создавались в эпоху исторических
катаклизмов. Это наложило свой отпечаток на поэтологические рефлексии Мандельштама. Он размышляет о семантической основе едипства в человеческом сообществе, приходя к мнению, что на современном этапе таким смысловым «интегратором» становится христианство. И наоборот: отказ от христианского логоцентризма ведет к нескольким видам распада, связанным с теологией (многобожие), антропологией (распад личности), онтологией (распад времен), поэтологией (распад искусства).
Под христианским искусством поэт мыслит не только и не столько заимствование библейских образов и мотивов, а подражание Христу - в творческом акте. То есть некоторое высшее сотворчество Бога и человека, в котором мир обретает свое единство. Причем такое подражание - удел в первую очередь искусства, так как искупленный кровью Спасителя мир не нуждается во вторичном — творческом искуплении. Поэтому в центре сотворчества человека и Бога - сакральная игра, цель которой - со-радование.
В завершение статьи дается поэтологически ориентированная концепция временного зона как идея гармонического единства мира. Развивается она также в ряде стихотворений, например, «Вот дароносица, как солнце золотое...».
Следующий этап семантических штудий Мандельштама рассмотрен в параграфе 3.3.2. Слово-плоть и Слово-Психея (вторая половина 1910-х - начало 1920-х годов). Речь здесь идет о втором периоде творчества поэта, прошедшего под знаком Первой мировой войны и революции и получившего в критике название «эпоха "Тп^а"» — по одноименному названию 2-й книги стихов. В статьях «Слово и культура» (1921) и «О природе слова» (1921-1922) раскрываются те идеи, что были выражены еще в статье «О собеседнике» (1913), которая хотя хронологически и относится к предыдущему периоду, но по своему значению устремлена в будущее.
Основные постулаты данной работы: 1) слово поэта - это слово адресованное, отсюда вытекает такое свойство лирики, как диалогичностъ. 2) Адресат поэта-акмеиста не друг, не близкий человек, а некий «провиденциальный собеседник», «читатель в потомстве». 3) Если цель прозы, по Мандельштаму, - поучение, то цель поэзии провиденциальная. Проблема «провиденциального собеседника», разрабатываемая поэтом как в теории, так и в программных стихах, воплощается в системе рецептивных образов и мотивов, прямых и скрытых аллюзий.
Статью «Слово и культура» Мандельштам начинает с тезиса о бытии «новой природы», «природы-Психеи», ибо «старый мир», по выражению Мандельштама, «не от мира ссго». С современности культура стала существовать как некий духовный институт, наподобие первых христианских общин, которые, как и деятели культуры в России 1920-х годов, подвергались гонениям и преследованиям. Вот почему у Мандельштама возникает аналогия современной культуры и церкви.
Сочетание лексем «хлеб» и «тайна» в контексте манделыптамовской статьи ведёт, конечно, к таинству причащения (изоморфизм понятий слово и хлеб развернут в статье Мандельштама «Пшеница человеческая».). Вещи в переломные эпохи теряют свою «плотскую» суть и одухотворяются в слове, а слова, в свою очередь, как бы оплотняются, облекаются плотью. При этом Мандельштам проецирует сакральный мотив «мученичества» и «жертвы» не па поэта (как это наблюдалось, например, у Ахматовой), а на само слово. Отчего слово страдает в современную для поэта эпоху? По мнению поэта, - от деформации и разрушения. Страдающее слово, по Мандельштаму, не исчезает, не «развеществляется», а оборачивается, как некогда Иисус Христос, духовной своей ипостасью.
Мысли статьи «Слово и культура» во многом созвучны идеям работы «О природе слова», где Мандельштам снова возвращается к связи семантического с онтологическим. Кроме того, поэт рассматривает русский язык как наследник греческого, являющегося проводником эллинистической культуры. Отсюда и особые потенции при «воплощении» русского слова и его связи с материальным миром.
Обобщая философско-семантическую модель слова и языка, представленную поэтом в статьях второго периода, следует выделить следующие положения. Во-первых, по Мандельштаму, слово обладает тремя взаимосвязанными ипостасями: слово как лексема (лингвистические воззрения), слово как дух (психейные воззрения) и слово как плоть (христианские воззрения). Во-вторых, слово - это своего рода «инобытие вещей», некое порождающее начало быт!!я: такая концепция связана с библейским представлением о Слове как о Первопричине всего. В-третьих, жизнь языка в русской истории обретает полноту бытия, поэтому язык онтологичен, его бытие тождественно бытию мира. Следовательно, посредством слова человек «одомашнивает» мир — идея, сквозная для логосных воззрений всех акмеистов.
Последний этап теоретической разработки Мандельштамом проблем поэтической семантики рассмотрен в подпараграфе 3.3.3. Волновая теория слова и произведения (1930-е годы). В эссе «Разговор о Данте» (1933) автор на материале «Божественной комедии» Данте изложил собственные представления о природе художественного творения, о функции в нем образного слова. Основной тезис «Разговора о Данте» связан с уточнением взаимоотношений словесного искусства и реальности жизни, которые, по Мандельштаму, строятся посредствомкатегорин тождества. Поэт говорит о разыгрывании «куска природы» с помощью словесных образов. Эта мысль соотносится с идеей уподобления, с идеей искусства как игры Бога с художником, обоснованной Мандельштамом в статье «Скрябин и христианство». Но произведение, считает Мандельштам, является не простой моделью реальности, а моделью креативной, порождающей новые смыслы.
Если в 1920-е годы Мандельштам мыслил слово как Психею, то сейчас в том же психейном духе он осмысляет природу произведения, то есть соотношение формы и содержания в слове он переносит на художественное творение. Слово, в видении поэта, несет в себе зачаток всего смысла произведения, таким образом, оказывается тождественным реальности и произведению. Мандельштам трактует произведение как «внутреннюю форму» реальности.
Новизна манделыптамовской концепции слова, выраженная в «Разговоре о Данте», заключается в том, что он рассматривал слово как своеобразный динамически развертываемый «цикл». В то же время, как бы вторя Тынянову, Мандельштам и целостную лирическую композицию (стих, строфу, произведение) трактовал как «единое слово», как органично слитную структуру. При этом не только произведение, но даже слово, в манделыптамовском представлении, — пе «готовый смысл», а процесс, но в то же время художественное творение по спаянности элементов, его составляющих, должно приближаться к слову.
Обосновывая принципиально новый подход к стихотворению и поэтическому слову, Мандельштам и апеллирует к современным физическим теориям. Стихотворение для него - своего рода силовой поток, магнитное поле. Поэтическая материя трактуется Мандельштамом как частица, обладающая свойствами волны. Поэт выстраивает концепцию произведения как силового потока, пронизанного единым «дифференцирующим порывом». Сам принцип дифференциации Мандельштам
определяет метром и ритмом, которые могут выполнять в тексте одновременно формообразующую и смыслопорождающую функцию.
С целью объединения авторского и читательского сознания Мандельштам ведет поиск новой интегрирующей целостности, выходящей за пределы наличного текста. Стихи - «партитура», ждущая исполнителя. Текст не может быть завершен в себе -точку ставит не автор, а читатель.
Таким образом, по мере того как акмеизм уходил в прошлое, его установки оказались менее актуальными для Мандельштама, хотя он от них не отказывался, а лишь реинтерпретировал с учетом в том числе и социально-исторической ситуации. Вызревает новое понимание слова, где ключевым тезисом становится энергийность его природы. Такие воззрения на логос как на силовой поток являлись вершинной точкой творческих исканий Мандельштама, в которой сошлись все те представления, что были сформированы в течение трех десятилетий поэтических рефлексий.
В Заключении обобщаются результаты исследования. Указывается, что главная черта акмеистического типа пространства заключается в том, что оно является фрагментарным, аксиологически весомым в каждом своем участке, независимо от его материальной протяженности. В творчестве Ахматовой такой тип пространства связывается с ее лирическим психологизмом, укорененным в вещных деталях, в творчестве Мандельштама этот тип пространственности мотивируется установкой на соединение разных культур, а в лирике Гумилева он в первую очередь соотносится с авторской концепцией (пра)памяти и мотивом пути. На семантическом уровне пространство связывается с мифологическим кодом, который выражается преимущественно в бинарной организации пространственной модели, чаще всего представленной антитезой своего - чужого, ближнего (домашнего) - дальнего (экзотического).
Время в поэтике акмеизма получило онтологическую закрепленность и конкретизирующую дискретность (что выразилось, например, во внимании к точным временным отрезкам и точкам на оси истории: мгновениям, датам, временам года...), а также обрело особую воспринимаемую органами чувств семантическую экзистенцию, даже телесные воплощения. Эволюционируя, течение пришло к пониманию темпоральности через призму эонического времени, которое является неким универсальным хронотопом, включающим в себя все события мировой истории, предстающие одновременно, в единой синхронической картине.
Миромоделирующие координаты акмеистической поэтики одной из своих основ имеют субстанционально-телесную семантику. Представители поэтической школы создали уникальную систему вещных, вещественных, соматических, чувственно-конкретных образов «бытийствующей» лирической вселенной. Одним из основных свойств акмеистической картины мира становится ее пластичность, изоморфизм основных субстанциональных мотивов. Такая корреляция свидетельствует о субстанциальном всеединстве мира, в частности, о преодолении границ между живым и неживым - в двух направлениях. При этом подобные представления эволюционируют: путь акмеистов — от чувственного к сверхчувственному, от воплощения красот мира к их глубинному мистическому переживанию, в котором субстанциональная семантика хотя и не исчезает, но аксиологически уходит на второй план.
Слово у акмеистов, проецируясь на библейские представления о Боге-Логосе, становится мерой всего сущего. Отсюда — особое значение поэтологических установок, отрефлектированпых в том числе и метапоэтйчески, в центре которых — христианские
логоспые воззрения. Формула «Бог-Слово» при всем различии поэтологических установок Ахматовой, Гумилева и Мандельштама становится ключевым тезисом поэтики акмеизма, развернутым в различных регистрах. Кроме того, большую роль играет рецептивная эстетика: читатель из объекта воздействия превращается у акмеистов в полноправного субъекта, участника диалога, со-творца.
Таким образом, семаптическая вселенная акмеизма, расходясь в некоторых частных моментах, обнаруживает единую миромоделирующую матрицу, которая продуцирует разрастание всей системы в строго заданных рамках. Эволюция акмеизма была симультанной, о чем свидетельствует сопоставление поэтик основных ее представителей. Исследование миромоделирующих образов и мотивов с нескольких позиций доказало, что акмеизм - это целостное литературное течение, своего рода мегатекст, картина мира которого имеет вполне четкие параметры в пространственно-временном континууме, субстанциальной семантике, поэтологических воззрениях и т.д. И главный тезис течения о воплощении самой «плоти» бытия, заключенный в установке на внимание к данному в конкретных чувственных «координатах» миру, был полно реализован.
В диссертации разработан алгоритм изучения акмеизма через призму его базовых миромоделирующих установок, снят ряд противоречий и закрыты некоторые лакуны, которые не позволяли оценить специфичность акмеизма в его полноте — на материале трех магистральных идиопоэтических линий течения.
Основные результаты работы опубликованы в следующих изданиях: Монографии:
1. Меркель Е.В. Миромоделирующие образы и мотивы в поэтике акмеизма: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам / Е.В. Меркель. М.: ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2015. - 350 с.
2. Меркель Е.В. Осип Мандельштам: философия слова и поэтическая семантика: монография / ЛГ. Кихнсй, Е.В. Меркель. М.: ФЛИНТА; Наука, 2013. - 200 с.
Учебное пособие:
3. Меркель Е.В. Концепция слова и проблемы семантической поэтики Осипа Мандельштама. Пособие по спецкурсу. / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель М.: МАКС Пресс, 2002.44 с.
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
4. Меркель Е.В. Семантика «границы» в картине мира Анны Ахматовой / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Вестник Тверского государственного университета. 2012. № 21. Вып. 3. С. 55-63.
5. Меркель Е.В. Поэт и язык: к вопросу о поэтологических стратегиях О. Мандельштама и М. Цветаевой / Л.Г. Кихней, Е. В. Меркель // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2012. Т. 18. №3. С. 103-106.
6. Меркель Е.В. Особенности поэтической семантики Осипа Мандельштама второй половины 1910-х годов / ЕЛ. Меркель // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2012. Т. 18. №2. С. 141-144.
7. Меркель Е.В. Семантика крови в поэтике акмеизма / Е.В. Меркель // Вестник Тверского государственного университета. 2013. №1. С. 74-81.
8. Меркель Е.В. К вопросу об онтопоэтических координатах в акмеистической модели мира / Е.В. Меркель // Вестник Тверского государственного университета. 2013. №4. С. 57-68.
9. Меркель E.B. Мотив последних сроков в работах русских философов рубежа XLX - XX вв. и в «Поэме без героя» А. А. Ахматовой / Е.В. Меркель, Л.Я. Яковлева // Вестник Тверского государственного университета. 2013. №6. С. 32-39.
10. Меркель Е.В. Инфернальные локусы в поэтической системе A.A. Ахматовой / Е.В. Меркель // Вестник Тверского государственного университета. 2014. №3. Серия «Филология». С. 332-338.
11. Меркель Е.В. Категория времени у ранней Ахматовой в контексте акмеистического дискурса (на материале сборников «Вечер» и «Четки») / Е.В. Меркель // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: www.science-education.ru/118-14465.
12. Меркель Е.В. Райские локусы в лирике Анны Ахматовой / Е.В. Меркель // Вестник Вятского государственного 1уманитарного университета. 2014. № 11. С. 140146.
13. Меркель Е.В. Хронотоп в лирической системе Анны Ахматовой / Е.В. Меркель // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс»: Периодическое научное издание. Серия: социально-гуманитарные науки. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. унта, 2014. № 4 (20). С. 354-359.
14. Меркель Е.В. Поэтика личного и исторического времени в творчестве Анны Ахматовой в эпоху исторических катаклизмов (1914-1922) / Е.В. Меркель // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс»: периодическое научное издание. Серия: социально-гуманитарные науки. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2015. №1(23). Т. 1.С. 181-187.
15. Меркель Е.В. Концепция слова Н.С. Гумилева в контексте символистской и акмеистической онтологии и философии творчества / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Вестник Тверского государственного университета. 2014. № 3. С. 72-77.
16. Меркель Е.В. Аксиология повседневных вещей в поэтике акмеизма / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 1 (33). С. 129-138.
17. Меркель Е.В. Мифосемантика пространства в поэзии акмеизма / Е.В. Меркель // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 1. Т. 1 (Культурология). С. 39-43.
18. Меркель Е.В. Антропоморфные образы творчества в поэтике акмеизма В А. Гавриков, Е.В. Меркель // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс»: периодическое научное издание. Серия: социально-гуманитарные науки. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2015. № 1(23). Т. 2. С. 188-194.
19. Меркель Е.В. К методологии изучения поэтической семантики акмеизма / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс»: периодическое научное издание. Серия: социально-гуманитарные науки. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. ун-та, 2015. № 1(23). Т. 2. С. 217-222.
20. Меркель Е.В. «Поэма начала» и «Слово» Н. Гумилева / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель//Вестник Тверского государственного университета. 2015. №1.С.60-67.
21. Меркель Е.В. Антропоморфное и субстанциональное время в поэтике акмеизма / Е.В. Меркель // Современные исследования социальных проблем. 2015. № 1. URL: http://www.science-education.ni/l 21-19222.
Статьи в рецензируемых зарубежных изданиях:
22. Меркель Е.В. Образы «пространства» и «времени» как миромоделирующие координаты поэтического мира А. Ахматовой / Е.В. Меркель, Л.Я. Яковлева // Анна
Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник / Сост. и науч. ред. Г. М. Темненко. Вып. 10. Симферополь: Крымский Архив, 2012. С.83-92.
23. Меркель Е.В. Метафора в позднеакмеистической поэтике / Е.В. Меркель //Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник // Сост. и науч. ред. Г. М. Темненко. - Вып. 11.- Симферополь: Крымский Архив, 2013. С. 189-194.
24. Меркель Е.В. Специфика хронотопа в лирике Николая Гумилева / Е.В. Меркель //Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник / Сост. и науч. ред. Г. М. Темненко. — Вып. 12. Симферополь: Крымский Архив, 2014. С. 157-164.
25. Меркель Е.В. К диалогу поэзии философии: религиозно-философский контекст формирования акмеистической концепции «Слова-Логоса» Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Acta Umversitatis Lodziensis FOLIA LITTERARIA ROSSICA 5. LÓDZ 2012. C. 65-80.
Статьи в сборниках научных трудов и материалов научных конференций:
26. Меркель Е.В. Акмеистическое "слово" в логоцентрическом контексте русской христианской философии начала XX века (в соавторстве с) / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Россия: на пути глобализации и интеграции. Научные труды. Вып.2012. М.: ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2012. С.202-214.
27. Меркель Е.В. Миромоделирующие мотивы и образы в поэзии Н. Гумилева (концепция <слова> и концепт <пути>) / ЛГ. Кихней, Е.В. Меркель // Современные реалии России: общество, экономика, право. Научные труды. Вып. 2013. М.: ИМПЭ им. A.C. Грибоедова, 2013. С.214-221.
28. Меркель Е.В. «Речетворчество О. Мандельштама и М. Цветаевой: «голос Музы» как «диктат языка» / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Взаимодействия в поле культуры: преемственность, диалог, интертекст, гипертекст: сборник научных статей. Вып. 3. Кемерово: изд-во КемГУ, 2012. С. 52-60.
29. Меркель Е.В. К концепции имени у Мандельштама / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // 100 лет Серебряному веку. Материалы международной научной конференции. М.: МАКС Пресс, 2001. С.84-88.
30. Меркель Е.В. Концепция «психейности» и поэтическая семантика Мандельштама / Е.В. Меркель // Материалы II городской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 20-летию профессионального образования в Южной Якутии. Нерюнгри: изд-во ЯГУ, 2001. С.208-210.
31. Меркель Е.В. Семантика имени собственного (на примере поэзии Осипа Мандельштама) / Е.В. Меркель // Материалы II городской паучно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 20-летшо профессионального образования в Южной Якутии. Нерюнгри: изд-во ЯГУ, 2001. С.217-219.
32. Меркель Е.В. Философия слова Осипа Мандельштама как теоретическая основа изучения поэтической семантики / Е.В. Меркель // Якутск: изд-во ЯГУ Философия и технологии образования: Поиск новых подходов. 2002. С.72-84.
33. Меркель Е.В. Семантические деривации в «Tristia» О. Мандельштама (на примере одного стихотворения) (статья) / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Проблемы поэтики русской литературы: межвузовский сборник. М.: МАКС-Пресс, 2003. С. 7278.
34. Меркель E.D. Образная парадигма камня в поэзии Мандельштама (статья) / Е.В. Меркель // Вестник Технического института (филиала) Якутского государственного университета. Вып. 1. Якутск: изд-воЯГУ, 2004. С. 93-98.
35. Меркель Е.В. Парадигматическое развертывание смыслообразов в поэзии Осипа Мандельштама (статья) // Проблемы славянской культуры и цивилизации: материалы VII международной научно-методической конференции. Уссурийск: Изд-во УГЛИ, 2005. С. 282-284.
36. Меркель Е.В. К вопросу об адресованности поэзии Осипа Мандельштама (статья) / Е.В. Меркель, И.Е. Козловская // Материалы VI межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 30-летию г. Нерюнгри (апрель 2005 г.). - Нерюнгри: изд-во ЯГУ, 2005. С. 494- 495.
37. Меркель Е.В. «Веерное» время в творчестве Осипа Мандельштама (статья) / Е.В. Меркель, И.В. Н Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития», 1-15 октября 2005 года. - Одесса: Изд-во Черноморье, 2005. С. 16-17.
38. Меркель Е.В. Адресация в поэтических текстах Осипа Мандельштама / Е.В. Меркель // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития», 1-15 октября 2005 года. Одесса: Изд-во Черноморье, 2005. С. 10-13.
39. Меркель Е.В. «Разговор о Данте» Осипа Мандельштама как обоснование креативной модели лирического текста (статья) / Л.Г. Кихней, Е.В. Меркель // Проблемы поэтики русской литературы XX века в контексте культурной традиции: материалы международной научной конференции. М.: МАКС-Пресс, 2006. С. 57-67.
Меркель Елена Владимировна (Россия) Поэтическая семантика акмеизма: миромоделирующие образы и мотивы (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам)
В диссертации исследуется семантическая «вселенная» акмеизма и показывается, что ключевые фигуры этого течения, расходясь в некоторых частных моментах, составляют единую мотивно-образную парадигму, которая продуцирует разрастание всей системы смыслов в строго заданных миромоделирующих рамках. Сопоставительный анализ идиопоэтик Н. Гумилева, А. Ахматовой и О. Мандельштама доказывает, что акмеизм — это целостное литературное течение, своего рода мегатекст, картина мира которого имеет четкие параметры в пространственно-временном континууме, субстанциальной семантике и поэтологических воззрениях.
Merkel Elena Vladimirovna (Russia) Poetic semantics of Acmeism: world modeling images and motifs (N. Gumilev, A. Akhmatova, O. Mandelstam)
The dissertation investigates the semantic universe of Acmeism and shows that the key figures of this movement, different in some private questions, make up a single motif-shaped paradigm that produces the growth of the whole system of meanings in a strictly defined world modeling framework. Comparative analysis of idiopoetics by N. Gumilev, A.Akhmatova and O. Mandelstam proves that Acmeism is an integral literary trend, a kind of megatext, picture of the world which has clear parameters in the space-time continuum, substantial semantics and views of poets.
Подписано в печать:
03.07.2015
Заказ № 10821 Тираж - 100 экз. Печать трафаретная. Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш., 36 (499) 788-78-56 www.autoreferat.ru