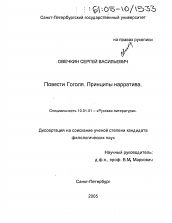автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Повести Гоголя. Принципы нарратива
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Овечкин, Сергей Васильевич
1. Введение.
II. Глава I. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
• 1. Эксплицитный и имплицитный читатель «Вечеров.».
2. Событие «преображения» мира.
3. Событие «преображения» персонажа.
4. Событие вставного рассказа.
5. Событие «второго сюжета».
6. Событие «Ивана Федоровича Шпоньки.».
7. Выводы.
III.
Глава II. «Миргород».
1. Повествователь «Миргорода».
2. «Старосветские помещики». «Неистовая» идиллия.
3. «Тарас Бульба». Романическая эпопея.
4. «Вий». «Плутовская» трагедия.
5. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: сатира «отчужденного» романтика.
6. Трансформация жанра: сдвиг нарративной маски.
IV. Глава III. «Петербургские повести».
1. Введение.
2. «Невский проспект»: конец света с неопределенными последствиями.
4 3. «Нос»: деконструкция истории.
4. «Портрет»: экскурс в полидискурсивность.
5. «Записки сумасшедшего»: история души.
6. «Шинель»: парадигматика vs. синтагматика.
7. Выводы.
Введение диссертации2005 год, автореферат по филологии, Овечкин, Сергей Васильевич
Постановка вопроса о принципах нарратива в прозе Гоголя - это одновременно и предельно локализованная, и, очень широкая постановка вопроса. Связано это с двумя значениями понятия «нарративность»1. С одной стороны, мы имеем при этом в виду опосредованность повествуемого мира - его преломление через призму повествователя. С другой -событийность рассказываемой истории, то есть сюжетность повествуемого мира. Понятно, что поскольку повествователь характеризуется определенным языковым и мировоззренческим горизонтом, который может быть выявлен в большей или меньшей степени, а сюжетность, в свою очередь, отличается определенной структурностью, то принципы нарратива находятся в компетенции самых различных дисциплин - стилистики, композиции, герменевтики. В этом смысле практически любая работа о прозе Гоголя, общего и даже специального характера, касается принципов нарратива. И критики начала века, и исследователи 1920-х гг., и более поздние гоголеведы оставили в своих книгах наблюдения, иногда ставшие классическими, о принципах нарратива в прозе Гоголя2.
Однако возможен и более специальный взгляд на проблему - с точки зрения оформившейся в 1960-е гг. как особая дисциплина нарратологии. Системный взгляд на повествовательную ситуацию, с одной стороны, и структуру сюжета - с другой, взгляд, объединяющий их, характеризует этот подход, начало которому в отечественной науке положили формальная школа, М.М. Бахтин, В.Я. Пропп. В этом смысле проза Гоголя становилась объектом нарратологического описания достаточно редко. А монографической работы такого рода в гоголеведении на сегодняшний день просто не существует.
Пионерские работы формальной школы, создавшие основу современной теории прозы, вовсе не случайно часто брали в качестве материала прозу Гоголя. Это отчасти связано с возрождением ее традиций в
1 Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 11-13.
2 Так, например, невозможно не учитывать при описании гоголевского нарратива книги В.В. Гиппиуса «Гоголь» (1924), А. Белого «Мастерство Гоголя» (1934), Г.А. Гуковского «Реализм Гоголя» (1959) или более поздние стилеведческие исследования С.Г. Бочарова и М.Н. Виролайнен. символистском романе и орнаментальной прозе, отчасти с ее специфичностью (точно так же парадигматическим автором для теорий В. Шкловского стал крайне специфичный Стерн). Необычность гоголевской прозы и в контексте романтической повести, и в контексте реалистического романа была удобна для демонстрации «обнажения приема». Этот «обнаженный прием» и стал отправной точкой для первых, говоря современным языком, нарратологических работ, посвященных прозе Гоголя. Этими работами стали статьи Б.М. Эйхенбаума «Иллюзия сказа» (1918) и «Как сделана "Шинель" Гоголя» (1919). Находившийся под влиянием немецкой «слуховой» филологии, Б.М. Эйхенбаум первым заговорил о сказовой форме повествования как форме, создающей иллюзию устной речи, и отметил, что сказовая установка оказывает влияние на разные аспекты произведения - выбор слов и их постановку, синтаксические обороты и, что, пожалуй, важнее всего, композицию3.
Своеобразие концепции сказа у Эйхенбаума сказалось в трактовке им прозы Гоголя, которую он однозначно характеризовал как сказовую, лишь выделяя в ее эволюции подпериоды «сказок» и «особых форм сказа»4. Этот пункт, как и концепция сказа в целом, были оспорены В. В. Виноградовым в его работе «Проблема сказа в стилистике» (1925). Сказ был понят как «художественная имитация монологической речи, которая, воплощая в себе повествовательную фабулу, как будто строится в порядке ее непосредственного говорения»5. Это уточнение, переводящее понятие сказа из сферы слуховой филологии в сферу филологии «синкретической», оказало влияние на всю дальнейшую историю понятия. Мое диссертационное исследование, которое также не может не коснуться проблемы сказа, принимает в качестве отправной точки виноградовское определение.
Для гоголеведения оказалось не менее важным уточнение Виноградова, добавленное к пониманию гоголевской прозы как «сказовой». Ранние повести ученый однозначно определил как сказ - как «комическую
3 Эйхенбаум Б.М. Иллюзия сказа // Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу. Л., 1924. С.
152.
4 Там же, С. 155.
5 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика. I. Временник словесного отдела ГИИИ. Л., 1926. С. 33. v с игру словесными уродствами» Рудого Панька и его захолустных приятелеи . Но эволюцию Гоголя Виноградов трактовал иначе, чем Эйхенбаум: «Любопытен в этом отношении путь Гоголя, который, постепенно освобождаясь от захолустной обстановки и масок рассказчиков с ярлыками Рудого Панька, начал создавать сложные комбинации письменных, сказовых, ораторских форм монолога с диалогом («Шинель», «Мертвые души»). Здесь автор как бы постепенно поднимал сказовые приемы Рудого Панька на уровень норм литературно-художественной прозы, своеобразно их деформируя и сочетая с другими стилистическими элементами»7. Такой историзации здесь подвергается виноградовская концепция «оркестра голосов», в котором возникает «иллюзия непрестанной смены рассказчиков и неожиданной метаморфозы их в писателя-'книжника"»8.
Этот момент хотелось бы подчеркнуть особо. Виноградов отметил здесь, на мой взгляд, конститутивную черту гоголевского нарратива - его неоднородность. Это наблюдение, проверенное анализом текста, стало отправной точкой для данной работы.
Хотя виноградовские уточнения укоренились в науке, нельзя не отметить, что тезисы Б.М. Эйхенбаума также нашли продолжение в устойчивой традиции. Это, например, относится к его определению гоголевского сказа как «воспроизводящего», а также к следующему положению: «сюжет у Гоголя имеет значение только внешнее и потому сам по себе статичен <.> Настоящая динамика, а тем самым и композиция его вещей - в построении сказа, в игре языка»9. Подобные тезисы можно встретить у А Белого, у В. Набокова, а из современных ученых - у Д. Фангера, которого в известном смысле можно считать последователем Б.М. Эйхенбаума.
Гораздо более бесспорными представляются другие положения Эйхенбаума, также не утраченные наукой. Так, например, ученый пишет, что «прием доведения до абсурда или противологического сочетания слов часто
6 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике. С. 37.
7 Там же, С. 39.
8 Виноградов В.В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 191, 254255.
9 Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969.
С.311. встречается у Гоголя, причем он обычно замаскирован строго логическим синтаксисом»10. Содержательную интерпретацию ' повествовательных алогизмов даст впоследствии Ю.В. Манн.
Или другое, очень важное замечание о приеме, «придающем всей повести иллюзию действительной истории, переданной как факт, но не во всех мелочах точно известной рассказчику»11. Этот нарративный прием -игра с компетенцией повествователя - отмечается и в более поздних работах. Получит свою интерпретацию этот прием и в данном исследовании.
В.В. Виноградов занимался гоголевским повествованием и в других работах. Классическими стали книги «Этюды о стиле Гоголя» (1923), «Гоголь и натуральная школа» (1924), «Эволюция русского натурализма» (1928). И хотя именно здесь он будет говорить о принципиальном для нарратологии вопросе - необходимости различения автора и повествователя - и придет к концепции «оркестра голосов», его интересы здесь лежат главным образом в области стилистики (нельзя при этом не отметить его вклад в изучение композиции гоголевских произведений). Ученый отметит важность стилистических контекстов французской «неистовой школы», натуралистического «физиологизма», сопоставит Рудого Панька и его собеседников с рассказчиками романов Вальтера Скотта. Описание стилистики и языка Гоголя Виноградовым станет основополагающим для гоголеведения. Но собственно повествовательная ситуация уйдет из фокуса его внимания.
Для нашей темы куда важнее, однако, замечание Виноградова, сделанное им в статье «Проблема сказа в стилистике» - замечание о том, что «для стилистики вопрос о функциях рассказчика - проблема семантики»12. Сам ученый, как уже было сказано, занимался по преимуществу синтактикой гоголевского текста. Проблема семантической и прагматической интерпретации повествовательной ситуации решалась позднее применительно к отдельным текстам или группе текстов, но монографического описания прозы Гоголя с этой точки зрения, как было сказано выше, не существует. Отдельные приближения к такому описанию не могут служить примером удовлетворительного решения проблемы.
10 Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя. С. 313.
11 Там же, С. 318.
12 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике. С. 27.
Поставленная формалистами проблема сказа как повествовательной техники Гоголя надолго оставалась центральной в тех случаях, когда ученые брали прозу Гоголя в нарратологическом аспекте. Этапной стала книга «Поэтика сказа» (1978)13, вводная глава которой дает обстоятельный обзор истории изучения формы сказа в литературоведении. В выделенном авторами жанре «сказовой новеллы» ученые находят два коммуникативных плана - между рассказчиком и его фиктивным слушателем и между автором и читателем. Эта коммуникативная ситуация интерпретируется учеными в семантическом и прагматическом аспекте: «особый интерес приобретает образ самого повествователя. Выступая в качестве субъекта речи, повествователь предстает как объект авторского исследования и читательского понимания»14.
Специфику этого повествователя авторы монографии находят в некоем сказовом «мы» - в установке повествователя на ценности известной социальной группы15. Из этой установки ученые и выводят особенности сказового повествования, в том числе повествования в сказах Гоголя.
К «сказовым новеллам» авторы монографии относят повести цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Нельзя не отметить безусловно ценные положения книги, относительно, например, фольклорности сказа Гоголя, которая состоит в самой «логике мышления рассказчиков и героев»16. Или такое наблюдение: «Множественность рассказчиков (вариативность) в «Вечерах» <.> подчеркивает многоплановость этого мира, то, что в нем таятся возможности самые разные»17. Однако ограниченность монографии локальным предметом исследования - «сказовой новеллой» - приводит к тому, что эволюцию принципов нарратива Г оголя с позиций этой группы ученых описать невозможно. Она предстает здесь так: формирование сказового типа повествования у Гоголя18 (причем уже на этом этапе отмечается возникновение «книжно-романтических» интонаций19), затем
13 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978.
14 Там же, С. 28.
15 Там же, С. 69.
16 Там же, С. 70.
17 Там же, С. 72.
18 Там же, С. 64.
19 Там же, С. 87. разрушение «чистого сказа» и возвращение к письменно-книжнои традиции, к «образу автора»21.
Последняя формулировка показывает тот принципиально важный момент, в котором открывается концептуальная недоработанность нарратологии авторов монографии. В книге последовательно смешиваются две концепции автора. Одна из них следует виноградовскому определению, согласно которому автор - это «концентрированное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»22. Другая концепция предполагает возможность присутствия «прямого слова» автора в повествовании23. Логическое противоречие очевидно. Отсюда и концепция, утверждающая, что в Ich-Erzahlung (форма, которую авторы последовательно отграничивают от сказа) «"чужая" речь героя-повествователя не только способна сливаться с авторской, но проявляет устойчивую тенденцию к такому слиянию»24. Я предполагаю в своей работе последовательно руководствоваться процитированным виноградовским определением автора, и именно в соответствии с ним употреблять более позднее понятие «имплицитный автор» (В. Изер). В этом мои методологические позиции соответствуют позициям В. Шмида, вводящего понятие «абстрактного автора»25.
Поэтому недопустимо, на мой взгляд, рассматривать эволюцию гоголевской прозы как переход от сказового слова к слову «авторскому». Следует описывать специфику нарратора на каждом этапе эволюции повествовательных техник Гоголя, и к уровню автора (как «фокуса целого») приближаться не иначе, как посредством герменевтических процедур.
Важно отметить еще один принципиальный недостаток, свойственный, на мой взгляд, «Поэтике сказа». Авторы удачно отметили «протеистичность
20 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 88.
21 Там же, С. 89.
22 Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. С. 118.
23 Следует, впрочем, отметить, что и сам Виноградов не вполне последовательно разграничивал «образ автора» и «нейтрального» повествователя.
24 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 37.
25 Шмид В. Нарратология. С. 41-57. носителя сказа» в «Серебряном голубе» А. Белого26. Однако подобная «протеистичность» в сказе «Вечеров.» ускользнула от их интерпретации, ориентированной на смешение автора как смыслового фокуса и автора как субъекта речи. Полемика с трактовкой «Вечеров.», предложенной авторами коллективной монографии, предполагается в главе 1 данной работы.
Можно заметить, что существенные уточнения в эту трактовку уже были внесены более проработанной концептуально монографией Н.А. Кожевниковой «Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков»27. Предметом исследования являются здесь «композиционные единства, организованные определенной точкой зрения (автора, рассказчика, персонажа), имеющие свое содержание и функции и характеризующиеся относительно закрепленным набором конструктивных признаков и речевых средств (интонация, соотношение видо-временных форм, порядок слов, общий характер лексики и синтаксиса)»28. Последовательное сочетание стилистического и композиционного аспектов, взятых с точки зрения семантической функции, является несомненным достоинством этой монографии, равно как и более, хотя не до конца последовательно выдержанное виноградовское (в соответствии с процитированной выше поздней работой) понимание категории автора. Как следствие, более убедительной теоретически и историко-литературно выглядит и интерпретация Н.А. Кожевниковой сказа у Гоголя.
Вводя оппозицию «сказового» и «книжного»29, автор монографии обращает особое внимание на повесть «Вечер накануне Ивана Купала». Удельный вес «книжного» в этой классической «сказовой» повести явно превышает ту норму, которую позднее установит реалистический сказ с его социальной определенностью рассказчика. Тем не менее, по мнению ученого, это - сказовая повесть: «определяющим оказывается функциональная значимость разных элементов, а не их количественное соотношение»30. Таким образом, здесь мы находим отмеченную выше
26 Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. С. 148.
27 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. М.,
1994.
28 Там же, С. 3.
29 Там же, С. 51.
30 Там же, С. 63. протеистичность» сказового рассказчика. Такое понимание гоголевского сказа, очевидно, утвердилось в современной науке: В. Шмид пишет применительно к гоголевскому сказу о рассеянном субъекте повествования .
Повесть «Вечер накануне Ивана Купала», очевидно, была выбрана для анализа в силу ее яркой характерности, поскольку и сказ Гоголя в целом характеризуется Кожевниковой следующим образом: «книжное начало может быть столь явно выражено, что отдельные фрагменты, вырванные из контекста, не несут на себе признаков сказа и осознаются как сказ лишь в общей композиции целого произведения»32. Однако в силу теоретически поставленных задач монографии и широкого охвата материала это положение не получает достаточного развития. Практически не проясненным конкретными анализами остается вопрос о сказе применительно к другим повестям цикла «Вечера.» В этом отношении монография Кожевниковой ничего не добавляет к тезису Виноградова об «оркестре голосов». Соотношение «книжного» и «сказового» в повестях первого гоголевского цикла должно быть прослежено системно, причем должен быть поставлен вопрос о функции этого соотношения, чего также нет в монографии Кожевниковой. Оба эти аспекта станут предметом рассмотрения в главе 1 данного диссертационного исследования.
Необходимо специально остановиться на функциональном аспекте динамики «сказовое»/«книжное» в нарративе «Вечеров.», поскольку монография Кожевниковой является в данном случае последним словом гоголеведения, а значит, указанная лакуна не покрывается другими работами. Между тем, эта динамика, как всякое нарушение внутритекстовой нормы, может иметь не только стилистическую, но и сюжетную функцию. Здесь мы входим во вторую полусферу того значения, которое имеет понятие «нарративность». Сравнительно недавно появилось серьезное обобщающее и во многом новаторское исследование сюжета Гоголя - книга М. Вайскопфа «Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст»33. Исследование композиции гоголевских текстов было всерьез начато
31 Шмид В. Нарратология. С. 69.
32 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. С. 6465.
33 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993. русскими формалистами34 и имеет свою давнюю традицию, но книга израильского ученого, пожалуй, впервые дала полное (хотя, возможно, не бесспорное) морфологическое описание гоголевского сюжета. Автор книги, впрочем, не предложил структуралистской схемы, а дал максимально полный набор мотивов (единицы, вычлененные им, вряд ли можно назвать функциями), который с теми или иными вариациями реализуется в гоголевском тексте и который, очевидно, является дериватом схемы волшебной сказки по В.Я. Проппу. Таким образом, инвариант гоголевского сюжета можно считать описанным.
Однако здесь мы сталкиваемся с теоретическим вопросом - дает ли морфологический подход действительный ключ к сюжету? Иными словами, можно ли говорить о сюжете, не проанализировав уровень наррации и ее презентации? Я считаю, что элиминировать вопрос о том, что происходит с мотивами при их нарративизации, анализируя сюжет, нельзя35. И здесь открывается настолько широкое поле для исследования, которое имело бы отправной точкой тот или иной инвариантный список мотивов, что один этот вопрос мог бы стать темой самостоятельной большой работы. Вот почему в этой именно форме задача мной не ставилась. Однако категория «события» вошла в фокус моего внимания; предполагается выделить в сюжете Гоголя ряд событий, которые являются следствием той или иной динамики именно на уровне наррации и ее презентации. Системный подход к событию такого рода в гоголеведении еще не применялся; и одно из важных мест в этой части исследования займет изучение сюжетной динамики, возникающей при актуализации перехода «сказовое»/«книжное». Оно должно заполнит ту лакуну в исследовании Н.А. Кожевниковой, о которой речь шла выше.
В монографии Н.А. Кожевниковой существенны также наблюдения автора над нарративом «Мертвых душ». Функциональную интерпретацию
34 Кроме уже указанных, можно назвать, например, работу: Слонимский А.Л. Техника комического у Гоголя. Пг., 1923.
35 По замечанию В. Шмида, метод морфологического анализа реконструирует не структуру «сюжета», а структуру «истории» («фабулы») - Шмид В. Нарратология. С. 155. С минимальными оговорками это замечание относится и к результатам исследования В.Ш. Кривоноса, изложенным в его монографии «Мотивы художественной прозы Гоголя» (СПб., 1999). получили «формулы обобщения»36, развивающиеся от типизаторской активности повествователя к открытию тотального масштаба обобщения в медитациях «автора»; отмечены такие конститутивные черты гоголевского нарратива, как неоднородность повествования, игра с компетенцией повествователя37; особо поставлен вопрос об активной роли эксплицитного читателя, вовлекающей реального коммуниканта в диалог с текстом, т.е., по сути, о герменевтической ситуации. Все эти аспекты, но на своем материале, я прослеживаю в диссертационном исследовании.
Нарратив «Мертвых душ» стал предметом описания в еще одной работе, ставшей классической - книге «Нарративные маски русской художественной прозы» М. Дрозды38. Эта книга представляет не только историко-литературный, но и несомненный теоретический интерес. Ключевым для нее стало положение о том, что художественный смысл нарратива представляет собой результат взаимодействия между предметом повествования и нарративной точкой зрения текста в ее отношении к предмету, с одной стороны, и к реципиенту, с другой. Операционально удобным представляется само понятие «нарративной маски», как раз и определяемой этим взаимодействием. Из чрезвычайно плодотворных для данного диссертационного исследования теоретических замечаний приведем только одно: «сюжет <.> не независим от нарративной точки зрения, а создается именно ею как наделяемая смыслом последовательность событий, как результат определенной их интерпретации»39. Это положение, входящее в резонанс с теорией В. Изера40, будет последовательно применяться мной в ходе исследования.
Исследование нарратива «Мертвых душ» в книге Дрозды привело к весьма ценным результатам. Прежде всего, отмечено, что «в «Мертвых душах» авторское «я» [М. Дрозда, разумеется, говорит здесь о повествователе - С.О.] не заняло постоянный пункт наблюдения»41.
36 Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской литературе XIX-XX веков. С. 93.
37 Там же, С, 92-100.
38 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы // Russian Literature. Amsterdam, 1994. Vol.35, №3/4.
39 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 306.
40 Iser Wolfgang. L'acte de lecture. Bruxelles, 1985.
41 Дрозда M. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 373.
Следствием этого является и вариативность компетенции повествователя, и стилистическая вариативность повествования. Обобщая, автор говорит, что «видение мира в его тотальности то и дело превращается в погружение в локальную стихию действия и наоборот: прямо из неподвижного пространства «мертвых душ» обращаясь в необъятный мир движения и свободы, автор, этот голос бесконечного, постоянно подчиняется зачислению и локализации»42. Это чрезвычайно ценное и емкое определение онтологии «автора» «Мертвых душ». Не менее ценным представляется общий вывод, который можно отнести (как показал анализ, проведенный в моем исследовании) ко всей прозе Гоголя: «Гоголевский повествователь всегда на сцене в виде непрерывного изменения угла зрения, т.е. в виде главного, обнаженно-активного начала семантического построения текста»43. В книге Дрозды, однако, это положение не проиллюстрировано. В силу локальности объекта описания и небольшого размера главы о Гоголе даже тема нарратива «Мертвых душ» сохраняет возможность дальнейшего, более подробного исследования. Главный же объект моей работы - повести Гоголя - книгой Дрозды не затронут вовсе.
М. Дрозда, говоря об отношении повествовательной ситуации к реципиенту, выходит к еще одной важной нарратологической проблеме -проблеме эксплицитного и имплицитного читателя. Она также не обойдена гоголеведением, как отечественным, так и зарубежным. Существует монография В.Ш. Кривоноса «Проблема читателя в творчестве Гоголя»44, в которой осуществляется многоаспектное рассмотрение проблемы. Темами отдельных глав стали проблема читателя в самосознании Гоголя, реальные и фиктивные автор и публика в пьесе «Театральный разъезд», но для данной диссертации особое значение имеет глава «Автор и читатель в гоголевском повествовании». Исследователь дает очерк образа читателя в русской прозе 1830-х гг., отмечая, что эта проза усваивает «опыт непринужденной беседы автора со своим адресатом»45. В этом контексте и рассмотрены различные формы эксплицитной драматизации читателя в гоголевском повествовании. «В повествовании», пишет В.Ш. Кривонос, «возникают различные
42 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы. С. 374.
43 Там же, С. 380.
44 Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, 1981.
45 Там же, С. 56-57.
AFL коммуникативные планы» : горизонт повествователя, в котором находится фиктивный читатель, соотносится с горизонтом автора, в который входит читатель реальный. В результате этот последний усваивает язык алогизмов и других повествовательных приемов, возникает предполагаемое в «концепированном читателе» единство с авторской позицией. Автор оговаривает, что «проблема, поставленная в настоящей главе, далеко не исчерпана»47, поясняя, что усилия в работе были сосредоточены на главном для нее вопросе: «как в писательской практике и эстетике Гоголя осуществлялась взаимосвязь проблем смеха и читателя»48. Между тем, очевидно, что установлением общей комической перспективы проблема читателя в повествовании Гоголя не ограничивается. С другой стороны, недостаточно проанализировать эксплицитные формы выражения этой категории. Спектр возможных перспектив, предполагаемых для имплицитного читателя, следовало бы поставить в связь с анализом репертуара текста и текстовых стратегий49. В своей работе я по преимуществу рассматриваю этот аспект. Вопрос о возможном влиянии мной ставится редко или не ставится вовсе, существенным является само описание допустимой конкретизации смыслообраза или описание герменевтической ситуации.
Несколько ранее, чем книга Кривоноса, вышла из печати статья Д. Фангера «Гоголь и его читатель»50. Несмотря на небольшой объем, проблема рассматривается здесь также многоаспектно, однако изложение носит тезисный характер. Ключевым понятием становится «опыт» читателя, а предметом анализа - способы, благодаря которым этот опыт становится читателю доступен. Как следствие, Фангер рассматривает повествовательные техники Гоголя - в «Вечерах.» (со ссылкой на книгу В В. Гиппиуса обозначен репертуар повестей), «Миргороде», в других группах текстов и произведениях. Ничего принципиально отличного от традиции тезисы Фангера не содержат, но предмет последовательно рассмотрен в читательской перспективе. Концентрированным выражением сути статьи
46 Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. С. 67.
47 Там же, С. 101.
48 Там же, С. 145.
49 Iser Wolfgang. L'acte de lecture. II. Ch. 1, 2.
50 Fanger D. Gogol and His Reader. Stanford, 1978.
Фангера является следующее утверждение: в классически «гоголевском» произведении «проблематика вызывающе смещена с опыта, переданного в тексте ("содержание") на читательский опыт текста»51. Это положение, как и тезис о «дразнящем читателя»52 произведении, продуктивны для концепции ученого, поскольку не остаются на уровне формального, а переводятся на уровень описания герменевтической ситуации.
Поскольку ряд положений статьи Д. Фангер затем повторил в своей монографии «Творение Гоголя»53, целесообразно здесь же рассмотреть эту книгу. Нарратив Гоголя все время остается в фокусе внимания автора. На сегодняшний день это наиболее полное и удовлетворительное описание гоголевского повествования. Единственным его недостатком можно считать некоторую тезисность изложения и нехватку убедительных примеров. Впрочем, тезисы Фангера настолько выверены и свежи, что систематический их подбор может служить введением в любую работу по данной теме.
Вполне удовлетворительно охарактеризован нарратив «Вечеров.»: «игра с контрастными стилями и нарративными позициями, избегающая идентификации с любой из них»54. Привлекает уместное использование историко-литературного подхода - указание на новаторство фольклоризма Гоголя, смешивающего «сверхъестественные элементы народной традиции с элементами современного, личного нарративного сознания. Это, разумеется, приводит к соединению двух несоединимых поэтик, что вызывает постоянную интерференцию систем <.> в которой не только идентичность людей и вещей, но и идентичность нарративной перспективы становится объектом изменений настолько же резких, насколько немотивированных»55. Тезис этот вполне подтверждается системным аналитическим подходом (см. глава 1), но требует дальнейшего развития -во-первых, как говорилось выше, сюжетологического, во-вторых, мифопоэтического и, далее, эстетического. Считающий Гоголя модернистом avant la lettre Фангер избегает весьма уместной в данном случае категории
51 Fanger D. Gogol and His Reader. P. 80.
52 Ibid., P. 79.
53 Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. Cambridge, Massachusetts; London, 1979.
54 Ibid. P. 86.
55 Ibid., P. 91. гротеска, использованной в моей историко-литературной интерпретации «Вечеров.».
Описано изменение повествовательной ситуации в «Миргороде»56. Однако сами отдельные повести охарактеризованы, на мой взгляд, неудовлетворительно. Не вызывают возражения отдельные тезисы - о том, что «новая цель - сложность»57, что в центре проблематики становится «ценность определенного образа жизни в духовной экономии случайного посетителя [нарратора - С.О.]»58. Но показательно, что по поводу «Тараса Бульбы» сказано лишь о «неудобствах, связанных с всезнающим повествователем»59. Очевидно между тем, что центр тяжести нарратологической проблематики лежит здесь в соотношении романного и эпопейного. А Фангер слишком легковесно относится к жанру -«Старосветские помещики» однозначно охарактеризованы как идиллия, «Повесть о том.» - как нечто не имеющее отношения к сатире (взамен предлагается «чистый эстетический эффект»60), а «судьба Хомы Брута» свободно подвешивается между вызванными текстом системами значения61, хотя трудно не заметить ее укорененность по крайней мере в двух таких системах - плутовском и романтическом текстах (смешавшихся в барочный композит) - и отчетливую трагедийность этой судьбы. Следует отталкиваться при анализе «Миргорода» от поэтики жанра, и тогда сложность нарратива получит убедительное историко-литературное объяснение. Эту задачу ставит глава 2 моего диссертационного исследования.
Наиболее убедительными выглядят тезисы Д. Фангера о «петербургских повестях», поскольку там его ключевое положение («Замешательство <.> не ограничивается опытом гоголевских персонажей, а окрашивает читательский опыт гоголевского протеического повествования»62) находит наилучшие иллюстрации. «Петербургские повести» действительно чрезвычайно уместно описывать с точки зрения той
56 Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. Cambridge, Massachusetts. P. 95.
57 Ibid., P. 95.
58 Ibid., P. 96.
59 Ibid., P. 99.
60 Ibid., P. 107.
81 Ibid., 102.
62 Ibid., P. 92. герменевтической проблемы, которую они ставят перед читателем. И здесь действительно логично взять за отправную точку характеристику стратегии текста как «изначального дразнящего намека»63. Но и тут возможны уточнения и дополнения. Можно подробно проанализировать соотношение истории и наррации в «Невском проспекте» и «Шинели». «Нарративную полифонию» «Портрета»64 можно рассмотреть в ее генезисе из «монофонии» первой редакции. Голос «одинокой объективированной души»65 Поприщина можно рассмотреть в его характерной и принципиальной двуплановости. Трудно что-нибудь добавить к характеристике герменевтической ситуации повести «Нос»: «Большинство этих интерпретаций правдоподобны <.> но каждая неубедительна, поскольку слишком многое в тексте ускользает от них. Гоголь создал головоломку, к которой могут подойти многие ключи, но ни один ее не открывает»66. Но можно описать связанный с онтологией субъекта текста нарративный прием, который эту ситуацию конституирует. Словом, целью в данном случае (см. глава 3) будет - компенсировать тезисность Фангера и, где это необходимо, уточнить его положения.
Из наблюдений над «Мертвыми душами» наибольший интерес представляет замечание о синтезирующей установке романа67. В заключении, намечая перспективы дальнейшей работы, я буду говорить об этом.
Если же характеризовать книгу Фангера в целом, то это типичная работа конца 70-х. Не случайны в ней слова о «чистом удовольствии повествования»68 и «удовольствии от текста»69. И если к ней необходимы коррективы, то это будут коррективы историко-литературной методологии к известным традициям западной критики.
63 Фангер Д. В чем же, наконец, существо «Шинели» и в чем ее особенность И Н.В. Гоголь: материалы и исследования. М., 1995. С. 58 (эта статья является русским переводом раздела о «Шинели» из книги «Творение Гоголя»).
64 Fanger D. The Creation of Nicolai Gogol. P. 114.
65 Ibid., P. 116.
66 Ibid., P. 120.
67 Ibid., P. 182.
68 Ibid., P. 92.
69 Ibid., P. 262.
Еще более необходимы такие коррективы к книге К. Попкин «Прагматика незначительности: Чехов, Зощенко, Гоголь»70. Раздел этой интересной работы, посвященный Гоголю, занят исключительно нарративом, но из всех принципов нарратива Гоголя Попкин выбрала один: избыточность, словесную плодовитость гоголевского письма, или, если более подробно, «способность расширяться» («описания», «сообщения», «спецификация», «повторы» и пр.) и «случайность» («отсутствие последовательности», «отсутствие релевантности»). Дав почти полный список интерпретаций гоголевской «полноты», ученый характеризует эту полноту как «болтовню»71. Рудый Панько и Поприщин являются, согласно автору, не «источником» гоголевского дискурса, а его «инскрипцией»72. Мотивы гоголевских сюжетов оказываются тематизацией дискурсивных практик. Прагматический аспект описываемого нарратива состоит в активности читателя, не прекращающего чтение несмотря на то, что текст обманывает его «желание». Этот комбинированный лакановско-дерридеанский подход приходит к предписанной исследовательскими предпосылками интерпретации: читатель движим «напрасным поиском субстанции в мире размножающегося текста»73. Как признает сам ученый, его исследование - «это читательская стратегия, а не описание композиции гоголевских произведений»74. В этом и состоит его единственный недостаток (как философская эссеистика это вполне приемлемо). Неудивительно, что даже единственное бесспорное наблюдение К. Попкин - «нашему доступу к истории препятствует именно медиум, который должен представлять ее»75 - относится (на мой взгляд) лишь к ограниченной группе текстов. Анализ (см. глава 3) должен показать, в отношении к каким текстам это утверждение верно. Эта критика также нуждается в историко-литературной компенсации.
70 Popkin С. The Pragmatics of Insignificance: Chekhov, Zoshchenko, Gogol. Stanford,
1993.
71 Ibid., P. 129.
72 Ibid., P. 170.
73 Ibid., P. 203.
74 Ibid., P. 208.
75 Ibid., P. 14.
На этом фоне классическим образцом выглядит описание гоголевского повествования Ю.В. Манном в его «Поэтике Гоголя»76. Прежде всего, рассматриваемый прием - «алогизм в речи повествователя»77 - рассмотрен вместе с системно связанными с ним приемами: его двойником - «странное и неожиданное в суждениях персонажей» - и целым рядом других, объединенных в две группы: странно-необычное в плане изображения и в плане изображаемого. Отмечено сочетание этих форм с психологически мотивированным, «правильным» ходом действия. Во-вторых, эта система приемов помещена в контекст эволюции гоголевской поэтики - эти «странности» органически вырастают из «завуалированной фантастики» предшествующих произведений. В третьих, эволюция эта рассмотрена в контексте литературной эволюции эпохи: «на границе 20-30-х годов прошлого века вопрос о фантастике приобрел в европейской литературе методологическую остроту»78. В результате не только выяснена функция приема (создание, в системе с противоположным приемом, неоднозначной, неопределенной онтологии художественного мира), но и место его в координатах исторической поэтики79.
Одна из возможных интерпретаций «аномальной» онтологии, связь хаоса и алогизма с демонической силой80 (у Гоголя есть тексты, где хаос логичнее связать с карнавальностью81), принята В.М. Марковичем в его монографии «Петербургские повести Н.В. Гоголя»82. Большая часть этой книги посвящена принципам нарратива в «петербургских повестях». Отметив один из принципов - гетерогенность субъекта повествования - автор выстроил целостную концепцию синтактики и семантики нарратива «петербургских повестей». Поскольку в главе 3 анализ будет поэтапно сопоставляться с тезисами В.М. Марковича, изложение этой концепции отнесено в указанную главу. Здесь хотелось бы лишь сказать, что, как и в
76 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
77 Там же, С. 99.
78 Там же, С. 118.
79 Наблюдения Ю.В. Манна над нарративом «Мертвых душ» здесь не описываются. Они будут учтены в заключении непосредственно при рассмотрении этой периферийной для данной работы темы.
80 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. С. 76.
81 Там же, С. 9-38.
82 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. П., 1989. случае книги Д. Фангера, мой анализ будет носить дополнительный и уточняющий характер. Он должен показать, что такие уточнения и дополнения возможны. Одним из дополнений станет итоговая постановка вопроса об интерпретации «хаотического» нарратива, которая решила бы
83 парадокс гоголевской художественной апокалиптики , сочетавшейся у автора «Арабесок» с чувством исторического процесса в духе послегердеровского историзма84.
Проделанный обзор показывает то существенно важное, что описано наукой как принципиальные моменты гоголевского нарратива35. Эти достижения являются отправной точкой и необходимым фоном понимания моего диссертационного исследования.
Обзор также показал, какие лакуны существуют в нарратологии Гоголя. Нет адекватного современной теории повествования системного описания нарратива «Вечеров.». Отсутствует описание нарратива цикла «Миргород», которое бы учитывало ключевой вопрос поэтики этих повестей - поэтику жанра. Сюжет Гоголя описан таким образом, что из рассмотрения выпали события сюжетного текста, организуемые динамикой на уровне наррации и ее презентации. Работы, оперирующие понятием «читатель», практически не ставят вопроса о репертуаре текста и связанных с ним стратегиях. Не осуществлена возможная и даже необходимая для гоголевской поэтики мифопоэтическая и связанная с ней историко-литературная интерпретация динамичности нарративной перспективы. Сама динамичная нарративная маска повестей Гоголя подчас уходит из поля внимания исследователей. Даже наиболее удачно описанный нарратив «петербургских повестей» все
83 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. С. 138.
84 «Гоголь считает "дьявольским наваждением" не земное начало (в том числе и языческое, чувственное в нем), но как раз его разрушение» (Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. С. 75).
85 Из новейших работ следует указать статьи С .А. Шульца: 1) Миф о художнике в контексте нарративной двуплановости повести «Вий» // Гоголезнавч) студи. Гоголеведческие студии. Нежин, 2004, №5; 2) Записки сумасшедшего Н.В. Гоголя: топика и нарратив // Slavica Tergestina /10. Trieste, 2002. Но это скорее многообещающие заявки на дальнейшую большую работу. Не рассмотрены в обзоре также книги: Driessen F.C. Gogol as a short-story writer. A study of his technique of composition. The Hague, Mouton, 1965; Кривонос В.Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы. Проблемы повествования. Воронеж, 1985. Эти работы учитываются в ходе исследования. еще требует к себе внимания - отчасти из-за пренебрежения ориентированных на формальную школу ученых уровнем истории, отчасти из-за неполноты контекста описания, то есть невнимания к репертуару текста, отчасти же потому, что контекст актуального гоголеведения ставит вопросы, на которые может ответить лишь повторное обращение к анализу.
Актуальность исследования, таким образом, обусловлена прежде всего отсутствием монографического описания принципов нарратива в повестях Гоголя. Это значит, что композиция повестей еще далеко не изучена. Далее, такое описание даст возможность семантической и прагматической интерпретации повествовательной ситуации. Эта возможность будет содействовать решению спорных вопросов в герменевтике произведений Гоголя.
Цель диссертации - описать функции конститутивного принципа гоголевского нарратива - неоднородности повествования - в системном соотношении с другими его принципами и в историко-литературном контексте.
Основные исследовательские задачи:
1. Системно описать динамику «книжное»/«сказовое» в цикле «Вечера.» в соотношении с другими динамическими формами уровня наррации и ее презентации и предложить ее сюжетологическую и эстетическую интерпретацию.
2. Описать динамику нарратива повестей цикла «Миргород» в связи с сущностными для цикла проблемами поэтики жанра.
3. Описать взаимодействие наррации и истории в текстах «петербургских повестей», имея в виду герменевтическую ситуацию, которую создает это взаимодействие.
4. Исследовать нарратив, постоянно применяя категорию «имплицитный читатель» в аспекте репертуара текста и текстовых стратегий.
Материал исследования - циклы повестей Гоголя. Группировка материала по циклам выбрана в силу принципиальной важности принципа циклизации для гоголевской поэтики и выявленной общности принципов нарратива для каждого цикла. Вне рассмотрения остаются повести, не входящие в циклы, поэма «Мертвые души», принципы повествования в которой требуют, в силу синтетической поэтики, отдельного рассмотрения, и неповествовательные произведения Гоголя. При необходимости к анализу привлекаются ранние редакции, современные повестям статьи и переписка Гоголя.
Методология. В основе исследования лежит современная теория повествования, разрабатывавшаяся В.В. Виноградовым, М.М. Бахтиным, Ю.М. Лотманом, Б.А. Успенским, Е.В. Падучевой, Ж. Женеттом, В. Шмидом и другими учеными. В соответствии с ней повествовательная ситуация рассматривается с точки зрения ее семантической и прагматической функций. Основным категориальным аппаратом становится система понятий «точка зрения, событие, история, наррация, презентация наррации». При этом художественная повествовательная проза рассматривается как эстетический феномен, что предполагает учет категорий исторической поэтики А.Н. Веселовского и обращение к современным вариантам историко-литературной методологии (Ю.В. Манн, А.В. Михайлов).
В то же время используются некоторые достижения рецептивной эстетики (В. Изер) и герменевтики (Г. - Г. Гадамер).
Научная новизна исследования. Впервые осуществлено монографическое описание нарратива повестей Гоголя, исходящее из одной его многофункциональной характеристики - неоднородности повествования.
Исследованный в ходе работы историко-литературный контекст показал, что эта черта весьма специфична: нормой для повествования 18201830-х гг. является его гомогенность. Можно предположить, что использованная оппозиция «гетерогенность/гомогенность повествования» не только релевантна, но и обладает большой эвристической ценностью, что делает возможным дальнейшие исследования русской прозы в этом направлении.
Привлеченный к описанию нарратива Гоголя контекст русской прозы 1820-1830-х гг., как правило, или не был ранее указан, или не была проинтерпретирована семантическая ценность сопоставления с этим контекстом, что делает возможным использование отдельных наблюдений в комментаторской практике.
По ходу изложения обнаруженный материал интерпретировался таким образом, что интерпретация, как правило, оказывалась в каком-либо принципиальном отношении новой для гоголеведения.
Необходимые выводы из проделанной работы будут изложены в Заключении.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Повести Гоголя. Принципы нарратива"
7. Выводы
Проведенное дополнительное исследование подтвердило тезис В.М. Марковича о гетерогенности нарратива в «петербургских повестях» Гоголя. В разных случаях эта общая закономерность проявилась по-разному. В «Невском проспекте» сыграла роль антиномичность оценочной позиции повествователя, что привело к дисгармонизации событийного ряда истории. Деконструкция истории осуществляется и в «Носе», но здесь главную роль играет противоречие в конструировании компетенции повествователя и финальная утрата субъекта текста. Во второй редакции «Портрета» неоднородность нарратива вылилась в «романную» полидискурсивность, вплотную подводящую - нас к полидискурсивности гоголевского романа «Мертвые души». «Записки сумасшедшего» представили гетерогенность диегетического повествователя как его характерологическую двуплановость. Драматизация этой двуплановости и организовала сюжет «истории души».
32 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Г оголя. С. 138.
Наконец, в «Шинели» неопределенность синтагматики вступила в острое противоречие с парадигматическим измерением текста. Попытки реконструировать историю (в ее горизонтальном или вертикальном измерении) конфликтуют с осуществляемой в акте наррации деконструкцией, осуществляемой также не в последнюю очередь благодаря разноплановой гетерогенности субъекта повествования.
Таким образом, основной принцип гоголевского нарратива сохранил силу и в этом цикле. Но, соразмерно с новым художественным заданием, снова изменилась его функция. Теперь она состоит в предельной динамизации смыслового итога, вплоть до того, что герменевтические процедуры должны покинуть круг толкования и, находя в тексте лишь «намеки», работать далее с ними как с отправными точками для умозрения.
Это движение деконструкции, на мой взгляд, входило в авторское задание. Не потребовалось никаких специальных читательских практик, чтобы выявить его, анализ все время оставался в пределах традиционной историко-литературной методологии. Поэтому мне представляется органичным такое чтение «петербургских повестей», которое вскрывает в них измерение, свободное' от «метафизики присутствия»34. «Метафизика присутствия», и в этом Деррида абсолютно, на мой взгляд, прав, вступает в конфликт, оказывает давление на историю - имеем ли мы в виду историю человечества или историю повествователя.
Поэтому логичным представляется переход от анализа деконструкции текста к анализу деконструкции истории (в значении исторического процесса). «В метафизике присутствия <.> мы верим просто-напросто в абсолютное знание как- закрытие, если не конец истории»35. Это привело к пересмотру темы гоголевской апокалиптики. В последнее время часто пишут о барочности поэтики Гоголя, подчеркивая, что в этой системе борются идеалы средневековья с ренессансными представлениями36. Хочется специально подчеркнуть весомость этих «ренессансных» представлений.
33 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. С. 150.
34 Деррида Ж. Голос и феномен (и другие работы по теории знака Гуссерля). СПб., 1999. С. 134.
35 Там же.
36 См., напр., диссертацию Ю.В. Архиповой «Художественное сознание Н.В. Гоголя и эстетика барокко» (УрГУ, 2005).
Конец мира, отсюда, ожидается не как неизбежный телос, а как риск мира, ло-ренессансному играющему в свободу воли. Нельзя забывать о гоголевском увлечении античностью, о его вкусе к полноте земного бытия. Кроме христианской, Гоголь развивал и другие утопии - социально-этическую утопию, утопию вечно развивающегося в истории духа народа, утопию государственного служения, эстетическую утопию в духе любомудров. Гоголю середины 1830-х было в высшей степени свойственно эстетическое видение исторического процесса. Я предполагаю, что это воплощалось и в нарративе, моделирующем нетелеологический и нескончаемый исторический процесс (в духе немецкого послегердеровского историзма).
Гоголевское «притяжение к земле», о котором так убедительно писал В. В. Гиппиус, имело следствием то, что видимый мир вовсе не был небытийным, а обладал «осязательно-неоспоримым самостоятельным бытием»37, откуда и гоголевское умение создать впечатление ничем не опосредованного факта, откуда и вся проблема «Гоголь и реализм». Для более адекватной интерпретации гоголевской апокалиптики пришлось ввести специальную метафору. В.М. Маркович писал: законы бытия сошли со своего места, по улицам расхаживают живые мертвецы, вся природа содрогнулась -и в результате один начальник стал несколько реже кричать на подчиненных38. Это и есть «конец света с неопределенными последствиями».
37 Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман 19 века (30-е - 50-е гг.). С. 33.
38 Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. С. 154.
Заключение
Проведенное исследование показало, насколько продуктивна для исследователя гоголевского нарратива предложенная В. В. Виноградовым концепция «оркестра голосов». Основой для анализа стала только одна характеристика нарратива в повестях Гоголя - неоднородность повествования. Но всякий раз при переходе от цикла к циклу, а в группе «петербургских повестей» - и от произведения к произведению, - поэтика художественного текста вынуждала рассматривать эту неоднородность в различных аспектах. Гоголевский нарратив смешивает различные стили, различные жанровые. языки, различные оценочные позиции, уровни компетенции повествователя, социальные и философские дискурсы, характерологические модели. Контраст сополагаемых повествовательных стихий столь ощутим, что практически всегда эта неоднородность воспринимается как гетерогенность субъекта повествования. Формулировка «оркестр голосов» удивительно точно отражает положение дел.
Иногда («Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий») какой-либо из дискурсов завершает эту полифонию, иногда (вторая редакция «Портрета», «Шинель»), напротив, повествовательная разноголосица подчиняется цели предельной динамизации смыслового итога. Как показало исследование, случайной эта разноголосица не бывает никогда. Она всегда функциональна и, что принципиально, ее функция достаточно строго определена в пределах цикла.
Первое приближение к материалу (анализ цикла «Вечера.») показало, что гетерогенность субъекта повествования является сущностным принципом поэтики цикла. Неоднородность повествования находится в системном отношении с неоднородностью персонажа. Благодаря этому становится возможным сделать органически связанными два сверхфабульных события, которые в отношении к структуре сюжета являются следствием динамики на уровне наррации и ее презентации, -событие «преображения» повествуемого мира и событие «преображения» персонажа. В точку развития сюжета, с которой открывается романтическое (с точки зрения литературной эволюции - новаторское) видение мира, повествователя приводит главный актант сюжета, персонаж. В событии «преображения» выявляются народно-поэтическая и мифоритуальная подосновы последнего. Само же новаторское видение мира является своего рода кульминацией осложненного развития системы фольклорных мотивов в сюжете повести, поэтика которой принципиально отлична даже от наиболее близких поэтик эпохи.
Принцип неоднородности повествования действует в органической взаимосвязи с принципом эквивалентности, которому подчинено отношение мотивов, отобранных в качестве повествуемых элементов. В данном случае действие принципа поэтики также имеет следствием сюжетную динамику, выраженную еще в двух внефабульных событиях - событии «вставного рассказа» и событии «второго сюжета». Ряд эквивалентных, но нетождественных элементов распределяется по уровням модальности, что создает текучую, сложную онтологию повествуемого мира, в котором одно легко переходит в другое. Такая онтология органична для мифопоэтической картины мира и именно такова структурная сцена, на которой развивается «чудесный» сюжет повестей «Вечеров.». Одним из событий этого сюжета является событие «преображения» персонажа. «Преображающийся» (гетерогенный) субъект повествования, будучи естественным субъектом мифопоэтического видения мира, также органичен для точки зрения на эту структурную сцену. При описании построенной по таким законам поэтики оказывается уместной эстетическая категория гротеска.
Поэтика «Миргорода» ставит перед исследователем другую проблему - проблему системного соотношения принципов нарратива и жанровой организации текста. В главе 1 было показано, как событийная организация текста вступает в конфликт с коммуникативной организацией былички -жанрового субстрата повести «Вечеров.». Оказалось, что трансформация жанровой модели имеет еще более принципиальное значение для поэтики повестей «Миргорода». Текст повести представляет собой переплетение различных жанровых дискурсов, находящихся между собой в остром конфликтном отношении. «Неистовый» дискурс в «Старосветских помещиках», казалось бы, не должен оставлять места для противопоказанного «неистовой словесности» жанра идиллии. Тем не менее идиллический мир является отправной точкой развития сюжета этой повести. В «Тарасе Бульбе» дискурс эпопеи конфликтует с романическим дискурсом. Тотальность нации и тотальность индивидуума взаимно стремятся вытеснить друг друга - конфликт, казалось бы, также неразрешимый.
Личность, структура которой исключает трагическое в классическом смысле, в повести «Вий» поставлена в трагическое положение. В результате в трагическом конфликте действует герой, которого можно назвать разорванным, хаотичным, но не трагическим. Наконец, сатира повести о двух Иванах повествуется с позиции, отчужденной от идеала. Романтическая категория отчуждения делает эту сатиру парадоксальным образованием, утратившим этическое оправдание воплощенного в повести видения мира.
При этом очевидно, что в основе этих трансформаций лежит все тот же прием сдвига нарративной маски. Следовательно, прием сдвига нарративной маски и здесь конститутивная черта гоголевской поэтики. Однако очевидно, что в «Миргороде» он меняет функцию. Здесь его задача -разрушение поэтического канона, преобразование жанровой парадигматики в парадоксальную синтагматику. Гротесковость в смысле соединения несоединимого сохраняется, но теперь эта гротесковость становится частным приемом на службе у нового эстетического задания - задания построения реалистической картины мира. Принцип нарратива в «Миргороде» - это реалистический «принцип неисправляемых противоречий».
Однако в данном случае мы имеем право говорить лишь о «шаге» в сторону реализма, поскольку на известном уровне эти «неисправляемые противоречия» снимаются. Язык элегии в «Старосветских помещиках», язык баллады в «Вие», лирическая проза «Тараса Бульбы» создают вектор, определяющий тенденцию развития смысла. Романтическая грусть об безвозвратно ушедшем, фольклористический «отлет от житейской реальности», глубоко личный лирический пафос - уровни синтеза расходящихся смысловых и образных пучков. Постановка вопроса о реалистическом методе возможна лишь для тех повестей, где этот синтез отвечает принципу отражения потенций, заключенных в недискурсивной действительности. Вероятно,' можно говорить о реализме повести о двух Иванах и второй редакции «Тараса Бульбы», в том же смысле, в каком мы говорим о реализме «Мертвых душ».
Тот же «принцип неисправляемых противоречий», как показал анализ, действует во 2 редакции «Портрета». Романная полидискурсивность, в системе с другими принципами организации текста, способствует предельной динамизации смыслового итога. И именно эта динамизация есть функция сдвига нарративной маски в группе «петербургских повестей». В разных случаях эта общая закономерность проявилась по-разному. Смысл истории «Невского проспекта» становится неразрешимой герменевтической проблемой благодаря антиномичности оценочной позиции повествователя. Деконструкция истории осуществляется и в «Носе», но здесь главную роль играет противоречие в конструировании компетенции повествователя и финальная утрата субъекта текста. В «Записках сумасшедшего» гоголевская гетерогенность повествователя (в данном случае важно, что повествователь этот - диегетический) оформилась в его принципиальную характерологическую двуплановость. Сюжет «истории души», созданный драматизацией этой двуплановости, и является подлинным сюжетом «Записок сумасшедшего». Наконец, в «Шинели» неопределенность синтагматики вступила в острое противоречие с парадигматическим измерением текста. Попытки реконструировать историю (в ее горизонтальном или вертикальном измерении) конфликтуют с осуществляемой в акте наррации деконструкцией, осуществляемой также не в последнюю очередь благодаря разноплановой гетерогенности субъекта повествования. Деконструкция в случае «петербургских повестей» - не известная «читательская стратегия». Анализ все время остается в пределах традиционной историко-литературной методологии. Поэтому допустимо, на мой взгляд, говорить о том, что это движение деконструкции входило в само авторское задание. У «петербургских повестей» есть свободное от «метафизики присутствия» измерение, и это измерение существенно как для герменевтической ситуации (вопрос о смысловом итоге повести), так и для способа моделирования исторического процесса в акте наррации. Гоголю середины 1830-х было в высшей степени свойственно эстетическое видение исторического процесса. Я предполагаю, что это воплощалось и в нарративе, моделирующем нетелеологический и нескончаемый исторический процесс (в духе немецкого послегердеровского историзма).
С другой стороны, нельзя отрицать, что у такого разорванного и хаотического нарратива есть и другой смысловой план. Историческая современность ставила перед художественным сознанием Гоголя вопросы, на которые он, подобно другим большим писателям эпохи (например, подобно В.Ф. Одоевскому), отвечал картиной раздробленности и бессобытийности. Эта эстетика сказалась уже в повести о Шпоньке, где событийная организации повествования, выстроенного по закону серийности, соответствовала противопоставлению исторического прошлого настоящему, мотиву «мертвой буквы» и принципу разрывов в повествуемом мире. Хаос петербургских повестей о чиновниках («Нос», «Шинель», «Записки сумасшедшего») безусловно противопоставлялся писателем праисторическому космосу. Другое дело, что этот «натиск бесчисленных и разнохарактерных явлений» «низкой и презренной жизни» должен был обеспечить - вполне в соответствиями с антиномиями романтизма и в то же время, совершенно по-новому, в соответствиями с законами нарождающегося реализма - рождение «высокого и прекрасного». И здесь следовало бы перейти к разговору о гоголевской поэме.
Вполне возможно дополнительное к имеющимся описание нарратива «Мертвых душ», исходящее из той же базовой оппозиции «гетерогенное/гомогенное повествование». Круг явлений, подлежащих описанию, можно наметить уже здесь, в соответствии с пройденными в ходе исследования этапами: событие «преображения» повествуемого мира, трансформация жанровой модели, романная полидискурсивность. Для исследователя/ во-первых, будет интересен генезис нарратива «Мертвых душ», синтезирующего повествовательные приемы более ранних текстов. Так, преобразование ^плутовского и просветительского романа в «поэму» влечет за собой принципы смыслообразования, отчасти уже знакомые по реалистическим тенденциям цикла «Миргород». Во-вторых, большой интерес представляет онтология повествуемого мира, в котором разные бытийные формы глубоко проникают друг в друга. Мир этот, по ходу развертывания наррации, «преображается» благодаря ее «сдвигам» (развернутые сравнения, лирические медитации, вообще изменения композиционной организации текста). В нем прослеживаются разнообразные «движения, одухотворяющие телесное и вещественное начала»1. Описание этих явлений могло бы стать темой самостоятельной работы. При этом романная полидискурсивность может быть рассмотрена как один из факторов,
1 Маркович В.М. «Задоры», Русь-тройка и «новое религиозное сознание». Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-ом томе Мертвых душ II Wiener Slawistischer Almanach. 2004, Bd. 54. S. 101. удерживающих «мистическую утопию» в «собственно артистических» границах2.
Поскольку впервые осуществлено монографическое описание нарратива повестей Гоголя, исходящее из одной его многофункциональной характеристики - неоднородности повествования, то был впервые системно поставлен вопрос о некоторых свойствах контекста. Исследованный в ходе работы историко-литературный контекст показал, что эта черта весьма специфична - нормой для повествования 1820-1830-х гг. является его гомогенность. Можно предположить, что использованная оппозиция «гетерогенность/гомогенность повествования» не только релевантна, но и обладает большой эвристической ценностью, что делает возможным дальнейшие исследования русской прозы в этом направлении.
Так, например, нарративная гомогенность прозы Бестужева и Полевого, очевидно, в каждом случае должна интепретироваться по-разному. В случае Бестужева эта гомогенность будет подчинена задаче выработки определенного речевого стиля, подчиняющего и речь повествователя, и речь персонажа. Доминантой будет установка на возвышенное, понятое в романтическом духе. В случае Полевого большее значение приобретает однородность мировоззренческого горизонта повествователя и персонажа. Определенный ценностный ряд предзадает событие самораскрытия исключительного человека. Разумеется, это только предварительные замечания.
Применительно к прозе Пушкина и Лермонтова подобное исследование может дать еще более интересные результаты. Проза Пушкина, производящая впечатление стилистической и характерологической однородности, на самом деле построена на очень тонкой игре с гетерогенностью повествования, которую ощущает только адекватный репертуару текста и внимательный к его композиции читатель. В романе «Герой нашего времени» гетерогенность повествования становится средством изображения психологической динамики в ее становлении. Здесь также возможно новое нарратологическое исследование.
Таковы вкратце итоги и перспективы проделанной работы.
2 Маркович В.М. «Задоры», Русь-тройка и «новое религиозное сознание». Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-ом томе Мертвых душ И Wiener Slawistischer Almanach. 2004, Bd. 54. S. 106.
Список научной литературыОвечкин, Сергей Васильевич, диссертация по теме "Русская литература"
1. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. М., 2003. Т. 1, Т. 4.
2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М.; Л., 1937-1952.
3. Аксаков К.С. Несколько слов о поэме Гоголя «Мертвые души» // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Литературная критика. М., 1982.
4. Анненкова Е. Письма Гоголя к о. Матвею и Белинскому: духовно-творческое самоопределение светского писателя в свете автобиографических сочинений Григория Богослова // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
5. Анненкова Е.И. «Размышления о Божественной Литургии» в контексте позднего творчества Н. Гоголя // Гоголевский сборник. СПб., 1994.
6. Анненкова Е.И. Н.В. Гоголь и С.П. Шевырев (Эстетическое и духовное. Проблема взаимодействия) // Гоголевский сборник. СПб., 1993.
7. Анненкова Е.И. Католицизм в системе воззрений Н.В. Гоголя // Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.
8. Анненкова Е.И. Споры о «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя// Гоголевский сборник. СПб., Самара, 2003.
9. Анненский И. О формах фантастического у Гоголя // Анненский И. Книги отражений. М., 1979.
10. Анненский И. Проблема гоголевского юмора (Нос, Портрет) // Анненский И. Книги отражений. М., 1979.
11. Анненский И. Художественный идеализм Гоголя // Анненский И. Книги отражений. М., 1979.
12. Архипова Ю.В. Художественное сознание Н.В. Гоголя и эстетика барокко. Дисс. . канд. филол. наук. УрГУ, 2005
13. Бакши Н. Герой-«чудак» у Гоголя и Грильпальцера // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
14. Балакшина Ю.В. Осмысление типа романтика в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» и романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история» (сопоставительный анализ) // Творчество Н.В. Гоголя: истоки, поэтика, контекст. Межвуз. сб. СПб., 1997.
15. Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков М., 1995.
16. Бахтин М. «Человек у зеркала» // Бахтин М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000.
17. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
18. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского. Киев, 1994.
19. Бахтин М.М. Рабле и Гоголь // Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
20. Белинский В.Г. «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Издание второе// Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
21. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 г. // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
22. Белинский В.Г. Литературные и журнальные заметки // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
23. Белинский В.Г. Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке //Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
24. Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души // Белинский В. Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
25. Белинский В. Г. О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.1. М., 1953.
26. Белинский В.Г. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
27. Белинский В.Г. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949
28. Белинский В.Г. Русская литература в 41 г. // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
29. Белинский В.Г. Русская литература в 42 и 43 гг. // Белинский В.Г. о Гоголе: статьи, рецензии, письма. М., 1949.
30. Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996.
31. Бельтраме Ф. К вопросу о парадоксальности Богоискания в повести Н.В. Гоголя «Нос» // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
32. Бельтраме Ф. Эстетика гротеска: к проблеме теоретического обоснования II Гротеск в литературе: Материалы конференции к 75-летию профессора Ю.В. Манна. М., Тверь, 2004.
33. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001.
34. Бибихин В.В., Гальцева Р.А., Роднянская И.Б. Литературная мысль Запада перед «загадкой Гоголя» // Гоголь: история и современность. М., 1985.
35. Бицилли П. Проблема человека у Гоголя // Годишник на Софийский ун-т. Ист,- филол. фак-т. 1947-48. Т.44, кн. 4.
36. Богданова О.А. Имена собственные в повести Н.В. Гоголя «Шинель» // Русская словесность. М., 1994, №3.
37. Большакова А. Усадебные локусы в «Мертвых душах»: к проблеме структурной организации произведения // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
38. Борисов О.С. Пролегомены к метафизике Гоголя (стихия и план Петербурга) // Метафизические исследования. СПб., 1997. Вып. 4.
39. Бочаров С. «Красавица мира». Женская красота у Гоголя // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
40. Бочаров С.Г. Вокруг «Носа» // Вопр. литературы. М., 1993. Вып. 4.
41. Бочаров С.Г. Загадка «Носа» и тайна лица // Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985.
42. Бочаров С.Г. О стиле Гоголя // Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976.
43. Бочаров С.Г. Холод, стыд и свобода: История литературы sub specie Священной истории // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 2000.
44. Бройтман С.Н. Гротескное начало в книге Б. Пастернака «Сестра моя -жизнь» // Гротеск в литературе: Материалы конференции к 75-летию профессора Ю.В. Манна. М., Тверь, 2004.
45. Брюсов В. Испепеленный. М.,1909.
46. Бухаркин П.Е. Об одной евангельской параллели к «Шинели» Н.В. Гоголя: к проблеме внетекстовых факторов смыслообразования в повествовательной прозе // Концепция и смысл. Сб. ст. СПб., 1996.
47. Бухштаб Б. Первые романы Вельтмана // Русская проза. Сб. ст. Л., 1926.
48. Вайскопф М. Материал и покрой гоголевской «Шинели» II Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
49. Вайскопф М. Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.
50. Вайскопф Михаил. Время и вечность в поэтике Гоголя II Гоголевский сборник. СПб., 1994.
51. Вайскопф Михаил. Гоголь как масонский писатель II Гоголевский сборник. СПб., 1993.
52. Вайскопф Михаил. Птица тройка и колесница души: Платон и Гоголь II Гоголь: Материалы и исследования. М., 1995.
53. Васильев С.Ф. Гоголь: логика трансцендентного II Гоголевский сборник. СПб., 1993.
54. Вацуро В.Э., Мейлах Б.С. От бытописания к «поэзии действительности» II Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973.
55. Ветловская В.Е. Повесть Гоголя «Шинель»: трансформация пушкинских мотивов II Русская литература. Л., 1983, №4.
56. Виноградов В.В. Гоголь и натуральная школа II Виноградов В.В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
57. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971.
58. Виноградов В. В. О связи процессов развития литературного языка и стилей художественной литературы II Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959.
59. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. М. 1980.
60. Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике II Поэтика. I. Временник словесного отдела ГИИИ. Л., 1926.
61. Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма II Виноградов В.В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
62. Виноградов В.В. Этюды о стиле Гоголя II Виноградов В.В. Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
63. Виноградов В.В. Язык Гоголя II Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. Т.1, 2 под ред. В.В. Гиппиуса. М. ; Л., 1936.
64. Виролайнен М. Ранний Гоголь: катастрофичность сознания II Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
65. Виролайнен М.Н. «Миргород» Н.В. Гоголя. Автореф. дисс. .канд. филол. наук. Л., 1980.
66. Виролайнен М.Н. Гоголевская мифология городов // Пушкин и другие. Сб. ст. Новгород, 1997.
67. Виролайнен М.Н. К вопросу об эстетике Гоголя (1830 1836) // Studia Slavica Hungarica. 23. Budapest, 1977.
68. Виролайнен М.Н. Мир и стиль («Старосветские помещики» Гоголя) // Вопр. литературы. М., 1979, №4.
69. Воропаев В.А. Гоголь как духовный писатель // Гоголевский сборник. СПб., Самара, 2003.
70. Гиппиус В. Узкий путь. Кн. В.Ф. Одоевский и романтизм // Русская мысль. М., Петроград, 1914. Книга XII.
71. Гиппиус В.В. Гоголь // Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н.В. Гоголь. СПб., 1994.
72. Гиппиус В.В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
73. Гольденберг А. Проблема архетипов в антропологии Гоголя // Гоголь как явление мировой литературы. Сб. ст. М., 2003.
74. Гольденберг А.Х. «Вечный» сюжет у Гоголя и кризисные модели русской литературы // Гоголевский сборник. СПб., Самара, 2003.
75. Гольденберг А.Х. Поэзия обрядовых праздников во 2 т. «Мертвых душ» //Литература и фольклор. Волгоград, 1990.
76. Гольденберг А.Х. Фольклорный гротеск в поэтике Гоголя // Гротеск в литературе: Материалы конференции к 75-летию профессора Ю.В. Манна. М., Тверь, 2004.
77. Гольденберг А.Х., Гончаров С.А. Легендарно мифологическая традиция в «Мертвых душах» // Русская литература и культура нового времени. СПб, 1994.
78. Гончаров С.А. Сон-душа, любовь-семья, мужское-женское в раннем творчестве Гоголя // Гоголевский сборник. СПб., 1993.
79. Гончаров С.А. Тайна «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки» // Гоголевский сборник. СПб., 1994.
80. Гончаров С.А., Гольденберг А.Х. Павел Чичиков: судьба героя в легендарно-мифологической перспективе // Имя сюжет - миф: Межвуз. сборник. СПб., 1996.
81. Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997.
82. Гофман В. Фольклорный сказ Даля // Русская проза. Сб. ст. Л., 1926.83.