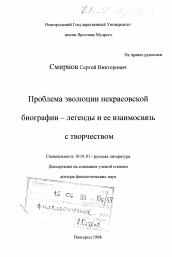автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Проблема эволюции некрасовской биографии - легенды и ее взаимосвязь с творчеством
Текст диссертации на тему "Проблема эволюции некрасовской биографии - легенды и ее взаимосвязь с творчеством"
•"У /
^.....л --:>>■ '
/
Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого
На правах рукописи
Смирнов Сергей Викторович
Проблема эволюции некрасовской биографии - легенды и ее взаимосвязь
с творчеством
Специальность 10.01.01русская литература Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук
\1 -.....- 4 и^Оа с г? ■ч-'""
Новгород 1998
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................................................3
Глава I. Устные автопризнания Некрасова....................................24
Глава И. Поэтическая автобиография Некрасова............................133
Глава III. Материалы к комментарию
автобиографических заметок Некрасова......................................267
Заключение..........................................................................333
Библиография.......................................................................361
ВВЕДЕНИЕ
Великий русский поэт H.A. Некрасов с юношеских лет до последних дней был занят литературным "трудом. Он, пожалуй, единственный из больших русских писателей, который нигде ни одного дня не служил и даже не числился на какой-либо должности, нет у него никакого формулярного списка. Некрасов писал стихи, водевили, рассказы, романы, поэмы, издавал сборники, редактировал и издавал с 1847г. по 1866г. «Современник», а с 1868г. - «Отечественные записки». Казалось бы, столь разнообразные и объемные труды предполагают в основном кабинетный образ жизни, и отсюда возникает вопрос: какая же может быть у кабинетного человека биография? -Написал тогда-то, напечатал там-то, отразил, возможно, вот это... Однако биография Некрасова всегда была предметом пристального внимания и при его жизни, и после смерти. Он предстает поэтом, который, собственно, «без биографии» и не мыслим, его творчество как бы и предполагает поступки, действия, участие в самых разнообразных событиях.
Проблема взаимосвязи жизни и творчества Некрасова была всегда актуальной. Ей посвящены широко известные труды таких видных ученых, как
В.Е. Евгеньева-Максимова, К.И. Чуковского, Н.С. Ашукина, В.В. Жданова,
A.B. Попова, А.Ф. Тарасова, А.И. Груздева, A.M. Гаркави, М.М. Гина, Б.О. Кормана. Б.Я. Бухштаба, JI.A. Розановой, H.H. Скатова, Ю.В. Лебедева1 и др. Исследования названных авторов, а также исследования других ученых были учтены в данной работе, которая, однако, не мыслится как продолжение их, а преследует несколько иную цель. Появившиеся в последнее время исследования В.Э. Вацуро, Б.Л.Бессонова, Б.В. Мельгунова не только продолжили изучение этой проблемы, но и заострили внимание еще на одной: художественного «домысливания» Некрасовым особенностей своей биографии в автобиографических признаниях и заметках. Одной из сторон этой проблемы является и вопрос о возможности использования художественного произведения как источника биографических сведений.
Противоречие между устными автопризнаниями поэта (по поводу первой поры пребывания в Петербурге) и эпистолярными источниками выявил
B.Э. Вацуро2 . Такого рода «несоответствия» отмечал еще раньше В.Е. Ев-геньев-Максимов - но по незначительным поводам. Детальное и последовательное исследование Б.Л. Бессонова одного из эпизодов опять-таки связанного с ранним петербургским периодом привело ученого к выводу, что автобиографические признания Некрасова своеобразно идеологизируются: «Творческое начало, обнаруживающееся в перестановке и в замещении биографических эпизодов, в гиперболе, вырастающей из потребностей претворе-
ния нейтрального в «говорящее», тусклого в выразительное, последовательно организует повествование, жанровая форма которого поддерживает при этом иллюзию жизненной достоверности»3. Книги Б.В. Мельгунова4 (а ранее -статьи) сообщают многочисленные, ранее неизвестные сведения о 1830-1840-х годах жизни писателя, связанных с Ярославлем - о людях, о местной литературной жизни, о местном театре и проч. - о чем поэт почему-то нигде ничего не сказал.
Работы названных ученых позволяют выделить такое понятие как биография-легенда (биография, творимая самим писателем). Задачами исследования является рассмотрение генезиса биографии-легенды Некрасова на основе устных и письменных автопризнаний писателя и ее взаимосвязи с эволюцией образа поэта в некрасовской поэзии. Обозначенные задачи предполагают использование генетического, историко-сопоставительского и разыска-тельских методов.
Научная новизна работы определяется тем, что она является первым опытом специального и систематического историко-литературного изучения проблемы, вынесенной в заглавие. Исследование ставит своей целью выявить и рассмотреть максимально полный корпус устных автопризнаний поэта, особенности интерпретации биографических реалий в творчестве, соотнести автобиографические заметки писателя и документальные материалы, что позволит обозначить семантическое поле биографии-легенды, указать на основные
ее идейные центры, уровень взаимосвязи и взаимовлияний биографии-легенды и творчества.
Научно-практическое значение исследования состоит прежде всего в том, что полученные результаты дают основание для пересмотра методологических подходов к изучению взаимодействия творчества и биографии писателя, могут быть использованы при построении курса русской литературы Х!Х века, спецкурсов, в комментировании художественных текстов и автобиографических заметок Некрасова.
Попытки «утвердить на пьедестале» и «сбросить с пьедестала» сопровождают поэта до сего дня - попытки страстные и утилитарные одновременно, не останавливающиеся ни перед чем - ни перед сокрытием фактов, ни перед фальсификацией. А порою и откровенно безграмотные: не так давно один литератор приписал Некрасову даже призыв к топору. Т.е. изначально обращения к Некрасову представляли из себя во многом элементы декларации той или иной доктрины, а отсюда, благодаря утилитарному подходу, тиражировалось достаточно последовательно и массово всего лишь отношение к Некрасову, которое порою затемняло, порою искажало саму личность поэта и его творчество.
Представляется уместным такой характерный, на наш взгляд, пример: В 1902 г. интеллигенция вспомнила, что исполняется 25 лет со дня смерти Некрасова - и был этот год отмечен целой серией материалов на некрасовскую
тематику. Но предварила эту серию небольшая статья под заголовком «Как нам увековечить память о Некрасове.» Само это заглавие должно, казалось бы, навести на мысль о создании либо библиотеки имени Некрасова, либо музея, посвященного ему, либо школы его имени, либо в конце концов установки памятника и т.п. Ничуть не бывало, статья эта была посвящена единственному вопросу: какие - темные или светлые силы - будут увековечивать память о поэте. Пропагандистские приемы при обращении к имени Некрасова принесли немало вреда. Конечно, о какой пользе может идти речь, если наследие поэта «подгонялось» к тому или иному идеологическому клише, которое и занимало ведущее положение, оставляя творениям поэта роль подчиненную. «Ключи от счастья женского», об утрате горюет некрасовская героиня, оказываются найденными героями стихотворения М. Исаковского «Рыбачки». Некрасовские мечты о будущем народа, о том, когда по Волге «суда-гиганты побегут», становятся лишь поводом указать: вот де мол - бегут... Такого рода утилитарные находки при своей массовости и частой повторяемости являются так или иначе некоторыми ориентирами и рамками и при изучении биографии поэта, которое привело к существованию, так сказать, общепринятого, устоявшегося взгляда на личность и жизнь Некрасова. Созданное таким образом житие поэта нередко вступает в противоречие с фактами его биографии, но это противоречие исследователей не случайно.
Оно следствие «исповедуемой» концепции - в борьбе «за» или «против» писателя биографический аспект был всегда одним из важных «полигонов».
Вообще проблема биографий и была, и вновь становится предметом самого пристального внимания. В XIX веке биография предстает не как последовательное изложение фактов, а как один из жанров декларации тех или иных идей, способов восприятия, демонстрирования отношений. По мнению некоторых литераторов 1850-х годов биография писателя и не должна быть переполнена фактами, то есть наличие большого количества фактов вовсе и не является достоинством, а, наоборот, как бы рассеивает внимание. Например, А.В.Дружинин, излагая биографию английского поэта Краббе, сетует: «Все биографии поэта Георга Краббе, большая часть заметок по поводу его жизни, грешат обилием фактов внешних и бедностью психологических исследований. [...] Не в анекдотах многотрудной молодости таится смысл жизни поэта, а в ясном по возможности знакомстве с его духовною натурою. [...] Этот-то нравственный мир мало разработан историками словесности, жизне-описателями нашего поэта. Напрасно перевертываем мы их страницы, допрашиваясь того, что для нас выше анекдота и мелкой подробности...»5. В таком взгляде уже намечена противопоставленность двух подходов к биографии: биография чувств и впечатлений ставиться несравненно выше биографии фактов и событий, а в конце концов и подменяет их. Именно такое восприятие биографии со временем становится определяющим, основным, хотя,
благодаря таким биографиям, мы узнаем больше о биографе, чем об объекте его трудов. Порою, как, например, у народовольцев, биография может быть инструментом политической борьбы. Н.В. Щербань в статье «Политический разврат: «народовольство» и «народовольцы» (Террористы). «Опыт анализа», исследуя типы биографий народовольцев, пишет: «...существуют, так сказать, патентованные снимки с натуры, изготовленные собственными нигилистическими фотографиями и которыми нигилисты вообще и террористы в частности сами себя изображают: ощущается потребность охорошиться перед обществом! Кроме того, философом «партии», г. П. Лавровым, преподано специальное наставление: «Нужны энергические, фанатические люди, рискующие всем..., легенда которых переросла бы далеко их истинное достоинство, их действительную заслугу. Им припишут энергию, которой у них не было, в их уста вложат мысль, чувство, до которых доработаются лишь их последователи... зато их легенда одушевит тысячи тою энергией, которая нужна для борьбы. Никогда не сказанные слова будут повторятся; мысль, никогда не одушевлявшая оригинал идеальной фигуры, воплотится в дело позднейших поколений как бы ее внушением. Число гибнущих тут не важно: легенда всегда их размножит до последней возможности./Вестник Народной Воли, 1У,44/»6. Безусловно, такого рода тенденции должны учитываться при рассмотрении вопроса о биографиях, а тем более о них надо помнить, говоря о биографии Некрасова, которого «брали на вооружение» самые различные
общественные направления и с самыми различными целями. Думается, такого рода использование биографии Некрасова и вызвало многие живущие до сего дня противоречивые его характеристики: поводом их служили не факты, а интерпретация отношений, которые в силу идейных и политических причин можно б было множить и длить до бесконечности.
Вместе с тем, надо помнить, что каждому большому писателю сопутствует биография-легенда, которая составляет с творчеством неразрывную связь, предстает как одна из граней творчества, которую надо различать как от искусственного сознательного построения (типа выше цитированной нигилистической рекомендации), так и от собственно реальной биографий. Известны случаи приписывания, например, Пушкину каламбуров и острот, автором которых он и не был, но логика легенды требует нового материала, новой пищи - и вот слухи и домыслы как бы «перерастают» в факты, то есть занимают их место. Характерно в этом отношении признание и самого Некрасова: «Я должен, по народному выражению, снять с души моей грех. В произведениях моей ранней молодости встречаются стихи, в которых я желчно и резко отзывался о моем отце. Это было несправедливо, вытекало из юношеского сознания, что отец мой крепостник, а я либеральный поэт. Но чем же другим мог быть тогда мой отец? - я побивал не крепостное право, а его лично, тогда как разница между нами была собственно во времени» (Н12,20)7. То есть «либеральный поэт» и не мог бы даже отнестись снисходительно, не
осуждая, к отцу-крепостнику, это было бы нарушением логики его развития, его эстетики, снижало бы его, тогда как вне понятия «либеральный поэт» «крепостничество» отца Некрасов понимает и объясняет.
Биография-легенда имеет большое влияние на исследователей, и весьма часто целью свей деятельности они как раз и ставят пополнение ее «новыми деталями». В качестве примера здесь уместнее всего привести записи воспоминаний крестьян о Некрасовых. Воспоминания эти стали записываться с 1902 года. По сути дела это воспоминания о воспоминаниях: за весьма редким исключением это рассказы о том, что «вспоминали старики» - уже это придает таким рассказам оттенок предания, некой легендарности. В этих воспоминаниях нет дат, они объединены одной хронологией - временем крепостного права, и именно тяготы крепостного права являются их основным содержанием. Можно сказать, что вообще какие-либо события, не связанные с крепостным правом (за исключением немногих относящихся к охоте) в этих воспоминаниях отсутствуют, за то все они содержат оценки по принципу «плохо-хорошо», «добрый-злой» и буквально идеальную полярность в оценках «мать-отец», «сын-отец». Некоторые эпизоды этих воспоминаний восходят к реальной биографии и биографии-легенде Некрасова. Например, A.A. Буткевич в своих воспоминаниях записала следующее: «За нашим садом непосредственно начинались крестьянские избы. Я помню, что это соседство было постоянным огорчением для нашей матери: толпа ребятишек, нарочно избиравшая
для своих игр место по ту сторону садового решетчатого забора, как магнит притягивала туда брата - никакие преследования не помогали. Впоследствии он проделал лазейку и при каждом удобном случае вылезал к ним в деревню, принимал участие в играх, которые нередко оканчивались общей дракой. Иногда высмотрев, когда отец уходил в мастерскую, где доморощенный столяр Баталин изготовлял незатейливую мебель, брат зазывал к себе своих приятелей. Беловолосые головы одна за другой пролезали в сад, рассыпались по аллеям и начинали безразличное опустошение: от цветов до зеленой смородины и проч.»8. Здесь проста и понятна мальчишеская ситуация, вполне понятно огорчение матери по поводу обыкновенной «общей драки» подростков, понятно недовольство отца, когда происходит разорение сада, однако через десятилетия этот эпизод приобрел совершенно иную интерпретацию. В.Е. Ев-геньев-Максимов записал в Грешневе такое предание: «Жил тут у нас в Грешневе один старичок древний, Эраст Максимович Торчин, годов пять, как помер. Любил он захаживать в «Раздолье», ну за стаканчиком чайку, бывало, разговорится, да про господ и почнет рассказывать.[...] «Сижу вот я в «Раздолье», да чаек попиваю, - говаривал Торчин, - и заботы мне никакой нету, а в старое время мимо усадьбы мы проходить-то не смели, неровен час увидит барин, да пошлет на конюшню.[...] А хуже всех барыне доставалось. Вот из чего у них ссора-то постоянная выходила: старший-то сын, Коля, значит, больно любил с крестьянскими ребятишками играть, отец не позволял, а
мать покрывала; чуть услышит, что муж с охоты возвращается, бежит в сад к Коле, чтобы не застал его барин врасплох. Наши-то ребятишки сейчас за забор, да в деревню, А Колю барыня в дом отведет. Ну, а в барской дворне наушники были, - сейчас же барину и доложат обо всем. Разъярится он и привяжет жену, в наказание, к липе, строго-настрого запретит давать ей пить, а сам опять уедет на охоту». Полянин на наш вопрос, не слыхал ли он о том, что A.C. бил свою жену, ответил: «Слыхал от родителей». Мы задали другой вопрос, не знает ли он чего о привязывании Елены Андреевны к липе; Полянин задумался на минуту, а затем, тяжело вздохнув, сказал: «Было, кажется и это...» Татьяна Широкова отрицала возможность подобных истязаний жены Алексеем Сергеевичем»9. Воспоминания о воспоминаниях Торчина отрицаются Татьяной Широковой: «Татьяна Широкова отрицала возможность подобных истязаний жены Ал. Сер-чем», однако исследователь уделяет внимание не этому свидетельству (одна строка), а домыслам, переходящим в «предания», которые варьируются и цитируются весьма обильно. В приведенном «предании» мотивы уже исчезают, а остаются состояния: A.C. Некрасов настолько свиреп, что уж другого от него и ждать нельзя - кто пройдет мимо усадьбы, того обязательно пошлют на конюшню, и охоту-то он прерывает только для того, чтобы наказать барыню, а сама Елена Андреевна настолько была озабочена необходимостью общения сына с крестьянским ребятишками, что не придавала значения последствиям мальчишеской драки (о
ней, кстати, ни слова), а, наоборот, сына «покрывала». То есть перед нами уже не