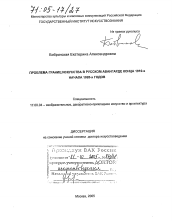автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Проблема границ искусства в русском авангарде конца 1910-х - начала 1920-х годов
Полный текст автореферата диссертации по теме "Проблема границ искусства в русском авангарде конца 1910-х - начала 1920-х годов"
На правах рукописи
Бобринская Екатерина Александровна
ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ИСКУССТВА В РУССКОМ АВАНГАРДЕ КОНЦА 1910-х -НАЧАЛА 1920-х ГОДОВ
Специальность 17.00.04 -изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения
Москва, 2005
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
Работа выполнена в Отделе изобразительного искусства и архитектуры Государственного института искусствознания
Официальные оппоненты
доктор искусствоведения, академик Российской академии наук Дмитрий Владимирович САРАБЬЯНОВ
доктор искусствоведения Александра Семеновна ШАТСКИХ
доктор искусствоведения Ирина Насоновна КАРАСИК
Ведущая организация
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Защита состоится
И
апреля 2005 в 15 часов на заседании Диссертационного совета Д 21000402 при Государственном институте искусствознания по адресу: 103009, Москва, Козицкий пер., 5.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного института искусствознания по адресу: 103009, Москва, Козицкий пер., 5.
Автореферат разослан марта 2005 года
Ученый секретарь Диссертационного совета, доктор искусствоведения Н.Е.ГРИГОРОВИЧ
Постановка проблемы
«...Искусство со стороны его высших возможностей есть и остается для нас чем-то отошедшим в прошлое. Вследствие этого оно также потеряло для нас характер подлинной истинности и жизненности, и оно теперь уже перестало отстаивать в мире действительности свою былую необходимость, не занимает в нем своего прежнего высокого положения»1. Это пессимистическое рассуждение Гегеля, относящееся еще к XIX столетию, вероятно, можно считать одним из первых симптомов приближения тех фундаментальных и стремительных изменений привычного облика искусства, которыми был отмечен ушедший XX век. «Умирание искусства» (В.Вейдле), «конец искусства» (А.Данто), исчезновение искусства «в трансэстетике банальности» (Ж.Бодрийяр), «делокализация предмета искусства» (П.Вирильо) стали постоянными темами при обсуждении основных проблем культуры XX века. Ни одно столетие в истории Нового времени не было отмечено такими радикальными трансформациями привычного для европейского человека облика искусства. Изменение традиционной природы искусства, утрата его привычных свойств, рождение новых, порой парадоксальных художественных языков и видов творчества, становятся важнейшими характеристиками культуры прошлого столетия. Кроме того, меняется не только облик, но и сами критерии узнавания искусства, способы разграничения искусства и не-искусства. Размываются критерии суждений, нарушается нечто в той оптике, которой привыкли пользоваться историки и критики искусства для различения, узнавания своего предмета. Исследование этих процессов представляется одной из принципиальных задач для истории всей художественной культуры прошлого века.
Очевидно, что эти свойства наиболее отчетливо проявились во второй половине и в конце XX века. Однако именно процесс формирования нового контура художественной культуры, зарождение новых видов искусства и новых методов творчества, который происходил в начале столетия, позволяет увидеть истоки, раскрыть первичные импульсы, лежащие в основе нового облика культуры. Исследование этой ранней стадии может также способствовать разработке нового исследовательского инструментария для описания искусства XX столетия.
Проблему границ искусства можно считать одной из центральных в культуре XX столетия. Так или иначе, эту тему затрагивают
1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. - Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М., 1938. Т.12,
с. 12.
многие исследователи авангардного искусства. Она присутствует в работах В.Турчина, А.Якимовича. В более общем теоретическом плане к этой теме обращается Б.Бернштейн («Пигмалион наизнанку», М., 2002), а также западные теоретики и философы искусства А.Данто, X. Белтинг и др. Проблема трансформации границ искусства, присутствуя в работах многих авторов, тем не менее до сих пор не становилась предметом специального и подробного исследования на материале русского искусства.
Проблема переосмысления и трансформации границ искусства, которой посвящена диссертация, рассматривается на примере русского авангардного искусства конца 10-х и начала 20-х годов. Конечно, эта проблема присутствует в авангарде с момента его рождения. Однако именно к концу 10-х и началу 20-х годов она приобретает особую остроту, переходя все чаще из плоскости экзистенциального опыта, реализующегося прежде всего в различных мотивах или темах, в мифологии и метафорике искусства, в область радикальных экспериментов с самой материей, с методами создания и способами социального бытования искусства. Иными словами, в позднем авангарде начинает формироваться новый контур того «art world», который будет существовать на протяжении всего XX столетия и который существенно отличается от всех прежних версий «мира искусства».
Основное внимание в диссертации сосредоточено на различных техниках трансформации привычных границ искусства. Именно технические новации и новые методы творчества находятся в центре внимания: коллаж, ассамбляж, конструкция, элементы акционного и инсталляционного искусства. Иными словами, в диссертации исследуются первые шаги тех видов художественного творчества, которые появляются в эти годы и затем будут развиваться на протяжении всего столетия, определяя облик искусства нашего времени.
В работе выбран только один ракурс, только одна точка зрения на искусство позднего авангарда (или военного и послевоенного времени) - исследование границ искусства, расширение его территории, трансформация традиционных видов искусства. В диссертации не ставится задача дать полноценный исторический очерк культуры этого времени, охватить весь материал, исчерпать проблематику новых видов искусства. Главная цель работы - наметить основные векторы, выявить главные механизмы, управлявшие процессом трансформации традиционных форм искусства. В центре исследования находятся в основном два направления конца 10-х начала 20-х годов - дадаизм и конструктивизм, сконцентрировавшие проблематику разрушения, трансформации традиционных границ искусства.
Метод исследования
Методология исследования основана как на конкретно историческом анализе художественных процессов, так и на комплексном кулыурфилософском методе. Русское авангардное искусство конца 10-х начала 20-х годов рассматривается в тесной связи с общими процессами в европейском авангарде этого времени.
Апробация работы
Диссертация выполнена и обсуждена в Отделе ИЗО Государственного института искусствознания. Основные положения работы были опубликованы в ряде статей. Материалы диссертации были использованы также в книгах «Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубежа веков», «Русский авангард: истоки и метаморфозы» и в ряде докладов на конференциях. Работа принята к печати издательством Новое литературное обозрение.
Структура работы
Диссертация состоит из введения и семи глав: 1. Коллаж. Фотомонтаж; 2. Живописная скульптура; 3. Конструкция; 4. Футуристический «грим»; 5. «Площадная живопись»; 6. «Принцип случайного»; 7.Новое зрение.
Введение
Во введении рассматриваются основные тенденции в культуре начала века, послужившие стимулом для поиска новых контуров искусства, для трансформации его привычных границ.
Если схематично и обобщенно представить основные направления интерпретации современниками совершавшихся на их глазах мутаций искусства, то, как правило, они связывали их, с одной стороны, с отрывом искусства от своих сакральных истоков, а с другой, - с выходом на сцену европейской культуры новых сил — техники и масс, настойчиво диктующих искусству свою логику.
В начале XX столетия попытки вернуть искусство в его золотой век, вернуть ему утраченную силу, смысл и значение, также как поиски совершенно новых контуров искусства в мире машин и массового общества, часто были связаны с самыми радикальными экспериментами с традиционным художественным языком. Эти две позиции в культуре начала XX столетия находились в постоянном взаимодействии. Они опровергали, отрицали друг друга, но в то же время постоянно перекликались, дополняли и корректировали друг друга.
Исчезновение ауры вокруг произведения искусства, вторжение техники, неиндивидуализированного машинного искусства и поиски сакральных основ для творчества - эти явления стали также импульсом для радикальных экспериментов в конце 10-х и начале 20-х годов, принципиально изменивших привычный облик искусства и формы его социального бытования.
Необходимость оправдания искусства, поиск новых координат и новых смыслов для существования искусства становятся важным слагаемым для многих экспериментов в послевоенном искусстве. Именно в это время европейская культура переживает одну из самых значительных и ярких вспышек радикализма. В деятельности различных дадаистских объединений, в конструктивизме и раннем сюрреализме происходит наиболее резкая деформация традиционного облика искусства, рождаются новые виды искусства и формируются новые творческие методы. В этих экспериментах, на первый взгляд, лишь разрушающих все традиционные координаты в мире искусства, присутствует часто парадоксальный опыт реставрации. Нередко он предстает как травматический опыт воспоминания неких смыслов, функций, значений, которые уходят из искусства и отблески которых можно уловить только в экстремальных точках, у самых границ мира искусства.
Ощущение кризиса традиционных ценностей западной культуры, с одной стороны, и экзальтированная вера в новое, с другой, представляли в конце 10-х годов два основных настроения, определявшие облик культуры того времени. К началу XX столетия европейская культура теряет веру в прогрессистскую концепцию линейного развития. «Связанный с прогрессом оптический обман» (Э.Юн-гер) рассеивается и обнаруживается новая структура, новый порядок реальности. В ней одновременно сосуществуют хаотическое смешение всего и вся и строгая геометрия, банальность и элитарность, грубый материализм и экзальтированный спиритуализм. Европейская культура начала века - особенно военного и послевоенного времени - представляет собой картину со смазанными контурами - всюду напряженно ищутся или спонтанно возникают парадоксальные сцепления и смешения разнородного, растворяются жесткие контуры понятий и видов искусства, обнаруживается подвижность всех языков, которыми пользуется культура. Искусство уже не может сохранять свои прежние очертания. В нем проступают элементы биологизма, в него вторгаются те внеположенные человеческому рацио силы, которые управляют органической жизнью, жизнью материи. Искусство настойчиво стремится выйти за свои границы - стать политической, жизнестроительной или магической силой.
Вместо линейного времени в искусство приходит новая логика: симультанизма и взрыва, сжимающих линейное движение в мгновенные вспышки, логика озарения и шока, исключающая возможность последовательности и связности. Вместо бесконечного движения вперед, воодушевлявшего многие направления в искусстве конца XIX и начала XX веков, искусство все чаще ищет вдохновения в текучей, мерцающей картине действительности. В военное и послевоенное время «форма анархии», способная уловить хаотическую структуру реальности, привлекает внимание самых разных художников и литераторов.
С другой стороны, важными составляющими культуры (особенно в послевоенные годы) становятся идея нового порядка и властный произвол распоряжаться реальностью, структурировать ее согласно велениям художественной воли. Словосочетание «новый порядок» встречается в этот период не только в декларациях «классицистически» ориентированных течений (например, в пуризме), но и в нигилистических движениях, на первый взгляд, нацеленных лишь на разрушение и отрицание. Хотя, естественно, формы и образы этого порядка существенно отличаются.
Испытание пределов и границ искусства оказывается в эти годы основным вектором в развитии многих направлений. Сомнению и отрицанию подвергается уже не тот или иной язык искусства или стиль, но искусство как таковое. Под вопросом оказывается перспектива его дальнейшего существования. Меняются сами основы, внутренняя структура искусства традиционного и привычного для европейской культуры Нового времени. Необходимость нового в искусстве понимается теперь как выход за пределы, границы наличного, как перемещение на неосвоенные, неизвестные территории. Это уже не новизна ранних авангардных движений, обновляющая и оживляющая «усталую» культуру. Теперь предпринимаются попытки создать абсолютно другую логику существования мира искусства.
Помимо очевидного, лежащего на поверхности процесса исчерпания и разрушения, в этом опыте присутствует и второй, не всегда явственный, план. Многие эксперименты в искусстве того времени представляли протест (хотя и не всегда осознанный) против тех границ мира искусства, которые прочертил для него «дух современности». Исследование границ искусства в этот период связано главным образом с преодолением ограничений, установленных «современностью»: сугубо эстетическое измерение художественного творчества, его рациональная исчислимость, его субъективизм и связанная с ним концепция авторства. Именно эти ограничения часто нарушаются и преодолеваются в экспериментах послевоенного авангарда.
Две тенденции - исчерпание, истощение искусства и обретение его цельности, его абсолютной, окончательной формы - существуют в авангардном искусстве конца 10-х и начала 20-х годов в парадоксальных смешениях и неустойчивом, уклоняющемся то в одну, то в другую сторону состоянии. В культуре начала века они во многом подводят итог авангардному эксперименту как таковому, закрывая на время саму тему радикального вопрошания о природе, «сущности» и границах искусства.
Во введении рассматриваются также основные темы авангардной культуры, связанные с проблематикой границ искусства. Это прежде всего тема абсолютного искусства, искусства первоэлементов, «элементарных сил и стихий». Желание отыскать исходные, первичные слагаемые художественного языка, неподверженные разрушению и аналитическому дроблению (иными словами - найти абсолютный художественный язык), приближало к самым границам привычного мира искусства. Как казалось многим живописцам в начале столетия, именно такое «абсолютное» произведение, пребывающее у границ художественного пространства, способно уклониться от давления времени и истории. С этой точки зрения интерес к границам искусства может быть понят, как попытка найти опору, попытка не захлебнуться в эйфории вечного становления, развития и движения, предложенных искусству «духом современности».
Исследование границ искусства в культуре послевоенного времени предстает также как одна из метаморфоз вечной темы убегающего горизонта, постоянного ускользания «абсолютного» и «окончательного» в искусстве. Погоня за последним, окончательным произведением, желание поставить точку в истории живописи становится одной из ведущих тем в авангарде этого времени.
Проблема границ искусства может быть увидена также как специфический экзистенциальный опыт, сопутствующий авангардному искусству или точнее - рождающийся вместе с ним.
Чувство сомнительности и неуместности искусства в «современном» мире - одно из существенных слагаемых авангардной культуры. Постоянная конфронтация с публикой, с предшествующей художественной традицией, также способствует формированию в культуре авангарда ощущения, что новое искусство не имеет своего собственного места в социуме. Исчезновение «места искусства» в новой культурной ситуации, было, конечно, связано с изменением социального статуса самого художника, с формированием нового институционального мира, обслуживающего искусство. Однако другой важной (если не решающей) причиной утраты «места искусства» стал разрыв с теми фундаментальными духовными координатами существования
искусства, которые были заданы ему в европейской традиции христианством. В позднем авангарде осознание этого разрыва как глубинного импульса для решительного пересмотра самих основ искусства, было далеко неоднозначным. Чаще всего этот разрыв наделялся самоценностью, воспринимался как освобождающая, преображающая сила, закрывающая «ветхую» эпоху и открывающая или точнее — созидающая здесь-и-сейчас новую землю и новое небо. Однако иногда этот отрыв от глубинного фундамента европейского культурного сознания рассматривался как нарушение естественного состояния искусства, свершившееся в предшествующую эпоху господства человеческого рацио, а новое искусство авангарда воспринималось как инструмент реставрации забытых основ. Конечно, реставрации парадоксальной, окрашенной в тона своего времени, но все же обращенной к истокам бытия искусства — к его сакральной природе. При этом важно отметить, что сама сакральность далеко не всегда связывалась в это время с христианской традицией. И в том и в другом случае искусство оказывалось обращено к осмыслению своих пределов, своих истоков, оказывалось в максимальном приближении к своим границам.
Границы искусства обнаруживались и осмыслялись также через актуализацию в авангардном искусстве «воли к исчерпывающему опыту» (Батай). В позднем авангарде - в дадаизме, конструктивизме и раннем сюрреализме - он получает наиболее резкие и экстремальные формы.
Проблема границ искусства могла переживаться также как экзистенциальный риск, который становится важным компонентом многих художественных течений в XX столетии. Причем он понимался часто буквально: как творческий риск, непосредственно сопряженный с жизнью. История авангарда знает массу примеров, когда границы искусства и жизни оказывались размыты и разрушались или испытывались на прочность одновременно.
Еще один круг проблем в исследовании границ искусства связан с неустойчивостью соотношения центрального и периферийного. Пребывание на периферии раскрывается в авангардном искусстве через метафоры забвения, оставленности, отчуждения, подполья и проч., часто возникающие в авангардистских текстах. Одновременно с культивированием собственной маргинальности в авангарде присутствует достаточно агрессивное устремление к центру, а также желание переместить в центр периферийные явления культуры.
Другой аспект проблемы границ искусства связан с осознанием ограниченности возможностей самого искусства. С одной стороны, речь идет об ограниченности выразительных средств традиционного
художественного творчества, а с другой, - в это время рождается специфическая проблема свободы искусства, ставшая важной темой в культуре всего XX века. Ограничения, внутренне присущие самому искусству, и ограничения, диктуемые искусству извне (власть, общество, религия и проч.), становятся предметом постоянных размышлений, конфликтов и самых разных «мифологий» о «свободном творчестве». Поиск максимальной творческой свободы часто осуществляется через демонстративное нарушение привычных границ искусства.
С этим кругом проблем связано также переживание ограниченности возможностей самого искусства, его неспособности воплотить глубинные энергии жизни и человеческой психики. Особый пафос неизреченности, невыразимости постоянно сопровождает радикальные эксперименты авангарда этого времени.
И, наконец, особый экзистенциальный опыт в культуре этого времени связан с переживанием смерти, конца искусства. Эта тема существует в двух измерениях: как осознание хрупкости, эфемерности самого искусства перед лицом «современности», где господствует машина, наука и массы, и как один из эпизодов в череде символических «смертей», последовавших в европейской культуре за «смертью Бога» (конец философии, конец истории, смерть человека и проч.).
Все эти аспекты, условно говоря, экзистенциального измерения проблемы границ искусства, пересекаются, взаимодействуют и создают многослойную структуру самого авангардного искусства этого времени и ту напряженную атмосферу, которая неизменно существует вокруг авангарда.
Коллаж. Фотомонтаж
Первая глава диссертации посвящена технике коллажа и фотомонтажа в искусстве военного и послевоенного времени. Коллаж возникает в 10-е годы среди различных художественных группировок, связанных с авангардом, однако, без громогласных авангардистских лозунгов, без резкого полемизма. Он рождается и развивается как обособленная, боковая тропинка внутри модернистского искусства, как странное ответвление, своего рода сбой в последовательности исторической логики. Коллаж в истории искусства XX века занимает особое место. Он принадлежит к тем феноменам, которые, всегда оставаясь на периферии, тем не менее, участвовали в формировании магистральных тенденций культуры. Легковесность коллажа, его зависимость от изменчивого «духа современности», его сиюминутность и, наконец, его маргинальность в кругу традиционных видов искусства - все эти «негативные» свойства - очевидны. Однако, не-
смотря на это, коллаж в первые десятилетия прошлого века привлекал внимание крупнейших художников того времени. Более того, в современной культуре уже не столько техника коллажа, сколько в более широком смысле слова - коллажное мышление, - утвердилось в самых различных областях культуры.
Коллаж демонстрирует не принцип поступательного развития, а принцип децентрации, рассеивания, который начинает действовать в культуре прошлого столетия. Феномен коллажа и его история подвергают сомнению традиционную линейную схему развития искусства, предлагая вместо нее калейдоскопическую картину постоянных взаимодействий, отражений, мерцаний. Картину, в которой границы между направлениями и стилистическими тенденциями оказываются прозрачны. В ней господствует множественность позиций наблюдения, каждый ее фрагмент подвижен и открыт для взаимодействия со множеством семантических, символических, стилистических и прочих контекстов.
В военное и послевоенное время в самых различных и зачастую эстетически весьма далеких друг от друга направлениях художники обращаются не к поиску новых языков искусства, а к «театрализации» уже известных стилей, к превращению различных языков искусства в предмет игры. И среди этих игровых техник коллаж, бесспорно, занимает одну из лидирующих позиций. Именно коллаж самым решительным образом отвергает идею, что подражание природе является единственным фундаментом для существования искусства. Коллаж не только уводит искусство от проблем отражения, репрезентации реальности, но создает особое пространство игры с самыми разными языками культуры, прививает искусству любовь к этой игре.
В принципе в коллажном пространстве может существовать все. Формы и образы, не имеющие никаких аналогий в реальности, в коллаже могут жить с абсолютной достоверностью, подкрепленной конкретностью и реальностью их материала. Открытие возможностей соединения и взаимодействия в пространстве коллажа реальности как таковой с «реальностью», созданной воображением, сделало коллаж наиболее привлекательным инструментом творчества в тех направлениях искусства, которые в той или иной мере были увлечены поисками непосредственных контактов между искусством и жизнью. Именно в коллаже реальность и воображение художника вступили в новый парадоксальный союз. Уничтожив строгие границы реальности и искусства, коллаж выявил ту волю к мистификации, волю к иллюзии, которые определяли и до сих пор определяют многие качества культуры XX века.
Коллаж предполагает совершенно иной тип созерцания, иные созерцательные навыки. Коллажное пространство состоит из демонстративных стыков разных реальностей, из никак не замаскированных швов между текстом и изображением, между изображениями разной природы или разного стиля, между фото и рисунком, тиражным и уникальным материалом, между материалом разных фактур и разной плотности. Многослойность, калейдоскоп разбегающихся контекстов, к которым отсылает каждый коллажный элемент, все это формирует особую систему коллажного видения, колажного мышления.
Коллаж строится как косвенное высказывание, он содержит скорее намек или напоминание, но в то же время основан на прямом, вещественном свидетельстве о каком-то событии, впечатлении, воспоминании. Из коллажных композиций можно извлечь, по мнению одних критиков, сведения биографического, бытового характера (какие газеты и журналы читал художник, или марки каких сигарет он предпочитал), другие склонны видеть в коллажных композициях материал для психоаналитических упражнений, третьи - эзотерический язык символов и намеков, связанный с глобальными проблемами времени. И коллаж дает основания для существования всех трех (и множества других) интерпретаций. Сама нечеткость, можно даже сказать двусмысленность позиции и статуса коллажа и составляет сущность его природы.
В коллаже всегда есть двойственность: агрессивность, энергия техники, с одной стороны, и пассивность той среды, которая подвергается воздействию техники, с другой. Коллаж использует готовые образы, своего рода редимейд. Собственно творческий аспект коллажа связан только с перекомпоновкой, монтажом, смешением и сопоставлением этих «цитат». Коллажная техника напоминает визуальную химию или алхимию, цель которой путем смешения и разделения различных образов создать новую реальность, синтезировать новую материю.
Коллажное мышление это, как правило, мышление с помощью техники, это зрение опосредованное техническими устройствами -ножницы, которыми работает художник, фотокамера или различные печатные механизмы.
Коллаж можно рассматривать как некую метапозицию по отношению к искусству. Он работает со следами, отражениями искусства, растворенными в потоке жизни. Коллаж создается в том пространстве, где уже прочерчены границы искусства. Поэтому коллаж свободно оперирует с самыми разными стилями и языками искусства, и при этом у него нет собственного стиля или языка в традиционном
значении. Его собственная позиция не соотносится ни с одним из языков, которые он использует. Он представляет скорее действие, чем созерцание, предлагает образец операционного мышления, разворачивающегося через манипуляцию различными языками и кодами культуры.
Рядом с коллажем, и часто непосредственно пересекаясь и взаимодействуя с ним, развивался фотомонтаж. По сути дела (и в силу технических особенностей и в своих эстетических позициях) фотомонтаж можно рассматривать как одну из разновидностей коллажа. Хотя, бесспорно, существуют между ними и определенные различия. Техника фотомонтажа возникла почти одновременно с самим изобретением фотографии, но в историю большого искусства фотомонтаж попадает даже позже, чем коллаж. Как подчеркивают многие исследователи, включение фотомонтажа в сферу профессионального искусства во многом было связано с усвоением принципов, разработанных в коллаже.
В данной главе коллаж рассматривается сквозь оптику различных явлений в культуре, с которыми он прямо или косвенно пересекается и взаимодействует. Среди таких культурных контекстов для коллажа конца 10-х и начала 20-х годов выбраны: дилетантизм, механизм работы сновидения, авангардная поэзия и концепции новой книги, беспредметная живопись, массовое искусство и реклама.
Дилетантский контекст, с которым коллаж связан и в своем происхождении, и к которому он часто апеллирует, обнаруживал определенное родство с коллажной «философией». И коллаж и произведения дилетантского творчества создавали особое пространство, в котором художественное произведение оказывалось часто в состоянии своеобразного дрейфа где-то у границ традиционной территории искусства, в состоянии парадоксального отсутствия и в сфере быта или практического использования и собственно в сфере искусства. В этой части работы анализируются коллажи Делоне, Ремизова, а также подробно рассматривается особый вид альбомного коллажа в творчестве С.Нагубникова и А. Крученых.
Другой контекст для коллажного мышления представлен в различных иллюстрациях к эзотерическим сочинениям, воспроизводящим своего рода «коллажную» структуру организации пространства и создания отдельных образов. Такие картины относились не к реальности видимой, физической, но к реальности культуры, к знаковому, символическому пространству культуры. В них сохранялось представление об изобразительном искусстве как о языке, который напоминает о возможности прочесть и видимый мир, мир физической реальности, как текст книги. Их зримый облик условен, он соотносит-
ся не с доступным физическому зрению обликом вещей, а с воображением, с реальностью видений, сна. Логика эзотерических иллюстраций оживает прежде всего в тех направлениях искусства XX столетия, которые отказываются от прямого воспроизведения окружающего мира и обращаются к передаче не того, что видишь, но того, что знаешь, вспоминаешь или желаешь увидеть. Независимо от техники исполнения, структура этих изображений часто напоминает коллаж. Коллаж можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, как определенную технику искусства. И, во-вторых, как специфический язык искусства, не всегда реализующийся в коллажной технике. Кол-лажное мышление может встречаться и в живописи, и в графике.
В русском искусстве коллажное мышление появилось первоначально именно в живописи. Коллажная структура пространства присутствует в ряде кубофутуристических работ, связанных с алогизмом. Немотивированное выделение отдельных предметов и их парадоксальные совмещения, фрагментированность предметов, игра масштабов, создающая впечатление разорванности, неоднородности пространства, стилистический разнобой, текстовые вставки, и в более широком смысле читаемость изобразительных рядов (их текстовая природа) - все эти традиционные коллажные приемы присутствуют в алогичных произведениях живописи. Эти свойства коллажа и алогизма находят аналогии в том типе зрения, который был описан выше в связи с иллюстрациями к эзотерическим сочинениям, апеллировавшим к внутренней реальности, к реальности воображения. Кроме того, у них есть еще один общий смысловой контекст - реальность сновидения. Пространство сна и механика его действия, описанные прежде всего в работах Фрейда, обнаруживают определенные аналогии с принципами коллажного видения, и - в более широком смысле - коллажного мышления. Сновиденческая структура коллажа рассматривается в диссертации на примере произведений Крученых и фотомонтажей Лисицкого и Клуциса.
Еще один контекст для коллажа связан с новой поэзией и экспериментами по созданию нового облика и новой структуры книги. Соприкосновения коллажа и поэзии, которые происходят в это время в творчестве русских поэтов и художников, часто были связаны прежде всего с поиском нулевых, изначальных точек для искусства. В центре внимания в этой части работы находится книжный коллаж, к которому обращались в те годы Розанова, Крученых, Степанова.
Особый тип коллажа, существовавший довольно краткий промежуток времени и не получивший широкого распространения - это абстрактный коллаж. Его исследованию и его соотношению с беспредметной живописью посвящена следующая часть работы. Основ-
ное внимание здесь уделяется особой версии беспредметного изобразительного языка, разработанного в коллажах Розановой и в «наклейках» Крученых, а также его сопоставлению с супрематизмом Малевича.
Еще один важный для коллажной эстетики контекст - реклама. Реклама конца XIX и начала XX столетия часто использовала фотомонтаж и, если не коллажную технику в прямом смысле слова, то создавала образы, аналогичные коллажным. Само возникновение коллажа во многом обязано широкому распространению рекламы, изменившей облик городского пространства, внедрившейся в повседневную жизнь и ставшей постоянным аккомпанементом ежедневных зрительных впечатлений. Реклама и прочая печатная продукция — журнальные иллюстрации, газетные страницы, этикетки, рекламные тексты, объявления, фрагменты оберточной бумаги, почтовые марки, конверты, открытки, словом, весь спектр печатной продукции, ежедневно сопровождающий современного человека, становится любимым материалом для коллажа.
Пристрастие художников, обращающихся к коллажу, к работе с вторичными материалами, с образами массовой культуры не только указывает на один из источников коллажного видения, не только свидетельствует о бессознательной памяти коллажа о родственных ему типах изображений. Реклама и в более широком смысле - массовая культура - работают на уровне бессознательного, на уровне слияния дневной реальности и сновидений, мечтаний, которое всегда присутствовало в коллаже. Возникновение самой коллажной техники во многом и было спровоцировано стремлением увидеть, выявить этот странный мир, уловить ритмику психики современного человека, погруженного в жизнь огромного города.
Не только попытки внедрения нового стиля в массовую культуру, но также использование массовой изобразительной продукции как источника для авангардного художественного творчества широко используется в коллаже и фотомонтаже. Взаимодействие коллажа и массовой изобразительной продукции в конце 10-х и в 20-е годы рассматривается на примере творчества Родченко, Степановой, Лисиц-кого.
Живописная скульптура
В следующей главе рассматриваются первые опыты создания ассамбляжей или живописных скульптур, а также использование новых материалов в искусстве авангарда.
Автономия искусства, операции разделения, редукции, рационализации, аналитического высвечивания скрытых сторон реально-
сти, волевого конструирования «реальности» - эти творческие методы ассоциируются, как правило, с искусством модернизма. Художественный язык ассамбляжа или живописной скульптуры подвергает сомнению эти, на первый взгляд, непременные элементы модернистского языка искусства. Вместо автономии искусства ассамбляж предлагает стирание границ искусства и реальности. Вместо обособления каждого из искусств - смешение различных видов художественного творчества, различных техник и языков. Вместо рационального структурирования - принцип ассоциативной и игровой комбинаторики. Вместо аналитических операций, выявляющих структурную четкость и «простоту» в живописных скульптурах возникает запутанная и иррациональная игра поверхностей, в которой теряется грань между реальным и иллюзорным. Через элементы не-искусства (реальные материалы или предметы) в ассамбляжах создается разомкнутое, разорванное пространство эстетического, в котором господствует вариативность, случайность.
Экстремальный реализм живописной скульптуры выводит изобразительный язык в новое пространство, отличное от «реальности» традиционной живописной иллюзии. Он открывает перед художником возможность самому создавать объективную и физически достоверную реальность. И тем не менее ассамбляжная техника оказывается в большей мере поэтической игрой с реальностью, чем прозаическим стиранием границ между искусством и повседневностью. Она скорее приоткрывает изнутри грубой предметности, изнутри физического, материального мира выходы в другое измерение.
В главе прослеживается краткая история формирования ассам-бляжей в европейском искусстве 10-х годов, начиная с изобретений Пикассо, манифеста Футуристической скульптуры (1912) У.Боччони и первых редимейд М.Дюшана.
В русском искусстве этого времени, безусловно, использовались и учитывались открытия европейских авангардистов. В тоже время русские художники создали самостоятельную и нередко более радикальную версию ассамбляжной техники. В русском искусстве конца 10-х и начала 20-х годов существовало два типа живописных скульптур - полностью беспредметные и использующие готовые, бытовые предметы или их фрагменты для создания композиций. И если Татлиным была создана наиболее убедительная версия беспредметных материальных подборов, то в области работы с готовыми предметами самые радикальные варианты были предложены И.Пуни.
Важной особенностью живописных скульптур, в отличие от появляющихся позднее конструкций, было сохранение в них связи с вполне традиционной формой картины. Многие художники просто
пересказывают с помощью материалов, заимствованных из окружающей реальности, свои живописные произведения. И все же именно в это время были сделаны первые шаги в пространстве совершенно иной художественной реальности. В материальных подборах и контр-рельефах Татлина, в ряде живописных скульптур Пуни (Рельеф с молотком 1915, Рельеф с тарелкой 1919, Рельеф с белым шаром 1915 и др.) был сделан решительный шаг за границы традиционного искусства. Абсолютная конкретность художественного языка ставила эти произведения в новую ситуацию и задавала новые правила их восприятия. В них были полностью преодолены изобразительное начало и литературность. Знак, символ, означающее - эти понятия уже не работают в рамках нового вида художественного творчества. Каждый его элемент соотносится только с самим собой. В каком-то смысле живописные скульптуры напоминают язык, «слова» которого ничего не означают, представляя чистую игру языковой формы.
Живопись выполняет в ассамбляжах только функцию раскраски. Она лишена своих изобразительных, повествовательных возможностей и в большей мере существует как напоминание, след живописи. Если воспоминания о живописи удерживали ассамбляж в границах традиционной концепции изобразительного искусства, то его взаимодействия с литературой, напротив, провоцировали, ускоряли движение в сторону новой формы существования искусства. Живописные скульптуры обнаруживали родство с некоторыми творческими методами, разработанными в литературе авангарда - симульта-низм, «беспроволочное воображение» и «слова на свободе», заумный язык и коллажная поэзия.
Важный аспект взаимодействия с литературой раскрывается также в названиях ряда живописных рельефов. Хотя в данном случае точнее было бы говорить не о литературе, а о соотношении зрительного ряда со словом, его описывающим. Многие живописные скульптуры (как и многие кубофутуристические картины), беспредметные по существу, имели тем не менее литературные названия. Как правило, сам подбор материалов напрямую никак не соотносился с названиями. Иррационализм предметных комбинаций зачастую только усиливался отсылкой к конкретным ситуациям. В 10-е годы внятный смысловой принцип комбинации предметов, их символическое, литературное прочтение практически не встречаются. Литературные названия соотносились с материальными подборами скорее по принципу диссонанса или едва уловимых, случайных ассоциативных рядов. Именно диссонансное столкновение зрительных образов с литературным, словесным рядом, их репрезентирующим, придавало повышенное напряжение работам, сообщало им трансгрессивную энер-
гию, задавало устремление к преодолению привычных условий восприятия зрительного образа.
Это свойство ассамбляжей существует в русле общего для самых различных течений авангарда стремления освободить пластические искусства от подчинения литературе, слову, дать возможность глазу самому, без подсказки языка, постигать смысл видимого. В ас-самбляжах и материальных подборах достигался неизвестный прежде уровень немоты, молчаливости, окончательного ухода изобразительного искусства из-под власти литературы, слова. Эта тенденция заключала в себе двойственность, оставляла тревожное впечатление. Уход от «слова» мог оборачиваться не только уходом от поверхностных, омертвевших смыслов языка, но и нарушением тех связей, которые соединяли мир искусства с логосом, сообщали ему человеческое измерение. Построение некоторых ассамбляжей оставляет впечатление, что в них действует не индивидуальная творческая воля, а стихийная сила, подобная силам, управляющим геологическими или биологическими процессами. Молчаливая, неподвластная слову жизнь материи в ассамбляжах иногда нарушает некую грань, отделяющую человеческое творчество от произвольной игры стихий природы, от случайных комбинаций поверхностей, форм, предметов, фактур, рождающихся непроизвольно в жизни. И в этом нарушении самих основ антропоморфности художественного произведения заключалось, вероятно, одно из наиболее тревожных и двусмысленных достижений нового вида творчества.
В истории модернизма есть идеи, оказавшие влияние на ключевые аспекты новой концепции искусства, способствовавшие созданию новых контуров самых разных искусств. К таким ключевым и универсальным категориям нового искусства принадлежит симультанизм. Многие приемы построения ассамбляжей, принципы сочетания элементов внутри ассамбляжной композиции развивали и использовали язык симультанизма. Вместо привычной практики чтения, извлечения смысла путем соотношения предмета и слова, его обозначающего, в искусстве 10-х годов складываются особые методы рассогласования, дезориентации, нарушения последовательности и линейной логики. Эти методы не принадлежат только одному виду искусства. Они получают свое преломление и в живописи, и в литературе, и в музыке, и в театре. Не последовательность и связность, но резкий скачок, слом, разрыв определяют построение многих произведений искусства этого времени. И живописные скульптуры в этом процессе создания нового языка искусства играли одну из ведущих ролей.
В основе живописных скульптур лежит еще один прием, широко использовавшийся в культуре - монтаж, т.е. комбинирование,
сборка, соединение различных предметов или их частей. Эта методика связывает живописные скульптуры, с одной стороны, с неким ремеслом - монтировка, крепление материалов, а с другой, - с кинематографом.
Монтаж в кинематографе привычно соотносить с интеллектуализмом, рациональной комбинаторикой. Такие принципы монтажа утверждаются в кинематографе 20-х годов. Однако в живописных скульптурах действует скорее иной монтажный принцип. Аналогию ему может составить монтажный эффект Л.Кулешова — игровой, незавершенный, вариативный. Кулешовский монтаж открывал в кино не столько «осмысленные контексты», сколько плавающие, неопределенные, изменчивые. Именно такие контексты возникают и в живописных скульптурах.
Монтаж различных деталей в живописных скульптурах демонстрировал двусмысленную гибкость механизмов порождения смысловых контекстов. Монтаж материалов и предметов в живописных скульптурах направлен не столько на рождение мысли, на конструирование определенного смыслового поля между двумя элементами, сколько на разрушение жестких логических связей. В его основе лежит создание спонтанных, непреднамеренных ассоциативных рядов, свободных смысловых комбинаций.
В живописных скульптурах возникает новый механизм порождения смысла. Уже сам акт выделения предмета из его естественного контекста предполагает наличие в этом предмете неких свойств, которые могут быть раскрыты с помощью определенных умозрительных процедур: воспоминания или воображения. Эти свойства элементов, составляющих ассамбляжи, неочевидны, субъективны. Они не считываются непосредственно, не обладают устойчивыми значениями.
Эстетическая ценность живописных скульптур смещается с прежних позиций, предполагающих определенную систему координат, в пространство, где художественные достоинства произведения определяет некий игровой потенциал, заложенный в его структуре. Соединение умозрительной игровой механики, реальности воображения и реальности предметного мира представляло два антиномич-ных начала в ассамбляжной технике. Новые механизмы восприятия, неочевидность смысловых контекстов, «разорванное», разомкнутое пространство эстетического — все эти свойства живописных скульптур радикально меняли привычную структуру художественного произведения. В живописных скульптурах возникало незамкнутое, подвижное пространство, предполагающее особую драматургию восприятия. В нем не было одного направления, строго заданного векто-
pa движения. Оно предполагало возможность свободной игры, непринужденного блуждания глаза и в то же время испытывало зрение постоянными скачками, мистификациями, смещающими привычный контур реального.
Не традиционное мастерство живописца, не сюжет или идея, но чистый эффект, трюк трансформации был одним из важнейших элементов этих работ. При абсолютной конкретности, сосредоточенности на сугубо материальной стороне, искусство в живописных скульптурах развоплощалось до трюка, до чистого действия трансформации.
Следующая часть главы посвящена исследованию связей живописных скульптур с различными типами игровых, аттракционных произведений в культуре. «Живые механизмы», восковые персоны, фигурные обманки, механические картины - все эти произведения базировались на игре с искусственным и живым, иллюзией и реальностью. В них иллюзорный мир искусства, «реальность» созданная и придуманная смешивалась с реальностью как таковой. К началу XX столетия этот игровой «магический» компонент искусства находился в области маргинальных пространств культуры, часто смешиваясь с новинками технических изобретений. Такими новыми аттракционами, основанными на игре оптических эффектов, стали транспарантная живопись, панорамы и диорамы. Панорамы не только представляли пример соединения реальных объектов и иллюзорного пространства, но и использовали некоторые механизмы восприятия, характерные в дальнейшем для живописных скульптур и ассамбляжей: нецентрированное зрение, эффект скачка от иллюзорного к реальному.
В этом же ряду аттракционных искусств находился и ранний кинематограф. Очень часто в основе фильмов лежали трюки магического театра, трюки иллюзионистов, связанные с «оживлением» неживого, иными словами - с нарушением границ между двумя территориями «реальности» оптической и реальности действительной. Еще один круг явлений в искусстве конца XIX и начала XX века, типологически близкий «трюкам» ассамбляжей, связан с экспозиционной практикой. Нередко художники, стремясь создать особую атмосферу в выставочном пространстве, использовали различные эффекты, начиная от специальных приемов освещения и кончая размещением аксессуаров вокруг своих живописных полотен.
Весь круг этих аналогий не принадлежит сфере эстетического в чистом виде. Скорее он занимает промежуточную позицию между искусством в его эстетическом измерении и аттракционом, в котором иногда в искаженной и рудиментарной форме сохранялись отголоски
архаического мира ритуалов. Эти аналогии подводят к еще одному кругу традиций, с которыми практика использования различных материалов и предметов в живописных скульптурах также имеет точки пересечения. Речь идет об архаическом искусстве.
Живописные скульптуры, включающие в пространство искусства готовые предметы (или их фрагменты), изъятые из обыденной жизни, использовали механизмы трансформации, преображения материалов в чем-то схожие с архаическим и сакральным искусством. Эти механизмы или игровые «трюки» ассамбляжей актуализировали архаические пласты в искусстве, разрушающие его установленные границы, его исключительно эстетическое измерение.
Неудовлетворенность чисто эстетическим статусом искусства и стремление расширить его смысловое поле, его культурные функции была источником многих радикальных экспериментов культуре начала прошлого века. Аттракционная механика превращений позволяла перейти в пространство, где действуют иные, чем собственно эстетические принципы организации материала и его восприятия. Сфера чудесного, пограничных состояний, превращений, некой «волшебной» механики, забытой «высоким» искусством, все чаще привлекает внимание художников, воспринимаясь как необходимый элемент языка нового искусства.
В определенном смысле метафизический привкус всегда присутствует в ассамбляжах, построенных на просвечивании, совмещении двух реальностей - реальности иллюзорного картинного пространства и реальности бытовой, предметной. Эффект стертости границ между ними и создает впечатление «чудесных» трансформаций.
Отдельная часть главы посвящена исследованию взаимодействий ассамбляжей и традиционного живописного пространства. Внедрение реальных предметов в картинное пространство дезорганизует прежние нормативы восприятия живописи. Взгляд лишается направленности, которую ему раньше задавали и линейная перспектива, и композиция картины - втягивающая, концентрирующая зрение. Замкнутая структура картины, имеющая свои определенные границы, не позволяла глазу соскальзывать за пределы рамы, блуждать в пространстве. Трехмерный предмет нарушает эту логику зрения. Глаз, лишенный заданного смыслового направления, строгой перспективной схемы, блуждает среди фрагментов предметного мира, узнавая отдельные его элементы, но не находя между ними очевидных связей.
И, наконец, последняя часть главы исследует взаимодействие живописных скульптур с традиционными практиками экспонирования искусства. Многие жесты авангардного искусства, демонстратив-
но разрушающие традиционные формы, традиционную структуру живописного языка, обретают свое значение в контексте установившихся в европейской культуре практик социального, общественного бытования произведений искусства. Во многих случаях тяготение к изменению традиционных форм искусства связано с полемикой или резкой конфронтацией с устоявшимися институциями, с общепринятой практикой использования и интерпретации искусств. Эта полемика затрагивает порой глубинные механизмы функционирования культуры в Новое время. Живописные скульптуры или ассамбляжи были важным звеном в этой полемике.
Конструкция
В искусстве конца 10-х и начала 20-х годов одна из наиболее радикальных версий новой эстетики была связана с движением конструктивизма. Конструктивизм вырабатывает новый тип творчества, сближающий работу художника с производственным процессом, с деятельностью инженера, с практикой научных экспериментов и лабораторных опытов. Конструкция - новый вид художественного произведения, развивая и радикализируя некоторые тенденции, проявившиеся в ассамбляжах, в коллаже и фотомонтаже, все же существовала в другой системе координат, представляла следующий решительный шаг в разрушении традиционных границ искусства.
Конструкции, в отличие от живописных скульптур, уже полностью свободны от воспоминаний о координатах картинной поверхности. Для ассамбляжа еще важны были методы, отсылающие к традиционной художественной практике: динамика фактур, игра на разных культурных территориях, смещение границ иллюзорного и реального. Для конструкции важны не фактуры, не поверхности, но структурные и конструктивные, функциональные качества материалов. Конструкция исследует, как они могут работать, связываться друг с другом, какие они могут создавать силовые линии, какое напряжение способны выдерживать. В конструкциях художники не интересуются границами мира искусства и реальности. Их произведения существуют в пространстве культуры, где эти границы уже стерты, практически незаметны.
В конструктивизме, на первый взгляд, оживают многие мифы, ушедшего XIX века. Прежде всего реанимируется мифология прогресса, неуклонно растущей рационализации, преодоления хаоса реальности, освоения наукой и человеческим сознанием самых темных и таинственных сторон жизни. Однако эта возрожденная мифология приобретает в конструктивизме иные и подчас парадоксальные очертания. Она предстает не просто в виде экзальтированного повторения
прежней утопии, но может рассматриваться как ее новая, иррациональная стадия. При более пристальном внимании рациональность и научность самого конструктивизма также оказывается неоднозначна. Важно подчеркнуть, что конструктивизм интересует не собственно классическая версия научного мышления, научного метода, но их новая версия, скорректированная современными открытиями.
Незавершенность, проектность - характерное свойство многих конструкций. В них заново ставится вопрос о природе искусства, делается попытка найти новое определение для художественного произведения. Понятие лабораторной работы, экспериментального упражнения, использующиеся часто художниками-конструктивистами подчеркивают этот неустойчивый, неопределенный статус их произведений. Конструкции всегда сохраняют двойственность. Не смотря на программное отрицание искусства, само бытие конструкций в культуре наделено всеми атрибутами произведений искусства — они экспонируются на выставках, существуют в изолированном пространстве мира искусства, они не вовлечены в реальный утилитарный процесс.
Уже современники связывали конструктивизм с «определенно выраженной тенденцией выйти за пределы замкнутого в себе художественного произведения, т.е. с тенденцией ликвидации искусства как отдельной дисциплины»2. Может ли искусство сохранить свою идентичность в новом агрессивном пространстве технической и научной реальности, среди тех вызовов, которые бросает традиционной культуре «современность», пожалуй, именно в конструктивизме этот вопрос встал с наибольшей остротой.
Произведение конструктивизма не соотносится его создателями с контекстом эстетики, художественного творчества. Конструкции рассматриваются как своеобразный исследовательский инструмент. С их помощью изучается логика созидания и механика производства в мире природы или в мире техники. В конструкциях искусство окончательно утрачивает свою автономию, растворяясь в таких глобальных контекстах, как техника, машинная реальность, или биологическая жизнедеятельность, развитие в мире органическом.
В русском искусстве эти две тотальные реальности - органический мир и мир технический стали основой для двух версий конструктивистского мышления. Причем органическая версия конструктивизма была, очевидно, наиболее оригинальным, неподдающимся интернациональному тиражированию направлением.
2 И.Пуни. Современные группировки в русском левом искусстве. - Искусство коммуны, 1919, №19, с.2.
Хронологически органическая версия «конструктивизма» в русском искусстве предшествовала рождению собственно конструктивизма как особого направления. В материальных подборах, контр-ре-льефах и угловых рельефах В.Татлина были даны первые образцы органических конструкций. Ориентация на органический тип культуры была одной из наиболее самобытных и устойчивых характеристик русского авангарда. В области работы с реальными материалами органическую эстетику (помимо Татлина) развивали М. Матюшин, П.Мансуров, П.Митурич, отчасти Л.Бруни. В творчестве этих художников соединялись два начала: волевой творческий метод конструирования новых художественных систем и стремление связать этот метод с закономерностями и ритмами органического мира. Парадоксальное соединение технического, инженерно-научного подхода к творчеству с биологизмом, стремление найти естественный баланс между этими разнонаправленными силами отличало эту версию «конструктивизма».
Надо отметить, что как погружение искусства в сферу научного экспериментирования, инженерного производства, так и прямое соотнесение его с биологическими, органическими процессами разрушало прежние границы мира искусства, деформировало его природу. Искусство, располагаясь на поверхности биологической или машинной реальности, теряло свою собственную глубину, свою уникальность.
Новая материя искусства, с которой имеет дело конструктивист, раздроблена, деформирована, вырвана из своего жизненного пространства. В конструкциях она, как правило, уже не собирается на поверхности, напоминающей о картине, но группируется в разнообразных сочетаниях в реальном пространстве. Любой фрагмент реальности, любой фрагмент материального мира может теперь стать материалом искусства. В новой концепции полностью стирается различие между благородными, художественными и низкими материалами. Исчезает прежнее понятие качества, так как к новым материалам оно не применимо. В конструкциях окончательно расшатывается, деформируется традиционная материальная основа искусства. Теперь материя искусства растекается и разрастается в пространстве без каких либо ограничений.
В русском искусстве - прежде всего в творчестве Татлина - получил развитие метод работы с различными материалами, направленный на собирание, организацию раздробленной и деформированной материи в новые организмы, в новые системы. В большинстве материальных подборов и рельефов Татлина глаза зрителя не соскальзывают в трехмерный мир, как это было в живописных скульптурах, не
выталкиваются из иллюзорного картинного пространства в реальность, но, напротив, из фрагментированного и бесформенного мира предметов или материалов окружающего пространства зрение с помощью татлиновских «досок» собирается, концентрируется. Произведения Татлина обладают не столько силой диссоциации, разрушения, аналитического расчленения материи, сколько энергией собирания, строительства, упорядочивания.
В работах Татлина нет эстетических, точнее даже - эстетских эффектов, какие свойственны более поздним конструкциям. Материальный подбор Татлина прежде всего выявляет жизнь самого материала- его массу, тяжесть, жесткость, различные способы его деформации, его сопротивляемость. Причем эта жизнь протекает сама по себе, художник ее только наблюдает, подсматривает, проникает в нее, но не подчиняет своей логике, своему сознанию. В подборах Татлина раскрывается онтология вещного мира, достигается то «непритворное пребывание вещи», о котором писал Хайдеггер. И в то же время творчество художника у Татлина переносится в большей степени в сферу действия, а не созерцания — он испытывает, исследует материалы, материальную основу жизни, но не изображает ее, не повествует о ней.
В материальных подборах Татлина происходит полный выход за границы традиционного искусства живописи или скульптуры в новый вид художественной деятельности. Источником вдохновения для него является только жизнь материала.
Татлин в своих работах ориентируется даже не на тактильные эффекты, но на своеобразную память рук и всего человеческого организма. На те ощущения, которые остаются от работы с материалом, на тот опыт, который рождается у человека от соприкосновения с материей, от ее преодоления или оформления. Этот опыт не становится у Татлина предметом исследования, аналитического разложения на элементы. По сути дела подобный опыт и неразложим. Он добывается не путем интеллектуальных усилий, но скорее вспоминается, оживает в процессе проникновения в мир материи, в процессе непосредственной работы с тем или иным материалом. Это некий первичный, даже не архаический, но жизненно всеобщий, фундаментальный опыт. Эта онтология бытия человека в мире материи и становится основной темой татлиновских рельефов.
Еще одно свойство органических конструкций Татлина - их антииндивидуализм. Подборы материалов лишены трепета индивидуального письма, ощущения уникального, индивидуального почерка, всегда присущего живописи. Но одновременно в них нет господства технических ритмов, логики машинного производства и машинной
обработки материала, который будет определять существо собственно конструктивистских объектов. В материальных подборах Татлина господствует принцип «органической конструкции». Они апеллируют не столько к чистой механике, технике, сколько к глубинным архаическим пластам сознания, к архаическому опыту освоения материи.
Феномен искусства в творчестве Татлина погружается на значительно большую глубину, чем собственно эстетическая плоскость. Он трактуется как фундаментальное, онтологическое слагаемое бытия человека в мире. Недостаточность, исчерпанность эстетического пространства для искусства, которое было одним из наиболее острых переживаний в культуре начала XX столетия, в творчестве Татлина находит одно из самых оригинальных воплощений. В своих работах он совершает прорыв к глубинной онтологии творчества, к осознанию его соприродности самому бытию человека в мире.
Материальные подборы Татлина открывают новую реальность - неограниченную, тотальную поверхность мира материи. Произведение искусства оказывается встроено в этот глобальный контекст. И, конечно, в нем оно теряет свою автономию. Работы Татлина открывают общую тотальную поверхность, бесконечную протяженность материи и материалов, в которой растворяется искусство. Эта тотальная поверхность не имеет границ - материальный подбор или сочетание случайных поверхностей, случайных предметов в жизни перетекают друг в друга. В этом пространстве искусство растекается, распыляется, его невозможно исчислить, определить, оно оказывается все ближе к чистому действию - комбинаторка, трюк. Материальный подбор фиксирует, концентрирует на какое-то мгновение взгляд на фрагменте этой тотальной поверхности, но в то же время он растворен в ней и открыт вовне.
Органический тип конструкций разрабатывался также в творчестве М.Матюшина. В конце 10-х начале 20-х его творчество приобретает подчеркнуто научно-исследовательский, экспериментальный характер. В это время в рамках исследования «неосознанных особенностей осязания, зрения, слуха» он делает несколько конструкций, в которых изучает и демонстрирует открытые им законы зрительного восприятия.
Конструкции Матюшина - лабораторные работы, модели для демонстрации открытых закономерностей восприятия и построения форм. Их самостоятельное художественное значение ограничено этим прикладным характером исследовательского инструмента. Тем самым центр тяжести в творческом процессе смещался с создания произведения искусства в сторону обретения нового психологическо-
го опыта, исследования и развития внутреннего, психологического и физиологического аппарата самого человека. Искусство же становилось только инструментом, рычагом воздействия на организм человека, на его зрительный аппарат. Форма художественного произведения оказывалась в концепции Матюшина разомкнута в сторону утилитаризма, но понятого органически, даже физиологически или психологически.
В работах П. Мансурова конца 10-х и начала 20-х годов делается еще одна попытка объединить мир органический и технический. По сравнению с Татлиным, Мансуров работает более рационально -он последовательно ищет точки взаимодействия, пересечения реальности человека (мир техники, эстетических явлений) и природы. Он раскрывает общие закономерности, ритмы, процессы, но той философии, той онтологии бытия в мире материи, которая проступает в рельефах Татлина, у него нет. В сравнении с Матюшиным, Мансуров ориентируется не на психологию, физиологию зрения, но на историко-культурные исследования проблемы.
Другая версия конструктивизма (к ней уже с полным правом можно применять сам термин «конструктивизм») разрабатывала новый тип художественного творчества, базирующийся на закономерностях мира техники и науки, в основе которого лежали не ритмы или структура органического мира, а процессы труда и производства.
В основе идеологической программы конструктивизма, как уже отмечалось, лежит новая интерпретация художественного творчества, рассматривающегося теперь в категориях инженерной, производственной, лабораторной работы. Аналитический метод конструктивизма, его апелляция к науке, на первый взгляд, обеспечивали ему прочные позиции среди сугубо рационалистических течений в культуре начала 20-х годов. И все же конструктивизм - особенно его русская версия, - находящийся на самой границе традиционной территории искусства, как бы случайно цеплял, притягивал к себе отдельные элементы, противоречащие жесткой рациональности.
Кроме ньютоновской механической модели мира, основанной на гомогенности пространства и времени, на стабильных неделимых телах, наука обнаружила к концу XIX столетия своего рода мета-мир - децентрированный, многомерный, текучий мир энергий, волн, излучений и сил. Вместо атомарной структуры мира, мира твердых тел проявился энергетический контур мира, где изолированные и стабильные вещи не существуют. Именно этот новый мир энергий и сил определял особенности конструктивистской эстетики и выводил ее за пределы одномерной, жестко рациональной концепции искусства. Энергия, силы отталкивания и притяжения, баланс сил - этот набор
отвлеченных и вместе с тем предельно конкретных категорий лежит в основе конструктивисткого ощущения искусства.
Многие особенности конструкций связаны с включением искусства в глобальный и неограниченный ни в пространстве, ни во времени контекст энергетизма. В философии энергетизма, популярной уже с конца XIX века, именно энергия рассматривалась как первооснова мира, а материя являлась всего лишь одной из форм существования энергии. В конструкциях также господствовала не логика мира-механизма и мира твердых тел, а логика мира волновых излучений и потоков энергий. Произведение искусства рассматривалось в конструктивизме как инструмент выявления рассредоточенных во всем мире энергий. В этом плане утилитаризм конструктивизма имел явный метафизический оттенок: конструкция обнаруживает потоки сил, потоки энергий, она выявляет и исследует их взаимодействие, она позволяет увидеть скрытое, невидимое энергетическое строение мира, лежащее за пределами непосредственного опыта.
В конструкциях нет мышления объемами. Не объем или поверхность определяют структуру конструкции, но соотношение сил, напряжение между элементами, давление их друг на друга, их сопротивление. Это визуализированное в конструкциях мышление энергетизма представляло одно из важнейших направлений в движении за традиционные границы мира искусства. Энергия становится в конструкциях тем тотальным началом, с которым соотносится новое произведение искусства. Эта тотальность, подобно тотальности органического мира и мира материи в «органических конструкциях», также размывает контуры чисто эстетического измерения искусства.
Конструкции оперируют своего рода первоэлементами. Работа с элементами связана с децентрацией, демонтажом изначальной целостности и поэтому в значительной степени - с хаотизацией мира. Аналитическое усилие, лишающее мир целостности, разбирающее его на мельчайшие детали непроизвольно вносит иррациональный аспект в картину мира. Отсюда, вероятно, также возникала двойственность конструкций.
С другой стороны, в основе конструкций лежит работа по собиранию атомов, элементарных компонентов, работа по приведению разрозненных частей к некоторому единству. Тем не менее в них присутствует один элемент, всегда сообщающий этим усилиям иррациональный оттенок - незавершенность, открытость. Эта двойственность особенно отчетливо проявляется в конструкциях, собранных из одинаковых модулей. Этот тип конструкций указывает на общую тенденцию конструктивизма - невозможность целостности, законченности построения.
Искусство в конструкциях, собранных из однотипных модулей, пытается оперировать прежде всего категориями количественными, традиционно ему чуждыми. Принцип бесконечности, воплощенный в конструкциях из однообразных модулей, базируется на чисто количественном повторе, безостановочном воспроизводстве стандартных элементов. Программное введение количественных и стандартизированных категорий в произведение искусства подобно использованию новых, подчеркнуто современных, материалов. Оно также размывает привычные контуры, устойчивые границы мира искусства, смыкая его с миром науки, техники, новых коммуникаций, безличных стандартов и человеческих толп. В этих работах угадывается новый ритм, новый очерк не только самого искусства, но в более широком смысле — новая антропология, контур нового человека, целиком принадлежащего миру труда и производства, связанного с жизнью современных мегаполисов.
Большинство конструкций не содержит никаких антропоморфных намеков или воспоминаний. Пристрастие к металлическим поверхностям, которое можно отметить в большинстве конструкций, нивелирует тактильные ощущения, лишает их разнообразия, сообщает им специфическую монотонность промышленного ритма. Металлические поверхности конструкций ориентированы на нейтрализацию всех телесных ассоциаций или ощущений при их восприятии. Человеческое тело в конструкциях стараются «забыть», игнорировать, растворить в энергиях и ритмах машинного мира. Человек из этого мира напряженной, ритмичной работы материалов изъят. Человеческое присутствие в конструкциях сказывается только в определенной эмоциональной экзальтации, которая присуща многим работам, представляющей своего рода лишь энергетический след человека в новом мире.
Конструкция в 20-е годы рассматривалась художниками как эффективный и одновременно эффектный способ организации элементов материи, как новый тип проектного творчества, задающего только векторы того или иного движения, набрасывающего общий контур будущей структуры. Проектный характер конструкций получил одно из наиболее своеобразных воплощений в творчестве Эль Лисицкого. Беспредметные рельефы Лисицкого в его знаменитой Комнате про-унов (1923) демонстрировали особый тип конструктивистской эстетики. Парадоксальный рационализм, возведенный на уровень метафизики, отвлеченная игра с идеальными формами, объемами, цветом определяли особенности этой работы Лисицкого. Комната проунов представляет особую подвижную и одновременно метафизически недвижимую, абсолютную форму конструкции. Тем не менее для Ли-
сицкого работа с трехмерными объектами всегда подчинялась логике, сформулированной именно внутри картинного пространства. В его трехмерных проунах нет собственно ощущения материала, нет ни преодоления материала, ни выявления его скрытой структуры. И в трехмерном пространстве художник работает с умозрительной реальностью, родившейся на его живописных холстах.
В Комнате проунов Лисицкого проступают контуры нового вида деятельности художника - дизайна. Точнее в них предстает некая метафизика дизайна - особая философия эффектного, эстетически оформленного, и в то же время рационального и делового растворения искусства, стирания его неповторимых контуров. Во многих отношениях дизайн представлял противоположность тем тенденциям, которые интересовали меня в этой работе. Он развивал не столько стратегии преодоления, трансформации, изобретения, сколько - адаптации и нивелирования.
Футуристический «грим»
Особая роль современного городского пространства в формировании многих свойств авангардного искусства отмечалась уже не раз. Новые отношения человека с пространством в современном городе, новый стиль и ритм жизни, новая психология влияли на способы видеть, на механику зрения. Они требовали особого языка, адекватного новой реальности. Подвижность, актуальность, мгновенность, массовость, рассредоточенность в пространстве, а с другой стороны, конкретность, физиологизм, телесность, непосредственность - это тот образ творчества, который в наибольшей степени соответствовал новым реалиям жизни.
В авангардной культуре 10-х начала 20-х годов само произведение искусства нередко утрачивает центральное положение, оказываясь подчас боковым феноменом в творческой деятельности. Художников все чаще привлекает нечто вокруг искусства - атмосфера, жизненный ритм, который искусство не только улавливает, но который оно также способно создавать. Художники в 10-е и особенно в начале 20-х годов настойчиво пытались найти такие формы существования искусства, которые размыкали бы границы художественного произведения вовне. Такое смещение акцентов связано с принципиальным изменением в интерпретации самой природы искусства. Произведение искусства не является больше самоцелью, самодостаточным автономным миром. Оно рассматривается как средство достижения определенного внутреннего опыта, как инструмент для создания особой атмосферы.
Этот тип творчества в русском искусстве 10-х годов наиболее последовательно проявился в деятельности М.Ларионова и его сорат-
ников. Концепция раскраски лица, созданная в 1913 Ларионовым и И.Зданевичем, оказалась одной из наиболее ярких манифестаций новой формы существования искусства.
И в стилистическом отношении, и по времени своего появления раскраска тесно связана с лучизмом. Концепция живописного лучиз-ма изначально тяготела к своеобразному универсализму, предполагая распространение лучистской стилистики на поэзию, драматургию, сценографию, режиссуру и моду. Новый стиль предполагал проницаемость, взаимную открытость как отдельных видов искусства по отношению друг к другу, так и в более широком смысле - открытость искусства и жизни. Во многом сама живописная концепция лучизма провоцировала такую открытость: художник-лучист работает со «скользящей», подвижной реальностью - отражения лучей, световые потоки, «цветная пыль», т.е. нечто, не имеющее границ и рассеянное повсюду. Лучистая картина - это некий сгусток, концентрация лучей, или «цветной пыли», рассеянных в пространстве жизни. Лучистая картина собирает, концентрирует эту «цветную пыль» и в свою очередь (подобно множеству других предметов в окружающей реальности) посылает лучи зрителю. Картина становится не только скользящей, по словам Ларионова, но и прозрачной, разомкнутой во вне («Картина является скользящей... живопись делается равной музыке»). В лучистской раскраске Ларионова и Зданевича абстрактные рисунки, помещенные на лице или на теле, всегда оказывались вплетены в общий стиль искусства, в общую систему взаимодействия искусства и жизни.
Как и живописный лучизм, футуристический «грим» тесно связан с футуризмом. Некоторые аспекты футуристической эстетики оказываются принципиально важны для понимания концепции Ларионова и Зданевича. В качестве одного из источников для рождения концепции раскраски можно указать футуристическое симультанное зрение, принципы которого были описаны во многих манифестах. Один из наиболее эффектных элементов симультанного зрения связан с моментами, когда предметы, находящиеся на расстоянии друг от друга, зрительно воспринимаются расположенными на одной плоскости. Исчезновение дистанции между предметами, проницаемость мира, неустойчивость предметных границ - все эти характеристики симультанного зрения получили свое преломление и в искусстве футуристического «грима».
Вторжение искусства в жизнь и жизни в искусство сообщает подвижность, динамику искусству и в то же время распвшяет искусство, растворяет его в потоке ежеминутных впечатлений, событий и ощущений. Эта тенденция со всей определенностью проявилась
именно в футуристическом движении. Многочисленные художественные проекты, которые, на первый взгляд, могут показаться простой причудой или эпатажными выходками - футуристической одежды, футуристической кухни, важными компонентами которой были вкусовые ощущения и запахи, особой футуристической жестикуляции, живописи звуков, шумов и запахов - рассредоточивали, рассеивали искусство, лишали его характеристик устойчивости, неизменности, неподверженности потоку времени.
Концепция раскраски Ларионова также сопровождается появлением ряда проектов, среди которых проекты футуристическойлкух-ни (опередившие, кстати, на много лет итальянских футуристов), футуристической моды, футуристического театра и кинематографа. Иными словами, футуристический «грим» существует как элемент более широкой и универсальной программы нового искусства, которую намечает Ларионов и его группа.
И в классическом итальянском футуризме, и в ларионовской концепции раскраски возникает пространство размытых границ физического и умозрительного. В результате футуристической динамизации жизни рождается мир, где все стало скользить, смещаться с устойчивых позиций. Физиология, материя, человеческое тело пропитываются какими-то особыми ритмами, лишающими их однозначности, определенности.
Однако, несмотря на явную связь с футуризмом, в концепции Ларионова появляются и принципиально новые моменты. Их можно назвать пред-дадаистскими. В раскраске лица у русских будущников (а также в сопровождающих ее теориях новой моды или новой кухни) нет идеологического пафоса, нет столь важных для футуризма мотивов героического, волевого преображения жизни, воинственного противостояния прошлому. Напротив, здесь господствует игровое начало, демонстративная легкомысленность и абсурдизм. В ларио-новских проектах уже начинают проступать контуры той глубинной «анархической сущности искусства», которая столь интересовала европейских дадаистов. На пересечении футуристической и дадаист-ской эстетики и рождается новый тип изображения футуристического «грима» - делокализованный, лишенный устойчивости, изменчивый, свободный от привычных символических контекстов (пространства холста, с его жесткой системой координат и рамы). В новом виде художественного творчества появляется возможность рассредоточить, рассеять следы живописи в хаотическом потоке жизни.
Городское пространство, причем именно современное - с автомобилями, трамваями, электрическим светом, телефоном и телеграфом, яркими витринами и движением толп - это среда, провоцирую-
щая рождение нового искусства. Раскраска лица вписана в эту скользящую, изменчивую, динамичную реальность, в буквальном смысле слова, растворена в ней. Эскизы раскраски, т.е. собственно графические рисунки, непосредственно связывались их создателями с реалиями городской жизни. Стилистически они связаны также с городскими темами в графике Ларионова.
Еще одна важная сфера культуры, с которой соотносят свою концепцию раскраски Ларионов и Зданевич, - мода. Почти одновременно с рождением футуристического «грима» московские газеты сообщили о скором издании «Манифеста к мужчине» и «Манифеста к женщине» Ларионова, в которых предлагалась концепция новой моды, нового стиля. Ларионов и Зданевич сознательно использовали для искусства футуристического «грима» определенные культурные механизмы, управляющие модой. Мода стала для них прежде всего инструментом вторжения искусства в социальную реальность, внедрения новой эстетики в массы. Вторжение искусства в пространство жизни, игровое, дразнящее и провоцирующее публику на какую-то ответную реакцию было важным элементом ларионовского проекта. Вся стратегия ларионовской группы была рассчитана на участие в футуристическом действе публики, строилась на резком столкновении искусства и жизни.
Определенное влияние на футуристическую раскраску оказали также идеи театрализации жизни Н.Евреинова. Его концепция «пред-искусства», связанного не с эстетическими представлениями, а прежде всего с эффектом преображения, трансформации реальности и психики творца, обнаруживают много точек пересечения с поисками русских авангардистов. Это перемещение внимания в область «пред-искусства» провоцировало также разрушение традиционных форм существования живописного изображения, меняло саму концепцию живописного языка. Главный вектор этих изменений был связан с выходом живописи за границы картинного пространства.
Создание особой атмосферы, своего рода де-реализация реальности, внедрение ритмов, энергии искусства в повседневное течение жизни - эти устремления авангарда требовали трансформации традиционных способов существования искусства. Раскраска лица и футуристическая мода во многом опирались на схожие механизмы действия в культурном и социальном пространстве и использовали близкие приемы преодоления границ картинного пространства для создания новых форм искусства, распыленного в повседневной жизни.
Еще один элемент нового проекта культуры ларионовской группы также был связан с футуристическим «гримом». Я имею в виду театральные проекты Ларионова. (Речь идет именно о серии проек-
тов, изложение которых появляется в ряде периодических изданий в 1913 году). Они также создают эскиз особого пространства размытых границ мира иллюзорного, воображаемого и реальности, мира физического.
Один из наиболее эффектных вариантов раскраски, возникающих в театральных проектах Ларионова, связан с кинематографом. «Кцстюм будет просвечивать... большую роль при этом будут играть световые эффекты и кинематограф. Или среди прозрачной ткани будет помещаться источник света или же на нагую фигуру будет набрасываться световой костюм посредством кинематографа»3. По сути дела этот проект театрального костюма предлагает наиболее радикальную версию футуристической раскраски. Подвижное кинематографическое изображение, спроецированное на человеческое тело, световая, нематериальная природа кино создают эффект растворения человеческой фигуры, смещения границ физически достоверного и иллюзорного. Световые лучи кино, создающие световой вариант раскраски, представляют одновременно и самую радикальную версию лучизма.
Еще одна сфера реализации раскраски уже непосредственно была связана с кинематографом. В 1913 году ларионовская группа сняла фильм «Драма в кабаре №13». Сохранившийся кадр из фильма демонстрирует как раз ту целостную среду, в которой ритмика новых рисунков пронизывает все пространство, свободно перемещается с человеческого тела на окружающие поверхности - архитектуру и предметный мир. Бегущая череда кинематографических кадров предлагает новый тип зрительных образов, вовлеченных в движение, лишенных стабильности. Кинематограф словно провоцирует выход изображения за раму, освобождает его от границ картинного пространства.
Кино приучает глаза к новому способу существования зрительных образов и способствует рождению нового типа изображения, лишенного устойчивости, вовлеченного в движение, сорванного со своего традиционного места. Новый тип визуальности, созданный в футуристическом «гриме» - нелокализованной, эфемерной, скользящей, рассеянной в пространстве также близок кинематографической динамике. Живопись или рисунок больше не являются замкнутым, отстраненным от окружения миром. Они, буквально, растворены в ритмах окружающего пространства. У них нет строго определенного места, они могут существовать повсюду. Раскраска лица представляла первые образцы нового вида художе-
3 Футуристы и предстоящий сезон - Раннее утро, 1913, № 211,12 сентября, с 5
ственного творчества, цель которого - создание «делокализованно-го предмета искусства» (П.Вирильо).
«Площадная живопись»
В этой главе диссертации рассматриваются проекты праздничного оформления городов в первые годы после революции.
Праздничное оформление улиц и организация праздничных шествий воспринимались большинством художников как новый вид художественного творчества, как предложенная революцией экспериментальная творческая площадка. Еще не было устоявшихся, заданных извне, нормативов художественного языка. Прежде всего свободный поиск новых форм творчества определял интерес многих художников к этому виду деятельности. Среди очень неровного материала, связанного с этим видом художественной деятельности, можно обозначить некоторые общие тенденции, позволяющие увидеть важные грани процесса трансформации традиционного языка живописи.
Одна из специфических особенностей уличного искусства в первые послереволюционные годы была связана с восприятием городского пространства как своеобразного выставочного зала, с достаточно прямолинейным перенесением в новое пространство языка станковой живописи. Не столько развитие монументального, декоративного языка, сколько гигантизация, разрастание, выход за свои естественные пределы языка станковой живописи - этот процесс определял наиболее интересные стилистические особенности в оформлении первых революционных празднеств.
Со времени появления музеев и художественных салонов в европейской культуре Нового времени сложилась особая практика бытования искусства и особые формы контакта с произведением искусства. Согласно этим правилам, общение с искусством было вынесено за пределы повседневности, перемещено в особое пространство, и его созерцание подчинялось заранее заданным нормативам. В музейных залах каждая картина или скульптура встраивались в определенную систему отношений с другими произведениями искусства, становились не только объектом эстетического наслаждения, но и средством репрезентации истории, средством национальной самоидентификации. Отказ от этой практики музейного существования искусства был связан не только с эпатажными жестами авангардистов, не только с практическими задачами революционной агитации. Отказ от пребывания искусства внутри музейного пространства был сродни отказу от пребывания внутри исторического времени, выходу за пределы истории, с которым и ассоциировалась революционная мифология.
Кроме того, за антимузейными выступлениями авангарда узнается протест против той системы отчуждения, полярного разведения искусства и повседневного опыта, на которых строилось существование искусства. Процессы отчуждения, пронизывающие все сферы социальной и культурной жизни в «современном» обществе, подвергались ожесточенной критике, начиная уже с XIX столетия. Наиболее последовательный характер эта критика получила в марксистской философии. Противодействие системе отчуждения в современной культуре и обществе не случайно стало одним из стимулов именно «левых» движений в искусстве. В какой-то мере эта критика механизмов отчуждения также провоцировала выход искусства на улицу. Художники, отказываясь от музейных стен, искали новых форм контакта с искусством. Их основными характеристиками должны были стать непринужденность, естественность, непосредственность, позволяющие освободить процесс восприятия искусства от «ритуальных» правил.
В этой части работы подробно анализируются такие художественные акции революционного времени, как развеска картин на улице Д.Бурлюком и издание «Декрета о демократизации искусств», подписанного Маяковским, Каменским и Д.Бурлюком. В «Декрете...» объявлялось о создании особого типа искусства, свободного от прежней системы координат, рассеянного, рассредоточенного в пространстве города. Размещение картин на улицах принципиально меняло способы их восприятия. Вместо плоскости музейных стен или выставочных залов искусство попадало в пространство, наполненное неровностями, перепадами, случайными скрещениями различных позиций созерцания, динамикой и произвольной, несрежиссированной игрой света. В той тотальной изобразительной поверхности, в которую превращался город, не было места для линейной логики. Эта новая среда не позволяла разворачиваться какому-либо повествованию, в ней было невозможно историческое измерение. Вместо этого должен был возникнуть калейдоскоп, бесконечная череда образов, разбросанных, рассеянных, хаотически перемешанных в городском пространстве.
Праздничное оформление городских улиц, как отмечали уже современники, представляло определенный вызов порядку, закономерностям традиционного городского пространства, архитектурной доминанте, устойчивости самих координат существования и искусства, и зрителя. «Презрение к архитектуре» (Добужинский), стремление закрыть, спрятать, деформировать архитектуру, противопоставить логике и ритму архитектуры другой ритм, часто диссонирующий с архитектурным, это стремление отмечали многие современники в праздничных украшениях различных городов.
Архивные материалы (фотографии, эскизы) свидетельствуют о том, что архитектура в первые годы оформления праздников подвергалась существенной живописной деформации. Город не только был закрыт живописным декором, живописные украшения (панно, плакаты) создавали разного рода оптические эффекты, противоречившие логике архитектуры. Эти особенности оформления городских улиц рассмотрены на примере праздничного оформления Витебска Малевичем и его учениками и Дворцовой площади в Петрограде Альтманом.
Аналогию - хотя, конечно, не прямую - этим атакам на архитектуру представляет процесс переосмысления, а нередко и разрушения традиционной структуры книги во многих авангардных направлениях. Упорядоченная, жесткая структура книги, целиком подчиненная линейному письму, последовательному движению от начала к концу - эта «архитектурная» основа книги все чаще оказывалась неприемлема. Различные эксперименты с разрушением традиционной формы книги, выявление в письме нелинейных, ускользающих характеристик (почерк, помарки, интерес к пространствам между словами) соотносились с поисками новых форм искусства, свободных от целостности, устойчивости, архитектоничности своих традиционных пространств.
Еще одна важная тенденция в праздничном оформлении улиц была связана с исчезновением, стиранием границ и свободных пространств между архитектурными сооружениями. Пространства между отдельными зданиями стремятся закрыть, задрапировать с помощью панно и прочих украшений. В городе исчезает архитектурный объем, масса, ритмы чередования свободных пространств и зданий. Аналогию этим тенденциям могут составить некоторые версии городов будущего. Образы гигантских мегаполисов будущего в кино, в фотомонтажах, в литературной и в изобразительной фантастике наделены схожими качествами - это среда, пронизанная единым ритмом, в ней практически нет отдельных форм, свободно стоящих зданий. Все формы перетекают друг в друга, сливаются в единый пульсирующий образ. Архитектура, безусловно, в наибольшей степени сопротивлялась гуттаперчивости, текучести, неустойчивости нового мира, его погруженности в вечное становление. Она по своей природе противостояла тому жизненному потоку, с которым все чаще ассоциировало себя искусство. Архитектура будущего, существующая в проектах, усваивает многие характеристики этого нового гераклитов-ского мира. Она представляется как легкая, изменчивая, трансформируемая, прозрачная, текучая, распахнутая вовне, как бы пропускающая сквозь себя и пространство, и свет. Упорядоченные ритмы архи-
тектуры сменяются в них открытой вовне ритмической пульсацией массы зданий.
Создание искусственной среды, парадоксальной, деформированной реальности было основой праздничного оформления городских улиц в первые годы после революции. Особый акцент в этих экспериментах делался на скользящие, нестабильные, подвижные зрительные эффекты. Квинтэссенцией этих эффектов стало украшение сквера перед Большим театром в 1918 году. В этой работе принимали участие Н.Клюн, Ю.Анненков и живописцы из Высшей школы военной маскировки И.В. и О.В.Алексеевы.
Деконтекстуализация, фрагментация, исчезновение направляющих векторов для зрения - все эти эффекты, возникавшие на праздничных улицах, были сродни многим компонентам нового мироощущения, в котором прежняя рациональность и привычная система координат обнаруживали трещины.
«Принцип случайного»
Критика концепции разума, сложившейся в европейской культуре Нового времени, была одной из центральных задач в радикальных экспериментах авангардного искусства начала прошлого века. Эти критические тенденции проявлялись в самих творческих методах, в способах обработки материала, в системе отбора (сознательного или бессознательного) сюжетов и тем. Одна из таких устойчивых тем в новом искусстве связана с мифологией случайного.
Интерес к случаю в конце XIX и начале XX века оживляется главным образом в связи с общим кризисом рационализма. Случай рассматривается как один из феноменов, позволяющих вернуться к целостной картине мира, отвергнутой наукой Нового времени ради создания механической, жестко зависимой от причинно-следственных связей модели реальности. «Эрозия детерминизма» (Пригожий) с конца XIX столетия начинает определять многие основополагающие тенденции в науке. Различные проявления случайного, разрушающие механистическую модель действительности, служили своеобразным знаком особых измерений реальности, в которых не действовали законы причинности, механистического и детерминистского мышления. Термодинамика, статистическая физика, квантовая механика создали новую картину мира, важным элементом которого стала случайность, вероятностная модель реальности.
В искусство «принцип случайного» вносит энергию ускорения, освобождает в нем трансгрессивные силы. Разрушение устойчивого фундамента и привычных координат, возможность внезапных, катастрофических мутаций форм, пространства, времени, логики - все это
было частью «закона случая» (КАрп). Случай открывал рискованные и опасные пространства, провоцировал нарушение границ. Причем не только границ европейской рациональности, но и границ искусств, сформированных и очерченных согласно тем же законам человеческого рацио. Искусство, впустившее на свою территорию случайность, обнаруживает в себе присутствие негативных элементов, которые рациональное, детерминистское и механистическое мышление хотели бы исключить, оставить за порогом культуры. Случайность сопрягает искусство с тревожными и непроницаемыми для рацио сторонами человеческой жизни. Игра случая вводит в искусство особый принцип творчества, в котором освобождаются глубинные механизмы фантазии, родственные, бессознательной игре природы, незнающей о существовании человеческой рациональности.
Культ и мифология бессознательного, сложившиеся в начале прошлого века, стали также одним из важнейших стимулов интереса к «принципу случайного» в творчестве многих художников и литераторов. Позднее, развивая эти теории, К.Г.Юнг создал особую концепцию акаузальности. Причинно-следственные связи между явлениями, на которых основана европейская философия и культура Нового времени, задали определенные границы для понимания, мышления и творчества. Однако каузальная логика не является чем-то неизбежным, единственно возможным. В европейской культуре в античность и в средние века присутствовал иной способ мышления. Юнг в своих исследованиях назвал этот принцип синхронией.
Случайное - зыбкая грань, где для многих художников в начале прошлого века на мгновение пересекались слепая игра природы, биологических процессов и сверхчувственное. Случайность всегда соседствовала с чем-то загадочным - магией, чудом. Визионерское, таинственное, магическое часто перекликается со случайным, автоматическим творчеством.
Случай соотносится в искусстве этого времени также с понятием свободы. Свободное искусство, как правило, содержит в себе элементы эстетики случая. Творческие методы свободного искусства основываются прежде всего на идее освобождения, раскрепощения творческих сил. Автоматизм, экстаз, безумие, спонтанность - все это инструменты приближения к свободному искусству. Оно предполагает специфическую легкость, подвижность, трансгрессивность, но одновременно - угасание напряжения творческой воли, энергии преодоления и претворения материала.
Можно говорить о двух подходах к интерпретации случайного в авангарде 10-х начала 20-х годов. Один из них основан на поисках новой метафизики творчества, на исследованиях глубинной
психологии, бессознательной механики творческого процесса. Другой - использует прежде всего игровой, провокационный, а иногда - пародийный потенциал игры случая. Несколько схематизируя и упрощая ситуацию, можно говорить о двух версиях эстетики случайного в европейской культуре начала прошлого века - спириту-альной и игровой.
Неустойчивое состояние искусства, в которое внедрен «вирус» случайного, вынуждает постоянно балансировать между экзальтацией субъективизма и вторжением в творческий процесс внечеловече-ских, «элементарных сил», между рациональным планом, замыслом, методом и спонтанностью, мгновенной вспышкой озарения. Пожалуй, именно в позднем авангарде это напряжение достигает своего наивысшего накала. Оно одновременно становится знаком исчерпания ресурсов авангарда, знаком его границ и шагом в пространство совершенно новых форм жизни искусства XX столетия.
Введение в искусство случайного противоположно тенденциям редукционизма, упрощения, сведения сложного к элементарному, которые также были широко представлены в авангардном искусстве. Эстетика случайного, к которой обращаются многие художники и литераторы, связана с особой линией внутри модернистского искусства. Она прежде всего размывает жесткий стиль мышления, жесткие границы самого модернистского проекта культуры. Случай открывает в искусстве особую территорию, родственную новейшим научным исследованиям в области теории хаоса, фрактальной геометрии природы, квантовой теории и т.д. Эта модель реальности ускользает от рациональности, уклоняется от жестких схем, правил и методов, в ней размываются границы однонаправленного, линейного мышления. Однако она подчиняется своей логике и заключает внутри хаоса особый порядок. Именно такая модель реальности стала одной из постоянных составляющих в культуре XX столетия.
В русской культуре «принцип случайного» впервые программно вводится в эстетику нового искусства в работах Владимира Маркова, предвосхитившего многие эксперименты и открытия в этой области дадаистов и сюрреалистов. Специальный раздел данной главы посвящен анализу основных положений концепции случайного в теоретических работах Маркова.
В культуре начала века существовало много символических тем, изобразительных мотивов или своеобразных эмблем случайного. Эти символические образы случайного подробно рассматриваются в следующей части главы.
Одной из символических фигур случайного была карточная игра. Этот мотив постоянно привлекал внимание и художников, и
литераторов авангарда. Еще один мотив, также связанный с игрой случая — действия механизмов, неподчиненные сознанию, свободные от человеческой рациональности. Механическое и случайное часто перекликаются и соприкасаются в самых различных произведениях. Одна из версий механики случайного связана с темой неустойчивого равновесия, мгновения пойманного баланса в разбегающихся и готовых в любой момент рассыпаться формах. А.Пуанкаре в своей книге «О науке» баланс, неустойчивое равновесие считал одним из главных элементов в механике случайного. В искусстве конца 10-х и начала 20-х годов изобразительные мотивы, в тех или иных формах представляющие моменты неустойчивого равновесия, встречаются постоянно.
В XIX веке случайность соотносилась, как правило, с безумием, абсурдом, бессмысленностью. В случайном видели главным образом пугающее и разрушительное, скорее кошмар, чем непринужденную игру. В этом контексте классическими воплощениями случайного становятся разного рода монстры, уродства. XX век сохраняет интерес к подобным случайностям в игре природы, но вносит определенные поправки в интерпретацию этой темы. Монстр, или игровые отклонения от заданных природных норм, рассматриваются, скорее, с положительным знаком. Монстр по-прежнему предстает как отклонение от регулярности, правильности, но теперь в нем видят особую диалектику природы, ту творческую энергию природы, которая реализуется в случайных комбинациях элементов.
В русском искусстве случайность не превращалась в самостоятельный, самоценный творческий метод, каким она стала в творчестве многих европейских дадаистов. Она скорее присутствовала как подспудный лейтмотив, существовала как эпатажный жест, угадывалась как возможность в различных концепциях: в алогизме, в «моментальном творчестве» Крученых, в наобумном творчестве Те-рентьева, или, например, в футуристической раскраске лица, сливающейся и рифмующейся, согласно футуристической теории, со множеством случайных комбинаций окружающего пространства. В русском искусстве «принцип случайного» чаще реализовался не в тех или иных методах творчества, прямо основанных на игре случая, а в сознательно организованной стилистике, воссоздающей подобную игру. Стилистика случайного русских авангардистов также рассматривается как способ выхода за границы рациональности, жестко прочерченные в культуре Нового времени. И в тоже время она отличается от негативных, чисто нигилистических жестов «закона случая», в основе которого лежит угасание индивидуальной творческой воли. В стилистике случайного, напротив, ценность
приобретает само усилие нарушения границ рассудка, волевое устремление к этим границам.
Живописный алогизм в творчестве Малевича - представляет одну из форм существования «принципа случайного», предстающего здесь в качестве стилистического приема, особого оборота изобразительной речи. В алогизме Малевича случайность предстает как волевым образом сконструированный художественный язык. Малевич использует для описания эффектов случайного именно язык, хоть и деформированный и сотканный из «частей искрошенных миров». В своих алогичных произведениях Малевич ищет случайные смысловые совпадения между внутренним ощущением и внешним миром предметов, неподчиненные причинно-следственным связям.
Позднее метод волевого конструирования игры случая можно отметить в коллажной технике и фотомонтажах у Родченко, Телинга-тера, Крученых, Степановой. Еще одна версия особого языка случайного связана с разработкой некоторыми художниками стилистики автоматизма как спонтанного, подчеркнуто телесного, органического жеста.
Одна из основных версий эстетики случайного в русском авангарде связана с концепцией «естественного искусства», с наиболее радикальными версиями органической эстетики. Версия, условно говоря, органического радикализма, существовала в большей мере как проект и основывалась на «принципе случайного» в его чистом виде. Случайность в рамках такой естественной эстетики предстает прежде всего как элемент жизни, элемент ее непрерывного потока трансформаций, непредсказуемых поворотов и комбинаций, подчиняющихся своим - отличным от человеческой рациональности - законам. В этом жизненном потоке нет человеческой меры, человеческой рациональности, он не соразмерен человеческим пропорциям. И, тем не менее, действие этой силы способно порождать некие феномены, соприродные человеческому творчеству, способно создавать образцы случайной красоты.
В различных версиях «естественного искусства» случай предстает как основной инструмент творчества самой природы. Деятельность художника, включающего в свой творческий метод «принцип случайного» в его чистом виде, уподобляется действию природы. Граница между творчеством человека и случайным творчеством природы оказывается практически стерта. Такое творчество предполагает пассивность воли художника. Он только улавливает творческий поток в природе или в течении жизни, в который пассивно погружается.
Сама природа творит сцеплениями случайностей, за которыми возможно увидеть некую неиндивидуальную творческую силу. Ее ча-
стицы присутствуют также и в человеческом творчестве. Игра случая как раз и раскрывает, обнаруживает этот до-человеческий, биологический, не связанный с рацио и вообще с индивидуумом пласт в творческой деятельности. «Естественное искусство» наглядно представляет случайные совпадения, случайные сцепления человеческих, субъективных и вне-человеческих сил. Мгновения их попадания в резонанс друг с другом и дают возможность человеку видеть «естественное искусство» природы.
Примером такого понимания новых границ искусства могут служить скульптуры Михаила Матюшина из корней деревьев, которые он делает, начиная с 1913 года. Его скульптуры - произведения «естественного искусства» природы, созданные силой биологического роста, органического движения материи.
Эта версия эстетики случайного связана с принципиальным изменением в XX столетии представлений о границах искусства. В данном случае эти границы отодвигаются в глубину потока жизни, расплавляются в биологических процессах роста, развития, в метаморфозах материи, совершающихся под воздействием слепых, внешних факторов. Произведение искусства в этих радикальных проектах органической культуры теряет свои контуры. Оно возникает не как результат целенаправленных волевых усилий художника, а как результат случайных комбинаций природных процессов, которые в какой-то момент могут быть увидены и осознанны эстетически.
Новое зрение
С давних времен известна глубинная связь зрительного опыта или способов наблюдения, принятых в той или иной культуре, и самосознания человека, его методов постижения внешнего и внутреннего мира. Зрение традиционно связывалось с глубинными и первичными механизмами контакта с миром. Причем контакта не только с физическим миром. Именно зрение служит часто аналогией для «созерцания умом «духовных вещей».
Концепция нового зрения становится одной из центральных тем авангардного искусства 10-20-х годов. Исследование границ и предельных возможностей зрения, попытки увидеть незримое, утопии новой физиологии зрения, способной изменить не только привычные формы искусства, но также самого человека и социум, - эти проблемы занимают существенное место в культуре военного и послевоенного времени. В творчестве дадаистов и конструктивистов новое зрение предполагает уже не только преобразование изобразительного языка, но также трансформацию самих творческих методов,
самих контуров традиционных видов искусства и способов его социального бытования.
Конечно, в декларациях художников и литераторов новое зрение было в какой-то мере поэтическим мифом и метафорой, выражающими потрясение от стремительно меняющегося мира, его неведомых прежде темпов, агрессивности и дерзости. Вместе с тем значительная часть этой мифологии сложилась под воздействием реальных фактов и процессов. В XIX и особенно в начале XX столетия научные исследования природы и физиологии зрения, а также разнообразные технические изобретения или, если использовать выражения современных авторов - «оптические протезы», серьезно изменили весь предшествующий навык зрения.
Отдельная часть этой главы посвящена тем эпизодам из истории различных практик наблюдения в предшествующие эпохи, которые позволяют понять внутреннюю логику радикальных экспериментов в искусстве позднего авангарда. Эта предыстория нового зрения имеет принципиальное значение, т.к. концепции авангарда часто связаны с полемикой с предшествующими способами наблюдения или, наоборот, представляют собой попытки реконструкции «забытых» навыков зрения.
История зрительного восприятия, как правило, непосредственно связана с изобретением, развитием и распространением различных «машин зрения» - камера обскура, телескоп, фотоаппарат, стереоскоп, кино и т.д. За разнообразными оптическими устройствами всегда стоят определенные способы мышления, организации знаний, определенные представления о самом субъекте зрения. «Машины зрения» функционируют в культуре как нечто большее, чем простые механизмы, и традиционно рассматриваются как философские метафоры процесса познания, отношений человека с внешним миром и самопознания.
Для XVП-XVIП столетий философской моделью зрения многие авторы считают камеру обскуру. Камера обскура была непосредственно связана с особой метафизикой внутреннего. В интерпретациях Локка или Декарта она представляла идеальную модель человеческого разума как особого внутреннего пространства, в котором различные феномены внешнего мира, различные впечатления и ощущения проходят перед внутренним «глазом» - человеческим разумом. Попытки создания модели зрения, обращенной преимущественно к внутреннему опыту, или своеобразной концепции зрения без глаз, а с другой стороны, - размывание жестких границ между «внутренним» и «внешним» в процессе восприятия - все эти темы, восходящие к проблематике, обсуждавшейся еще в эпоху Просвещения, получат свою интерпретацию в новом зрении авангарда.
В середине XIX столетия все большее влияние на различные техники и философию зрения начинает оказывать новая научная дисциплина - физиология. Зрение предстает теперь частью общей психофизиологии, одним из физиологических и психических процессов, протекающих в человеческом теле и самым непосредственным образом связанных с телом. Оно лишается особого ореола избранности, особой мифологии, представлявшей человеческий глаз как микро модель целой вселенной или как таинственное зеркало души. Восприятие внешнего мира, а также познавательная способность и чувство прекрасного человека с позиций физиологии оказываются предопределены и ограничены устройством сетчатки глаза.
Новая модель последовательно замыкает зрение на тело и отказывается от посреднических функций разума в процессе восприятия. Именно эти изменения оказываются исходной точкой для рождения «автономного художественного зрения», определяющегося субъективными и уникальными возможностями и способностями телесного опыта.
Научные открытия в области физиологии зрения послужили также основой для изобретения разнообразных способов внешнего вмешательства в процесс видения. Зрение становится теперь исчислимым, подвластным количественным измерениям и соответственно открывается возможность различных манипуляций со зрительным восприятием: управления им, контроля за ним, деформации. В более широком смысле - новая модель зрения открывает перспективу разнообразных манипуляций с самим индивидом. Наряду с «непрозрачностью и физической густотой наблюдателя» вторжение механизмов, корректирующих или просто заменяющих глаз, оказывается еще одним принципиальным моментом в новой модели видения.
Следующая часть главы посвящена особой мифологии непосредственности в европейской культуре XIX века, тесно связанной с механизмами и философией зрительного восприятия. Стремление избежать условности и искусственности зрительного опыта, опосредованного определенными культурными навыками, сознанием и системой понятий, становится одной из устойчивых тем в культуре XIX века. Этой мифологии посвящена анализирующаяся в этой главе повесть Бальзака «Неведомый шедевр». Ее анализ позволяет раскрыть многие принципиальные для авангарда аспекты в мифологии непосредственного зрения. Желание избежать в искусстве отчуждающего эффекта репрезентации, уклониться от всех опосредующих механизмов, приводит к размыванию контуров самого искусства, исчезающего в попытках мимикрии под живую реальность. Этот пафос реального, которым жила культура XIX столетия, сохраняет свое значение
и для авангарда. Стремление создать произведение искусства, неотличимое от творений природы, - одна из устойчивых тем и русского, и европейского авангарда. Восприятие такого произведения должно быть свободно от всех условностей, от всех опосредующих звеньев (память, рассудок, согласование видимого и ранее известного). Обретение «первобытной» силы зрения становится также важным компонентом в общей мифологии освобождения от «репрессивного» давления культуры, сознания, традиции, религии и социума. Поиски такого естественного зрения приводят к самым границам «мира искусства», разрушая привычный облик произведения искусства и саму механику его восприятия.
Стремление очистить зрение от всех наслоений культуры и вернуть его в первобытное состояние представляли один полюс в мифологии нового зрения авангарда. Другой, напротив, был связан с попытками преодоления, деформации естественных, природных возможностей глаза.
Вторжение механики зрения чуждой человеческой природе, рождающей «неизъяснимое, неприятное чувство», стало еще одним мотивом в литературе XIX века, в котором воплотились предчувствия нового зрения. Этот мотив играет важную роль в повести Гоголя «Портрет». В повести искусство живописи предстает как деятельность способная воспроизводить живое зрение в мертвом материале, условно говоря, овеществлять взгляд. История портрета, в котором была нарушена, деформирована граница искусства, раскрывается в ряде мотивов, отсылающих к образам неестественного, трансформированного зрения. Магический портрет Гоголя, представляет мифологизированную версию или точнее - предчувствие будущего зрения сквозь «оптические протезы», зрения без тела и без человека. История отчуждения взгляда, рождение пугающего феномена взгляда, лишенного человеческого присутствия, взгляда, лишенного субъекта, рассказанная в повести, являет собой мифологический прообраз будущих оптических машин - многочисленных аппаратов наблюдения, считывающих и транслирующих «реальность», но лишенных каких-либо признаков человеческого присутствия.
Отказ от перспективы как от рационалистической схемы, иллюзорной и ложной, искажающей органику зрения, упрощающей и деформирующей живую картину реальности, был одним из центральных моментов в новых моделях зрения. С этой точки зрения авангардистский «разрушительный» пафос можно рассматривать как попытку вернуться к первичной, естественной модели видения. Однако тот контур нового зрения, который стал проступать в искусстве позднего авангарда, был не однозначен и наряду с пафосом реставрации ес-
тественного видения в нем присутствовал целый ряд мотивов, в которых можно угадать приметы тревожной и часто деструктивной механики зрения, господствующей в культуре всего XX столетия. Различные возможности манипуляций со зрением, различные «оптические протезы» (от телескопов и микроскопов до фото или кинокамеры), которые к началу XX столетия все энергичнее вторгаются в повседневную жизнь, приводят к результатам во многом противоположным любой естественности и даже простой физиологичности - к отрыву зрения от тела, к делокализации зрения, к расхождению зрительного восприятия и знания о мире.
Единственно возможная точка наблюдения, из которой может быть увиден и логически осознан мир, господствовавшая в прежних моделях, в новом зрении исчезает. Центрированное, имеющее одну позицию наблюдения, зрение в европейской культуре имело, как известно, свою теологическую интерпретацию. Общий кризис христианской культуры в XIX и начале XX столетий можно считать также одним из импульсов к изменению всей системы мировидения, к созданию различных моделей нового зрения. В начале XX столетия окончательно формируется зрение разбегающегося в разные стороны калейдоскопа, зрение ненаправленное, блуждающее, рассредоточенное. На смену математически выверенному монокулярному зрению, приходит зрение все более и более погружающееся в сенсорику тела и, несмотря на акцентированную субъективность зрительного опыта, стремящееся к максимальной анонимности, к парадоксальному зрению без субъекта.
Время становится одной из принципиальных категорий нового зрения, однако, оно выступает теперь в особом качестве. В новом зрении исчезает долгота, протяженность, неторопливость взгляда. Вместо созерцания культура обращается к погоне за зрительной мо-ментальностью, за эффектом непосредственного присутствия. Разрушение единого пространства видимости, световая неравномерность, чрезмерная отчетливость или, напротив, размытость образов, постепенно подчиняющихся механической оптике кадрирования и фокусировки, все это создает мерцающее, полное неопределенностей и ускользаний смысловое поле, в котором зрение нередко теряет свою умную природу. Оно оказывается частью телесного опыта, физиологическим процессом, или же элементом технических устройств. Зрительное восприятие внешнего мира утрачивает постепенно статус уникальной духовной деятельности. С распространением фотографии, а затем кинематографа зрение становится в большей мере технической, инструментальной ситуацией. С развитием техники репродуцирования и тиражирования зрительный опыт теряет свою уни-
кальность: увиденное однажды кем-то в объективе камеры оказывается доступно всем.
Модели нового зрения, к которым обращается поздний авангард, как правило, связаны с исследованием предельных, пограничных возможностей зрения. Они совмещают микроскопическое и телескопическое видение, пытаются поймать, сделать доступным для глаза парадоксальные пространства, где пересекаются или соприкасаются «внутреннее» и «внешнее», иллюзия и реальность, физиология и мистика, чистое зрение и отвлеченное мышление. Разрыв между деятельностью духа и зрением, деперсонализация зрения становятся к началу 20-х годов одновременно и важнейшими слагаемыми идеальной модели нового видения, и проблемой, границей разрешить и преодолеть которую пытается искусство позднего авангарда в собственных опытах нового зрения.
В русском авангардном искусстве существовало множество версий нового зрения, в которых по разному интерпретировалась эта проблематика. Тем не менее можно отметить некоторые общие свойства, в той или иной мере присутствующие у разных художников. Новое зрение в искусстве русского авангарда лишено какой-либо жесткой системности, оно не поддается линейным классификациям. Скорее оно балансирует, мерцает между двумя полюсами. Условно их можно обозначить как «реальность» галлюцинаций, внутренних видений и мир «оптических протезов», существующих в реальности технической. Оно располагается между стремлением к «чистым ощущениям», растворяющим зрение в телесном опыте, и стремлением к полной замене живого глаза «машинами зрения». Порой творчество одного и того же художника в разные периоды тяготеет то к одному, то к другому полюсу.
Различным моделям нового зрения в творчестве М.Матюшина, К.Малевича, Эль Лисицкого посвящены следующие разделы главы.
Специальный раздел главы связан с исследованием различных образов зрения без субъекта в искусстве авангарда конца 10-х начала 20-х гг. Многие произведения этого времени демонстрируют особую оптику, особые ракурсы, непредполагающие человеческое зрение. Как правило, это «взгляд» оптического протеза, взгляд без субъекта. Конечно, наиболее выразительные достижения в этом плане были сделаны в кинематографе и отчасти в фотографии. В изобразительном искусстве также существовали способы воссоздания такого анонимного, механического взгляда. Различные образы зрения без человека - постоянная тема в коллажах и фотомонтажах. Совмещение множества точек наблюдения, диспропорциональность, немыслимые пространственные скачки стирают в коллажах субъект зрения и не
позволяют соотнести этот расколотый, умноженный взгляд с естественной оптикой человеческого глаза. Еще одно важное свойство коллажей - исчезновение антропоморфного масштаба и пропорций. Традиционному картинному пространству в той или иной мере присущ антропоморфный характер. Его иерархия (ближе/дальше, большой/маленький) задается размерами человеческого тела, даже если в конкретном изображении оно отсутствует и только гипотетически мыслится. Структура коллажа, предполагающая полную разбаланси-рованность всех пропорций и масштабов, исключает такое соотнесение. Такое зрение представлено во многих коллажах и фотомонтажах Родченко, Клуциса, Телингатера. Особую версию зрения без субъекта создал также Малевич в своих алогичных картинах.
В более широком плане вторжение различных механизмов в человеческий организм, образование странных симбиозов машины и тела - становится одной из постоянных тем в искусстве позднего авангарда. Человеческое тело в искусстве конца 10-х и начала 20-х нередко заменяется разного рода механическими «протезами». Оно приобретает, условно говоря, монтажный характер - строится из разного рода механических элементов, знаков, объектов, даже обыденных бытовых предметов. Такие механизированные тела создает в начале 20-х годов Лисицкий в серии своих Фигурин для оперы «Победа над Солнцем» (1920-1921) или К.Редько (многие работы начала 20-х такие, как: «Муж и жена», 1922, «Голова», 1922 РГАЛИ).
В русском авангарде образы механизированного человека были, как правило, связаны с оптимистической утопией рождения нового человека. Непременными слагаемыми этой утопии в послевоенное время становятся, если перефразировать Шопенгауэра, «мир как труд и производство», а также «философия коллективизма». Эти проявления «духа современности» оказываются идеологической основой и для нового зрения «оптических протезов», и для сближения человеческого организма и машины.
Слияние человеческого организма и машины самым непосредственным образом связывается с рождением особого коллективного зрения. Одно из требований этого коллективного, анонимного зрения - скользящий характер изображения, его мгновенная схватывае-мость, не предполагающая, точнее - заведомо исключающая сам процесс созерцания. Мир как труд и производство стремится как можно дальше уйти от любой созерцательности, забыть сам навык созерцания, заменив его ритмической организацией точечных оптических эффектов, в наибольшей мере соответствующих непрерывному механическому ритму «работы живого человеческого двигателя». На таких мгновенных ритмических, пульсирующих эффектах пост-
роена рекламная и пропагандистская продукция конструктивистов (плакаты, фотомонтажи, журнальный и книжный дизайн). Новая культура, которая создается массами и для масс, последовательно уклоняется от всех созерцательных навыков, стремится максимально освободиться от «немого мышления живописи», размывая тем самым сам контур, устойчивые границы традиционного «мира искусства».
Еще одна версия испытания предельных возможностей зрения была связана в искусстве конца 10-х и начала 20-х годов с темой света, точнее - с попытками создания особого вида художественного творчества использующего свет в его чистом виде. Описанию этих проектов посвящена следующая часть главы. В этих проектах речь прежде всего идет не столько о свете изображенном, или о световых метафорах в живописи, сколько о физическом, и еще точнее - электрическом, машинном свете и его воздействии на цвет, форму, а также человеческое сознание и психику. Как правило, обращение к светоживописи связывалось с поиском «абсолютных», окончательных форм искусства, полностью свободного от своей материальной формы.
Нулевая степень изображения, к которой тяготели многие художники в позднем авангарде, в своем логическом развитии предполагала полный отказ от живописи, переход к работе со светом, с готовым предметом, с реальными материалами. Однако и внутри «традиционной» живописи существовали метафорические формы нулевых, последних картин. В следующей части работы рассматриваются варианты нулевой живописи, представленной в серии супрематических работ Малевича «белое на белом» и в работах Родченко из серии «черное на черном» и «Гладкие доски», в которых также получили свое воплощение многие принципиальные компоненты нового зрения авангарда.
Основные работы, опубликованные по теме диссертации
Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубежа веков. М., ГИИ, 1999, 243 стр.
Русский авангард: истоки и метаморфозы. М., Пятая страна, 2003, 302 стр.
Живописная скульптура. - Искусствознание.2/03. с. 384-407.
Экспрессионизм и дада. - Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. М., Наука, 2003, с. 174—188.
Философия коллективизма в советской живописи 30-х годов. Искусствознание №2, 2001, с.489-506.
Жест в поэтике раннего русского авангарда. - Авангардное поведение. СПБ., 1998, с.49-61.
В печати:
Русский авангард: границы искусства. М., НЛО. 2005 , 12 а.л.
«Принцип случайного» в теоретических работах В.Маркова. -В сб.: Вольдемар Матвей и «Союз молодежи». М., Наука, 2005, с. 113-124.
Беспредметный коллаж. - В сб.: Абстракция в России. Пути и судьбы. СПБ., Palace Editions, 2005, 1 а.л.
349
2 2 MM /805
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора искусствоведения Бобринская, Екатерина Александровна
Введение.1
Коллаж. Фотомонтаж.24
Живописная скульптура.83
Конструкция.123
Футуристический «грим».152
Площадная живопись».173
Принцип случайного».195
Новое зрение.:. 239
Список научной литературыБобринская, Екатерина Александровна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"
1. Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. Материалы и исследования. М., 1971, (223 стр.).
2. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. Под ред. В.Толстого. М., 1984 (290 стр.).
3. Альманах Дада, М., Гилея, 2000 (206 стр.).
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996, (90 стр.).
5. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск, 1999 (1407 стр.).
6. Бернштейн Б. Пигмалион наизнанку. М., 2000, (219 стр.).
7. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986 (235 стр.).
8. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000, (257 стр.).
9. Бурлюк Д. Фрагменты воспоминаний футуриста. СПБ, 1994 (382 стр.).Ю.Валери П. Об искусстве. М., 1976 (622 стр.).И.Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001, (446 стр.).
10. Великая утопия. Каталог выставки. Мм 1993 (832 стр.).
11. Вирильо П. Машина зрения. СПБ., 2004, (139 стр.).
12. Газета футуристов. 1918, №1
13. Гурьянова Н. Тема игральных карт и карточной игры в художественной культуре раннего русского авангарда. Europa Orientalis, XVI/1997, 2, с.289-303
14. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне. Тексты, иллюстрации, документы. М., 2002 (559 стр.).
15. Декарт Р. Рассуждение о методе. M-J1., 1953
16. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПБ., 2001, (263 стр.).
17. Э.Дуглас Ш. Беспредметность и декоративность. Вопросы искусствознания, 2-3, 1993, с. 96-106
18. Дудаков-Кашуро К. Экспериментальная поэзия в западноевропейских авангардных течениях начала XX века. Футуризм и дадаизм. Одесса, 2003 (125 стр.).
19. Евреинов Н. Демон театральности. М., СПБ., 2002, (533 стр.).
20. Забытый авангард. Россия первая треть XX столетия. Сб. справочных и теоретических материалов. Сост. А.Очертянский, Дж. Янечек, В.Крейд. Нью-Йорк-СПБ., 1993, (278 стр.).
21. Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Под ред. Л.Магаротто, М. Марцадури, Д.Рицци. Bern, 1991(448 стр.).
22. Из литературного наследия Крученых. Сост. Н.Гурьянова, Berkeley Slavic Specialties, 1999 (498 стр.).
23. Изюмская М. Берлин дада и Россия. Терентьевский сборник 2, М., 1998, с.227-245.
24. Каменский В. Его-моя биография великого футуриста. М., 1918 (86 стр.).
25. Каменский В. Книга о Евреинове. Пг., 1917 (67 стр.).
26. Каменский В. Сочинения. Репринтное воспроизведение изданий 1914, 1916, 1918. М., 1990 (591 стр.).
27. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. В 2-х тт. М., Гилея, 2001. Том 1, (390 стр.). Том 2 (342 стр.).
28. Карасик И. «Современная нам форма в искусстве исследовательский институт.» Казимир Малевич в ГИНХУКе. - Малевич. Классический авангард. Витебск № 5, Витебск, 2002, с. 8-40.
29. Карасик И. Музей художественной культуры. Эволюция идеи. Русский авангард проблемы репрезентации и интерпретации. СПБ., 2001, с. 13-21.
30. Карпова Т. Художественные принципы искусства второй половины 19 века в зеркале искусства экспозиции. 19 век: целостность и процесс. М., 2002, 183-184.
31. Каталог выставки Владимир Татлин. Ретроспектива. Дюмон,1993, (414 стр.).
32. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003, (317 стр.).
33. Криспольти. Э.Джакомо Балла и футуристская реконструкция моды. -Балла. Картины. Футуристская мода. Декоративно прикладное искусство. Каталог, 1996, с. 17- 28.
34. Крусанов А. Русский авангард. Футуристическая революция 1917-1921. Т.2, кн.1, М., 2003 (804 стр.).
35. Крусанов А. Русский авангард. Футуристическая революция 1917-1921. Т.2, кн.2, М., 2003 (604 стр.).
36. Крусанов А. Русский авангард: 1907- 1932. Боевое десятилетие. Т.1, СПБ, 1996 (319 стр.).ЗЭ.Крученых А. Вселенская война.Ъ. Пг., 1916 (без пагинации)
37. Крученых А. Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера. СПБ., 2001, (477 стр.).
38. Кульбин Н. Свободная музыка. СПБ., 1910, (21 стр.).
39. Лапшин В. Из истории художественных выставок в России. Пинакотека №12. с.79- 87
40. Лебедева И. Лирика науки «Электроорганизм» и «Проекционизм». -Великая Утопия. Каталог выставки. М., 1993, с.185-193
41. Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. М., 1991, (251 стр.).
42. Лисицкий Эль. Преодоление искусства. Experiment/Эксперимент . Vol.5,1999, с.138-149.
43. Малевич К. Поэзия. Сост. и публ. А.Шатских. Мм 2000, (176 стр.).
44. Малевич К. Собрание сочинений в 5 тт. М., Гилея. Том 1, М., 1995 (393 стр.). Том 2, М.,1998 (370 стр.). Том 3, М., 2000 (389 стр.). Том 4, М., 2003 (358 стр.).
45. Манифесты и программы русских футуристов. Под ред. В.Маркова. Мюнхен, 1967, (183 стр.).
46. Манифесты итальянского футуризма. М., 1914, (77 стр.).
47. Мансуров Павел. Петроградский авангард. СПБ., 1995 (240 стр.).
48. Маринетти Ф.Т. Футуризм. СПБ, 1914, (241 стр.).
49. Матвей Волдемар. Статьи. Каталог произведений. Письма. Хроника деятельности «Союза молодежи». Neputns, 2002, (152 стр.).
50. Матюшин М. Не искусство, а жизнь. Жизнь искусства. 1923, №20, с.15.
51. Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992, (57 стр.).
52. Михневич Л. Витебские уличные празднества 1917-1923 годов. Русский авангард 10-х- 20-х годов и театр. СПБ., 2000, с.144-155.
53. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986, (638 стр.).
54. Наков А. Русский авангард. М., 1991 , (190 стр.).
55. Неизвестный русский авангард. М., 1992, (349 стр.).
56. Никольская Т. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси 1917-1921. М., 2000 (192 стр.).
57. Никольская Т. Авангард и окрестности. СПБ., 2002 (317 стр.).
58. Органика. Новая мера восприятия природы художниками русского авангарда. Каталог выставки. М., Московский центр искусств, 2001 (255 стр.).
59. Органика. Беспредметный мир природы в русском авангарде XX века. М., 2000, (131 стр.).
60. Панофски Э. Перспектива как «символическая форма». СПб., 2004, (335 стр.).
61. ПасО. Замок чистоты. Художественный журнал, №21,1998, с.15-19.бб.Повелихина А. Теория Мирового Всеединства и Органическое направлениев русском авангарде XX века. Органика. Беспредметный мир Природы в русском авангарде XX века. М., 2000, с.8-17.
62. Поляков В. Книги русского кубофутуризма. М., 1998 , (299 стр.).
63. Поспелов Г. Бубновый валет. М., 1900 (268 стр.).
64. Пунин Н. О Татлине. М., 2001 (126 стр.).
65. Родченко А. Опыты для будущего. М., 1996, (414 стр.).
66. Родченко А., Степанова В. Будущее единственная наша цель. Каталог выставки. Мюнхен, 1991, (258 стр.).
67. Русский авангард. Проблемы репрезентации и интерпретации. Сборник по материалам конференции. СПБ., 20001, (272 стр.).
68. Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. Сост. В.Терехина, А. Зименков. М., 1999, (479 стр.).
69. Сануйе Мишель. Дада в Париже. М.,1999, (637 стр.).
70. Сарабьянов Д. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998, (432 стр.).
71. Сидорина Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М., 1995 (240 стр.)
72. Соколов И. Индустриально ритмическая гимнастика. М., 1921 (56 стр.).
73. Степанова В. Человек не может жить без чуда. М., 1994 (303 стр.).
74. Стригалев А. Пройдемся по выставке «Ноль- десять». Русский авангард: проблемы репрезентации и интерпретации. СПБ., 2001, с.71-109.
75. Тарабукин Н. От мольберта к машине. М., 1923 (78 стр.)
76. Татлин В. Отвечаю на «Письмо футуристам». Анархия, 1918, №30, 29 марта
77. Турчин В. Образ двадцатого. В прошлом и настоящем. М., 2003, (644 стр.).
78. Тцара Т. Манифест дада 1918. Как всегда об авангарде. Антология французского театрального авангарда. М., 1992, с. 28-36.
79. Успенский n.Tertium Organum. СПБ., 1992, (241 стр.).
80. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989, (447 стр.).
81. Хан-Магмедов С. Конструктивизм. Концепция формообразования. М., 2003, (575 стр.).
82. Харджиев Н. Статьи об авангарде. В 2-х тт. М., 1997. Том 1 (389 стр.), том 2 (315 стр.).
83. Шатских А. Витебск. Жизнь искусства 1917-1922. М., 2001 (255 стр.).
84. Шатских А. К.Малевич. Рисунки разных лет. Мм 2003, (79 стр.).
85. Шатских А. Постановки и проекты уновисского «нового театра». В сб.: Русский авангард 1910-х- 1920-х годов и театр. СПБ., 2000, с. 129-143.ЭО.Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. М., 2002, (409 стр.). 91.Эйзенштейн С. Монтаж. М., 2000, (588 стр.).
86. Эксперимент /Experiment. A Journal of Russian Culture. Institute of ModernRussian Culture, Los Angeles. Vol.5,1999 (227 стр.). ЭЗ.Элиаде M. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев- Москва, 2002, (224 стр.)
87. Юнг К.Г. Синхрония. «Ваклер», 2003, (317 стр.).
88. Юнгер Ф.Г. Совершенство техники. СПБ., 2002, (559 стр.).
89. Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб, 2000, (537 стр.).
90. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М., 2000, (287 стр.),
91. Ямпольский М. О близком. М., 2001, (238 стр.).
92. Altshuler Bruce. The Avant-Garde in Exhibition. N.Y., 1994 (287 pp.).
93. Arp J. Arp on Arp: Poems, Essays, Memories. Ed. By M. Jean. N.Y. 1972. (157 pp.).
94. Art in Theory 1900-1990. Ed. by C. Harrison &P.Wood. Cambridge, 1992 (1189 pp.).
95. Belting Hans. The End of the History of Art? Chicago & London, 1987 (112 PP-)
96. Bloch Ernst, The Utopian Function of Art and Literature. Cambridge:MIT Press, 1988. (245 pp.).
97. Bowlt J. Natalia Goncharova and Futurist Theater. Art Journal. Spring 1990, pp.44-51.
98. Brockelman T. The Frame and the Mirror. On Collage and the Postmodern. Northwestern University Press, 2001 (238 pp.).
99. Btaille G. Visions of Excess. Selected Writings 1927-1939. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1993, (271 pp.).
100. Butler C., Early Modernism: Music and Painting in Europe 1900-1916, Oxford: Oxford University Press, 1994 (367 pp.).
101. Calinescu M. Five Faces of Modernity. Duke University Press, 1987.(395 PP-)
102. Central European Avant- Gardes. Ed by Timothy O. Benson. Los Angeles, 2002 (447 pp.).
103. Collage . Critical Views. Ed. by K. Hoffman. UMI Research Press, London,1989. (427pp.)
104. Crary J. Techniques of the Observer. London, 1994 (171 pp.).
105. Dada Constructivism. The Janus Face of the Twenties. London, 1984. (140pp.)
106. Dada Performance. Ed. by Mel Gordon. N.Y., 1987 (165 pp.).
107. Dada Zurich: Clown's Game from Nothing. Ed. by. B.Pichon and K.Riha. N.Y. 1996 (275pp.).
108. Dada. Cologne, Hanover. Ed by C. Stokes and S. C. Foster. N.Y., 1997 (245 pp.).
109. Dada. L'arte della negazione. Catalogue. Roma, 1994 (678 pp.)
110. Dada. Studies of a Movement. Ed. by. R. Sheppard. Alpha Academic, Norfolk, 1980. (187 pp.).
111. Danto A. After the End of Art. Princeton, 1997 (239 pp.)
112. Danto Arthur C. The Wake of Art. G+B Arts International, 1998 (204 pp.)
113. Dawn Ades, Photomontage, London, 2000 (176 pp.).
114. Delaunay S. Album. Text by A.Cohen, N.Y. 1975 (270 pp.).
115. Dietrich Dorothea, The Collages of Kurt Schwitters. Tradition and Innovation. Cambridge University Press, 1993 (240 pp.)
116. Duchamp Marcel. The Writings of Marcel Duchamp. N.Y. 1973 (196 pp.).
117. El Lissitzky. Architect, Painter, Photographer, Typographer. Eindhoven, 1990 (219 pp.).
118. Fer Briony, Batchelor David, Wood Paul. Realism, Rationalism, Surrealism. Art between the Wars. Yale University Press, New Haven& London,1993 (342pp.)
119. Flight out of Time. A Dada Diary by Hugo Ball. University of California Press, Berkeley ,1996 (274 pp.).
120. Futurismo e Futurismi. A cura di P.Hulten. Milano, 1986 (639в pp.)
121. Gale Matthew. Dada& Surrealism. London, 1997 (447 pp.).
122. Gamard E.B. Kurt Schwitters' Mrezbau: The Cathedral of Erotic Misery. N.Y.,2000 (196 pp.).
123. Henderson L.The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Princeton: Princeton University Press, 1983. (369 pp.)
124. Kazimir Malevich: Suprematism. N.Y., 2003 (267 pp.).
125. Krauss R., The Picasso Papers , N.Y.1998, (179 pp.).
126. Lavin Maud, Advertising Utopia: Schwitters as Commercial Designer Art in America vol.73, no.10 (Oct. 1985), pp.134-139.
127. Lipsey Roger. An Art of our own. The Spiritual in Twentieth-Century Art. Boston&London, 1997 (518 pp.).
128. Lodder Christina. Russian Constructivism. Yale University Press, New Haven& London, 1983 (328 pp.).
129. Mitchell T. Orientalism and the Exhibitionary Order. In: The Art of Art History: A Critical Anthology. Ed. by D.Preziosi.Oxford University Press, 1998, p. 455-472
130. Montage and Modern Life 1919-1942. The MIT Press, Cambridge, 1992 (208 pp.).
131. N.Gurianova, Exploring Color. O.Rozanova and the Early Russian Avant-garde 1910-1918, N.Y.2000. (209 pp.).
132. Parton A. M.Larionov and Russian Avant-Garde, Princeton, 1993 (254 pp.).
133. Poggi C. In Defiance of Painting: Cubism, Futurism and the Invention of Collage. New Haven: Yale University Press, 1992, (387pp.).
134. Richter H. Dada. Art and Anti-art. London, 1997 (246 pp.).
135. Schwitters Kurt. Works and Documents. Katalog, Hannover, 1998 (287 pp.).
136. Sheppard R. Modernism Dada - Postmodernism. Northwestern University Press, Illinois, 2000, (480 pp.).
137. Sobieszek R.A., Composite Imagery and the Origins of Photomontage. -Artforum (Sept. 1978) pp.58-65.
138. The Art of Art History: A Critical Anthology. Ed. by D.Preziosi. Oxford University Press, 1998, (595 pp.).
139. The Dada Painters and Poets: An Anthology. Ed. by R.Motherwell. Harvard University Press, Boston, 1981 (413 pp.).
140. The Death of Art. Ed. by B. Lang. N.Y., 1984 (275 pp.).
141. The Eastern Dada Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe and Japan. N.Y., 1998. (389 pp.)
142. The Spirit of Montmartre. Cabarets, Humor, and the Avant-Garde, 18751905. Ed by Ph. D. Cate and M. Shaw. Rutgers, The State University, 1996 (249 PP)
143. Waldman Diane. Collage, Assemblage, and the Found Object. N.Y., 1992. (330 pp.).
144. Wescher Herta. Collage. N.Y., 1978 (412 pp.).
145. Yves-Alain Bois. Kahnweiler's Lesson. in: Painting as Model. Cambridge:MIT Press, 1993 (185 pp.).