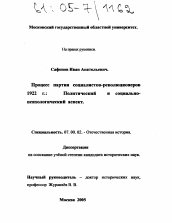автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Процесс партии социалистов-революционеров 1922 г. : Политический и социально-психологический аспект
Полный текст автореферата диссертации по теме "Процесс партии социалистов-революционеров 1922 г. : Политический и социально-психологический аспект"
На правах рукописи.
Сафонов Иван Анатольевич
Процесс партии социалистов-революционеров 1922 г. Политический и социально-психологический аспект.
Специальность 07. 00.02. - «Отечественная история».
Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук
Москва 2005
Работа выполнена на кафедре новейшей истории России Московского государственного областного университета
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
Ведущая организация:
Московский педагогический государственный университет
Защита состоится 30 ноября 2005 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д. 212. 155. 05. Московского государственного областного университета по адресу: г. Москва, ух Фридриха Энгельса, д. 21а. ауд. 305
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного областного университета по адресу: 105005, Москва, ул. Радио, д. 10 а.
Автореферат разослан «Лб» октября 2005 г. Учёный секретарь
д иссертационного совета ?
кандидат исторических наук. / / Никитаева Е. Б.
Журавлёв Валерий Васильевич.
Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, профессор Ерофеев Николай Дмитриевич доктор исторических наук, профессор Юрьев Александр Иванович
20о&-4
1/Г1М4
1. Общая характеристика работы.
Представленная работа является попыткой объективного комплексного рассмотрения важного, но малоизученного сюжета периода становления однопартийной советской общественно-политической модели - процесса, организованного в 1922 г. новой властью над наиболее авторитетными руководителями партии социалистов-революционеров (правых эсеров), и связанных с ним обстоятельств, оказавших влияние на развитие основ новой системы и судьбу российского общества в целом.
Актуальность ■ научная значимость темы. Социально-политическая актуальность темы обусловлена схожестью нынешней российской ситуации с периодом начала 20 вежа, когда, как и сегодня, в обстановке крушения старого режима и системного кризиса власти шСл процесс формирования многопартийности и предпринимались попытки на базе соперничества между основными партиями обеспечить функционирование политического механизма новой общественной модели. В ситуации, когда современная российская многопартийность сталкивается в своём становлении со значительными трудностями, особенно необходимым представляется осмысление предыдущего опыта, учет ошибок и политических просчетов предшественников. Наиболее показателен в этом отношении опыт партии социалистов-революционеров как партии, имевшей объективно наиболее широкие возможности для прихода к власти, а также как последней надежды сохранить в России многопартийную систему в начале 20-х годов прошлого века. Важным моментом в истории крушения этой партии, а с ней и российской многопартийности в целом является процесс, проведённый над ее руководителями » 1 о?"? г ------
Научная значимость исследования данной темы заключается в том, что за прошедший со времени процесса 1922 г. период не проводилось всестороннего рассмотрения и не была дана объективная оценка значимости этого события в отечественной истории. Долгое время изучение данного вопроса осуществлялось односторонне с позиций господствующе й идеологии Однако и в новых постсоветских условиях подходы к его рассмотрению обусловлены, как правило, политическими взглядами исследователей, что не дабт возможности дать объективную характеристику и оценку значения процесса ПСР 1922 г. Степень изученности темы. Изучение проблем, затронутых в данной работе, ведется уже довольно длительный ^период, и началось фактически после окончания процесса Однако наиболее распространенным подходом на сегодняшний день остаётся рассмотрение процесса 1922 г. как изолированного эпизода в рамках общей истории партии социалистов-революционеров, а также изучение отдельных аспектов процесса. Количество работ, где внимание уделено непосредственно процессу 1922 г., остается крайне ограниченным, большинство из них создано в советское время и содержит идеологизированный подход к теме. Тем не менее, совокупность предшествующих трудов, затрагивающих поднятые в реферируемой работе вопросы, берет своб начало еще в 20-е годы. Поскольку данная тема, как и все, что было связано с тематикой российских партий, находилась под пристальным контролем властей, периоды подъема и упадка интереса к ней в советское время во многом были связаны с идеологическими потребностями существовавшего тогда строя.
Начало исследованию эсеровского процесса было положено уже по его следам в 1922 г. Обстоятельства, связанные с его ходом и
непосредственными итогами, вынудили большевистское руководство провести в агитационных целях своеобразный анализ причин и задач проведённого ими процесса. Первыми работами, посвященными эсеровскому процессу, стали написанные по заданию агитационной «Пятерки» книги А. В. Луначарского,1 В. Н. Мещерякова,2 Ю. М. Стеклова,3 М. Н. Покровского4 я др. Эта труды положили начало изучению проблематики процесса 1922 г. и формированию определенного подхода к процессу и истории партии социалистов-революционеров в целом. При этом сами это работы вряд ли могут быть причислены к исследовательским, поскольку носят исключительно агитационный и политически заострённый характер. Автор признанной лучшей работы этого цикла А. В. Луначарский видел их главную задачу в том, чтобы «разоблачить внутреннее гниение партии и ее безусловно контрреволюционный характер за время после Февральской и сугубо после Октябрьской революции» 5 Кроме того, по времени выхода работ авторы еще не имели возможности анализировать долгосрочные последствия процесса и ограничивались в этом вопросе лишь предположительными идеологическими посылами. С окончанием процесса для властей некоторое время сохранялась проблема ликвидации остатков ПСР и снижения популярности ей идеологии и авторитета отдельных представителей у населения. В связи с этим на рубеже 20-х - 30-х годов интерес к эсеровской проблеме сохранялся. Именно в это время появляются труды, которые наряду с усиленным политическим компонентом содержали
1 Луначарский А В.Ьшпеащк. - М , 1922
2 Мещеряк»» В Н. Партия социалистов-революционеров - М, 1922
эОтесяоеЮ М 1Ьрти социалистов революционеров (правых эсеров) -М., 1922.
4 Покровский М Н Что установил процесс так называемых со1(калжт?п-реяалюиионероя. М , 1922.
' Луначарский А. В. У «аз. соч. С. 4.
в себе элементы исследования. К этому циклу следует отнести работы П. Лисовского,6 С. Черномор дика,7 Е. Ярославского.* Ещй в советское время данные публикации подвергались критике за поверхностность, неточность, слабую проработку темы. Но именно в них впервые была сделана попытка определения роли эсеров в событиях революции и гражданской войны и впервые введены в оборот характеристики ПСР как «(демократической контрреволюции» и «ширмы буржуазно-монархической реакции». Крах партии эсеров и ее идеологии предстаёт в данных работах исторически неизбежным, а процесс 1922 г. - как своего рода юридическое оформление этого крушения.
В середине 30-х годов в изучении истории партии эсеров и процесса 1922 г. наступил вынужденный перерыв, связанный с укреплением власти большевиков и отсутствием практической необходимости вести борьбу с эсерами. Последней работой по данной проблематике стала вышедшая в 1935 г. статья А. А гарвва «Борьба большевиков с мелкобуржуазными партиями».9 После этого в течение долгого времени исследования по данной тематике не проводились.
В конце 50-х годов в связи с изменением идеологической ситуации в СССР, начавшейся с критики И. В. Сталина и пересмотра утвержденной им исторической концепции, исследователям было позволено вернуться к закрытой в 30-е годы эсеровской проблематике. Период 50-х - 80-х годов следует признать наиболее плодотворным в еб изучении в советской исторической науке. Именно в это время история ПСР привлекает к себе внимание
* Лисоясхмй II На службе ппктыа - №, 1928. 1 Черноморда* С Эсеры -Хция, 1929. 'ЯрославскийЕ. Треть*скаа. М-, 1932.
* Агарв» А- Борьб« бояьдслицз»смеицзбуржудшыми парпамиУ/Пропагандист 1935 №6
многочисленных исследователей. Среди трудов по данной тематике следует отметить работы Ц И. Миица, начинавшего работу по данной проблематике еще в 30-е годы,10 К. В. Гусева, автора наибольшего количества работ связанных с эсеровской проблематикой,11 X. М. Астрахана,12 Л. М. Спирина,13 я т.д. Сохраняя в своих работах обязательный в условиях того времени идеологический компонент, эти авторы значительно продвинулись в изучении истории партии социалистов-революционеров и процесса 1922 г. Большое внимание уделялось изучению социальной базы и идеологии эсеров. В указанный период впервые получил освещение в исследовательской литературе феномен «мартовского эсера», связанный с в массовым вступлением в ПСР в марте 1917г. людей, не знакомых с основными программными положениями партии, не занимавшихся никакой партийной работой и преследовавших единственную цель: подчеркнуть этим свою приверженность революции Изучение этого феномена стало важным шагом в исследовании причин гибели партии. Однако наличие обязательного тезиса о закономерности гибели ПСР, ввиду ее «мелкобуржуазной» сущности, приводило к тому, что процесс 1922 г. не получил в данный период достаточного и объективного освещения и рассматривался большинством исследователей лишь как формально закрепленный итог деятельности партии социалистов-революционеров, незначительный второстепенны й эпизод советской истории тачала 20-х годов. Исключение составляет работа Д. Г. Голинкова «Крушение антисоветского подполья в
м Непролетарские парши России в 1917г ив годы гражданской войны - М, 1980 П Гусев К В. От соглашательства к контрреволюция. М-, 1968 Его же Большевики в борьбе ткпив мелкобуржуазных партий в России. - М 1969
1 Астрахлн Х М Большевики и их политические противники я 1917 г - М, 1973 "Банкротство непролетарских партий в России 1917-1922 Ч. 1 М, 1977
СССР»,14 ставшая первой попыткой подробного освещения процесса 1922 г., влияния внешних и внутренних факторов на его ход, международной поддержки эсеров европейским социалистическим движением, противоречий между Политбюро ЦК РКП и Верховным Трибуналом. Однако в рамках официальной идеологии выводы автора формулировались в русле уже установленных по данной проблематике оценок.
Масштабные политические изменения конца 80-х годов открыли новый этап исследований тематики политических партий, связанный с открывшимся доступом ко многим источникам, трудам западных исследователей и возможностью отказа от обязательного использования классового подхода. Период 90-х годов характеризовался повышенным вниманием к истории партии эсеров, выходом работ Д. Б. Павлова,13 Д. Г. Красилышкова,16 Н. Д Ерофеева17 Н. Д. Костина1* и др. Однако исчезновение идеологического пресса не привело к деидеологизации темы процесса 1922 г. и истории эсеров в исторической науке. По идеологическому признаку исследователи 90-х годов разделились на три направления. Первое продолжало полностью придерживаться прежних взглядов на эсеров и процесс 1922 г. Как пример подобного подхода можно привести работу Н. Д. Костина «Суд над террором». Ценность данной работы состоит в том, что это один из немногих трудов посвященных непосредственно процессу. Автор также пользуется собственно судебными и следственными документами и
14 Голиигов Д Г. Крушение антисоветского подполы в СССР Ч 2.-М, 1986
15 Павлов Д Б Болыжанстсаая дигпггур» против социалистов и анархистов 1917-середика 50-х годов.-М, 1999.
м Красияышвов Д. Г Власть и политические партия в переходные периоды отечественной вегорт. -Пермь, 1998.
17 Ерофее» Н Д Партия ооциалисгов-револкщионерои И Политическая история России в
партиях и лицах - М. 1993.
" Коспга Н. Д Суд над террором. - М, 1990
введет в оборот новые, ранее неизвестные документы. Однако явно односторонняя трактовка событий, связанных с процессом, снижает ценность данного исследования. Представители второго направления попытались создать своеобразный синтез старой советской концепции с новыми данными. Примером этого могут служить работы К. В. Гусева, вышедшие в начале 90-х годов.19 Третье направление характеризуется полным отказом от советской точки зрения и переходом на позиции, близкие эсерам-эмигрантам и западным исследователям: М. Янсепу,20 Р. Конквесту,21 Р. Пайпсу.22 Такой подход к теме преобладает в работах Д. Б. Павлова, Д Г. Красияьникова. Последовательно и аргументировано критикуя старые советские научные стереотипы, данные исследователи, тем не менее, также не избежали в своих трудах определенной идеологизации. Так, проблема исчезновения эсеровской партии после процесса 1922 г. сводится исключительно к репрессиям властей. Не подвергаются подробному исследованию такие вопросы, как слабые стороны партии и влияние процесса 1922 г. на крушение российских центральных органов и зарубежных организаций ПСР. Сам процесс, вслед за зарубежными исследователями, трактуется как «театр Агитпропа», «большой политический спектакль» и имеет, по мнению данных авторов, почт исключительно пропагандистское значение, что значительно сужает его реальные масштабы и результаты.23 Следует отметить, чпго в последние годы наметилась положительная тенденция к отходу от идеологических крайностей в данной теме. Примером
" Гусе» К В Рыцари террора М., 1992.
™ Янсен М, Суд без суда: 1922 г Показательный процесс соцналисгое-реаояоционфов. - М^ 1993
21 КоиквестР Большой террор. - М , 1988.
и Пайпс Р Росси» при боаьжхашх М, 1997.
25 Павлов Д Г Указ соч С 41.
s
может служить диссертация Л. Г. Косулиной «Эволюция теоретических основ и практической деятельности партии социалистов-революционеров в 1901-1922 гг.», где причины исчезновения партии социалистов-революционеров из политического поля России подвергаются всестороннему рассмотрению. Важные стороны истории и кризиса региональных организаций ПСР в 1922-23 гг. исследованы А. И. Юрьевым.24 Однако, на сегодняшний день тема процесса эсеровских руководителей в 1922 г. остается еще недостаточно разработанной, а значение самого процесса нуждается в специальном комплексном освещении.
Хроиологичеспе рамп темы. Диссертационное исследование охватывает период с 1918 по 1925/26 тт. Начальная дата определяется тем, что именно с 1918 г. в партии социалистов-революционеров отчетливо наметились тенденции, приведшие ее к судебному процессу 1922 г., где руководители партии и наиболее верные носители ее идеологии оказались на нем подсудимыми. Исследование доведено до момента, когда для партии эсеров сказались итоги процесса 1922 г. и она утратила последние возможности сопротивления большевикам и позиционирования себя как самостоятельной политической силы. Это произошло в середине 20-х годов.
Предметом данного исследования является анализ политического противостояния двух выразителей различных социалистических течений в переходный период начала 20-х годов, когда советская общественно-политическая система завершала свое становление и переходила в стадию углубленного развития.
24 Юрьев А. И Последнее страницы истории партии эсеров // Отечественная история 200]. №6
Объект исследования - процесс 1922 г., его предпосылки, ход и результаты в многостороннем комплексном рассмотрении. Методологическая осяовх «следования. На современном этапе развития исторической науки методологические возможности исследователя значительно расширены за счёт использования альтернативных многовариантных подходов. В данной работе использованы принципы историзма, объективности и системности, что обусловлено такими особенностями темы как многоаспектность, зависимость от субъективных факторов, вариативность. В качестве основных методов применялись элементарно-теоретический анализ, логический и ретроспективный метод. Важным методологическим ориентиром для автора явилась ведущаяся сегодня работа по моделированию основных направлений общественной мысли России в 20 веке, в том числе по выявлению эсеровского варианта социализма.25
Проблемы, связанные с процессом 1922 г., рассматриваются в работе в связи с основными событиями отечественной истории этого периода Таким обратом, суд над эсерами выступает как неотъемлемая часть и принципиально важное звено в историческом развитии советской системы в 20-е годы.
Цель и задачи исследование. Цель представленной работы — исследовать эсеровский процесс 1922 г. и выявить реальное влияние, оказанное им на выбор политических путей развития новой общественно-политической модели развития страны. Для достижения вышеуказанной цели ставятся следующие задачи:
25 Модели общественного переустройства России 20 век /Отв Ред. В В Шеяохаев М 2004
См также: Общественна* мысяьРоссии 18 - начала 20 всю. Энциклопедия/ Оп Реп В В Журавле*.-М., 2005
- Определить характер процесса ЦК Г1СР 1922 г , выявить общее и особенное в плане отождествления его с последующим и публичными процессами 20-х - 30-х годов через исследование политической ситуации и причин, побудивших власть к его проведению.
- Исследовать содержательную сторону процесса, определить степень виновности подсудимых в предъявленных обвинениях и фактическое участие и роль ПСР в ключевых событиях периода гражданской войны и начала 20-х годов, проанализировать основные источники по теме и определить степень их репрезентативности.
- Выявить непосредственные итоги и долгосрочные последствия процесса, определить степень соответствия политической ситуации, созданной непосредственными итогами процесса и его долгосрочными результатами, и причины возможных различий, определить степень влияния последствий процесса на дальнейшую судьбу партии социалистов-революционеров и формирование политических принципов советской юстиции и государственного строительства.
Источпковая база исследована. Источниковая база рассматриваемой темы представляет собой обширный и довольно разнообразный спектр самых различных документов и материалов. Многие из них долгое время оставались недоступными для изучения по идеологическим и политическим соображениям, либо ввиду их нахождения за рубежом. Более известные и доступные источники требовали иного уровня предварительного проведения критического анализа их содержания.
По степени достоверности и ценности содержания есть основания выделить несколько групп источников.
Первую и основную группу составляют документальные источники. Сюда входят документы следственного дела, протоколы судебных заседаний, постановления руководящих органов по вопросам, относящимся к подготовке и проведению процесса над эсерами, переписка большевистских руководителей с обменом мнениями о том, каким быть процессу, справочный материал ГПУ и Верховного Трибунала. К этой же группе принадлежат документы, непосредственно освещающие деятельность ПСР в России: материалы съездов и советов партии, резолюции и постановления областных конференций, переписка между внутрироссийскими организациями и различными отколовшимися группами наподобие «Меньшинства ПСР», которые партия пыталась в триод некоторого оживления подчинить своему влиянию. Долгое время часть этих источников находилась в ограниченном доступе. Ввиду изменившихся условий и из-за возросшего интереса к теме в последние годы было сделано несколько попыток суммировать и систематизировать известные материалы. С 19% г. коллективом исследователей издавался 3-томный сборник «Партия социалистов-революционеров: 1900-1925.» (ответственный редактор П. Д Ерофеев). В части 2 3-го тома данного издания содержит* значительная часть известных документов по теме. Еще более полным изданием является подготовленный в 2002 г. С. А. Красильниковым, К. Н. Морозовым и И. В. Чубыкиным сборник «Судебный процесс над социалистами-революционерами июнь август 1922 г.». Ценность данного издания заключается в разнообразии подобранных авторами документе» и публикации недоступных ранее материалов из архива ФСБ.
Долгое время неизвестными советским исследователям оставались материалы заграничных эсеровских организаций, главным образом
Заграничной делегации - формального высшего органа ПСР за границей. Заполнен этот пробел был в 1989 г. голландским исследователем М Янсеном, открывшим и систематизировавшим документальную базу заграничных -эсеров из т.н. «Амстердамского архива». Часть этих документов была им опубликована в сборнике «Партия социалистов-революционеров после октябрьского переворота 1917 г.». Ценность данных материалов повышает и то обстоятельство, что в них приведены копии отрывков стенограммы судебного процесса, которые попали затем в общую стенограмму в искаж&нном виде. Данная группа источников является основной для исследования по процессу. С их помощью раскрывается положение, в котором находились противоборствующие стороны в период подготовки и проведения процесса, трудности, с которыми им пришлось столкнуться, применяемую сторонами тактику и т. д. Вторая и весьма обширная группа источников - агитационные материалы, большую часть которых составляет периодическая печать. Пропагандистская кампания, развернутая вокруг процесса, с самого начала приобрела весьма значительные масштабы. «Пятерка», назначенная Политбюро руководить пропагандой, распределила выработанные лозунги среди наиболее крупных советских изданий для соответствующего освещения событий прошлого и происходящего. Материалы этих периодических изданий долгое время служили исследователям основным источником информации о процессе Ведущие газеты вели хронику процесса, освещая в весьма тенденциозном стиле происходящее на нем и временами приводя выдержки из стенограммы. Одновременно за границей разворачивалась руководимая Заграничной делегацией ПСР контрагитация, где также довольно тенденциозно освещалось всё происходящее на суде. Хотя
политическая ангажированность этих материалов, как с той, так и с другой стороны очевидна, их использование способствует раскрытию вопросов о краткосрочных итогах процесса, сильных и слабых моментах системы ведения большевистской и эсеровской пропаганды. Кроме того, нельзя характеризовать всю деятельность периодических изданий с обеих сторон только как массовую агитацию. Нередко факты, приводимые в пропагандистских целях противоборствующими сторонами, отражали объективную реальность, которая могла нанести урон политической репутации оппонента. Примерами такого рода служит раскрытие эсеровской газетой «Голос России» репрессивной деятельности ВЧК - ГПУ, а также таких проблем, как провал политики «военного коммунизма» и переход к НЭПу, который эсеры трактовали как «отступление от социализма». Со своей стороны большевистские газеты вскрывали такие болезненные для партии эсеров факты, как систематический и веб более углубляющийся раскол в еб рядах,
интервенпионалистские настроения её правого крыла, его сотрудничество с сомнительными организациями явно антисоциалистической ориентации Подобные идеологические атаки в определённые моменты способствовали значительным изменениям в ходе процесса, например, изменяли расстановку сил в большевистском руководстве по вопросу смертной казни для подсудимых. В связи с этим использование этих ИСТОЧНИК«! объективно способствует освещению процесса. Третью группу источников составляют публицистические произведения ряда участников событий, освещающие различные стороны процесса и истории партии социалистов-революционеров в целом. Образцами этого направления являются статьи В. М. Чернова «Вехи на трудном пути», «Разоблачитель», С. В. Маслова
и
«Прошлое провокатора», а с противоположной стороны - статья Г. Е. Зиновьева «Процесс эсеров и убийство Володарского». Данная группа источников - более, чем другие - требует критического подхода, поскольку их объективность в значительной степени перекрывается политической направленностью авторов Этим обусловлены свойственные подобного рода источникам противоречивость и наличие обильной недостоверной информации, не подтверждаемой другими материалами.
Сходные с предыдущей черты имеет четвёртая группа источников - мемуаристика. В рассматриваемой теме она занимает важное место. Наиболее значимым источником здесь является работа руководителя Центрального Боевого отряда и главного подсудимого в составе второй группы на процессе Г. И. Семенова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров. Конец 1917 -1918 тт.». Это, вероятно, наиболее противоречивый источник, полностью признанный одной группой исследователей и полностью отвергнутый как мистификация другой группой. Однако, ни тот, ни другой подход нельзя признать приемлемым, поскольку данные других источников содержат как подтверждения, так и опровержения отдельных фактов содержащихся в книге. При этом, личность и мотивы автора необходимо учитывать при исследовании этих мемуаров, поэтому автором представленной работы предпринята попытка осветить мотивы и обстоятельства её написания. Тем не менее, во многих отношениях мемуары Семёнова остаются ценным источником. Кроме воспоминаний Семенова к мемуаристике, связанной с процессом, следует отнести мемуары идейного лидера эсеров В. М. Чернова «Перед бурей» и их союзника, видного меньшевика В. С. Войтинского «Моя жизнь».
Во многом они требуют того же повышенного критического подхода, что и книга Семёнова.
Научная новизна исследования. Новизна диссертации состоит в том, что в ней содержится подробный всесторонний анализ процесса 1922 г.: как внешних форм его проведения, так и внутреннего содержания в виде предъявленных обвинений. При анализе внешних форм автором сделана попытка проследить становление механизмов советской политической культуры, появление новых принципов судопроизводства и манипулирования общественным мнением. В работе также содержится анализ краткосрочных итогов и долговременных последствий процесса, позволяющий дать взвешенную оценку значению процесса 1922 г. для дальнейшей судьбы партии социалистов-революционеров и становления новой советской общественной модели в целом.
Практическое значение диссертации состоит в возможности использования еб положений и выводов при подготовке исследований в области отечественной истории новейшего времени, а так же в учебном процессе средних и высших учебных заведений.
2. Структура и основное содержание диссертации.
Во введении обосновывается актуальность и научная значимость темы, определяются предмет и объект исследования, цели, задачи, методологическая база, обосновывается хронология темы и проводится еб аналитический историографический и источниковедческий обзор.
Первая глава «Причины процесса ПСР. Подготовка процесса.»
подразделяется на 2 параграфа: «ПСР и РКП (б): политический путь к процессу» и «Подготовка процесса. Внешние и внутренние
аспекты». В первом параграфе исследуются причины, приведшие некогда наиболее популярную и массовую партию социалистов-революционеров к критическому моменту процесса 1922 г., а также мотивы, побудившие большевистскую власть к проведению суда над эсеровскими руководителями именно в этот период, причем в неудобной для них публичной форме. Как начало системного кризиса ПСР в работе определяются события 1918 - начала 1919 г., (тачавшиеся «правым расколом» в партии, приведшим к появлению «левого раскола». В итоге завершился фактический отход наиболее верных носителей партийной идеологии - центристов огг идеи «третьего пути» и закончилась неудачей попытка договорённостей с большевиками, на которые те внешне демонстрировали готовность пойти и даже оформили эту альтернативу в виде постановления В ЦИК 26 февраля 1919 г. о «легализации» социалистов различных течений. Подобные расколы в ПСР случались и ранее (наиболее крупный привел к образованию в 1917 г. отдельной партии левых эсеров). Однако события 1918-19 гг. имеют качественно иное значение, т.к. впервые решения, утверждённые высшим органом партии - 4-м съездом, были нарушены всеми группами, на которые разделилась партия Особенно это проявилась в деятельности правой группы во главе с Авксентьевым и Зензиновым, фактически передавшей под видом «тактики обволакивания» власть в Сибири «реакции» и интервентам, а также в изменении ориентации левых (Вольского, Святицкого, Буревого), перешедших на проболыпевистские позиции. Однако и центристы, формально сохранившие верность партийной идеологии, пошли на серьбзные уступки большевикам, призвав своих сторонников отказаться от вооружйнной борьбы с большевиками и признав нелигитимны ми свои выступления от имени Учредительного собрания в обмен на
так и оставшуюся на бумаге «легализацию». Данное положение в партии привело к тому, что - при появлении в 1921-22 гг. возможности вернуть себе политическое влияние - она не смогла воспользоваться ситуацией из-за неустранбнного раскола и потерянного в результате пассивной политической линии влияния на массы. В то же время, проявившееся некоторое оживление местных организаций ПСР оказалось достаточным для того, чтобы большевистские власти почувствовали угрозу и необходимость покончить с политическим конкурентом. Публичная же форма проведения процесса диктовалась следующими обстоятельствами, необходимостью пропагандистски переиграть ПСР и переложить на неб ответственность за тяжблую ситуацию в страж, фактом признания эсеров влиятельными западными социалистическими организациями, прежде всего 2-м и Венским Интернационалами, а также демонстрацией «раскаяния» со стороны подсудимых второй группы — Г. И. Семенова, его бывших боевиков и сторонников.
Второй параграф главы посвящен подготовительной стадии процесса и развернувшейся в это время полемике между ПСР и РКП(б). Наибольшее внимание уделяется выстроенной большевиками системе органов для подготовки к процессу, причинам их неэффективной работы, а также полученным результатам. В качестве этих причин выделены: недостаток опыта подобной работы у работников аппарата, сотрудников ГПУ и Верховного трибунала, отсутствие единого понимания о том, каким должен стать предстоящий суд. Исследуется борьба между сторонниками равновесия политической и идеологической составляющей процесса во главе с председателем Верховного Трибунала Н. В. Крыленко и сторонниками преобладания политики над юриспруденцией во главе со Сталиным и Троцким,
закончившаяся в пользу последних. Одновременно рассматриваются контрмеры, предпринятые эсерами, проявившими в данной ситуации признаки сплочения. Итоги подготовительной стадии процесса позволяют сделать вывод о полном успехе эсеров, привлекших на свою сторону международное социалистическое движение и сочувствие даже в большевистской среде, и провал попыток большевистской власти создать позитивный облик «ренегатов» - сторонников Семенова и выработать в массах восприятие социалистов-революционеров как виновников гяжблой ситуации в России. Одновременно следует отметить, что при подготовке процесса начали проявляться характерные особенности, впоследствии присущие советской системе, такие как: подчинение судебной системы политике, усиление роли карательного ведомства, а также первая отработка методов манипулирования общественным мнением.
Вторая глава «Открытие, ход а итог процесса. Внешние и внутренние составляющие.» посвящена обстоятельствам открытия процесса, его ходу, внутреннему содержанию и непосредственным итогам. В данной главе автором сделана попытка найти ответ на вопрос об общем и особенном в процессе 1922 г. в сравнении его с более поздними публичными процессами, определить то новое, что родилось в советской судебной и политической системе во время суда. Проведен анализ соответствия предъявленных обвинений реальной действительности. Отдельным вопросом является определение реальных итогов процесса, вопросов о том какими вышли из него противоборствующие стороны, об их политических приобретениях и неудачах Глава подразделяется на три параграфа. Первый параграф «Открытие процесса. Иностранная защита и тактика властей» посвящен двум основным вопросам: о сроках
открытия процесса, важный в контексте исследования дальнейших событий, вопрос о ситуации вокруг иностранной защиты подсудимых первой группы и её значении для дальнейшего хода процесса. Автором исследуется, почему в невыгодной для себя ситуации связанной с откровенно проваленной подготовкой суда, было принято решение более не откладывать процесс. Анализ ситуации показывает, что основной причиной для этого была победа в ЦК РКП (б) политического крыла, выводившего на первый план не столько необходимость следования юридическим формам, сколько злободневные политические моменты (что видно из назначения председателем суда прямого ставленника ЦК Г. Л. Пятакова, наличие среда обвинителей и защитников второй группы публичных политических фигур (А. В. Луначарского и Н. И. Бухарина), и наличие таких политических моментов. Здесь, прежде всего, следует отметить иск главного идеолога IIСР В. М. Чернова в германский суд против пробольшевистсгской газеты «Новый мир», создававший для организаторов процесса угрозу параллельного расследования предъявленных обвинений, а также формирование заграничными социалистами-революционерами хорошо организованной трбхчастной защиты: иностранных социалистов из 2-го и Венского Интернационалов ( Э. Вандер вельде, К. Розенфельда, Т. Либкнехта), эсеров-эмигранггов ( Сухомлина, Гуревича и Кобякова) и русских адвокатов с дореволюционным стажем (Муравьева, Тагера). Такая сильная защита, учитывая плохую проработку материала ГПУ и Верховным Трибуналом, могла развалить выдвинутые против подсудимых обвинения. Наилучшим способом нейтрализации этой опасности было как можно скорее начать процесс, что и объясняет его открытие 8 июня. Исследуются причины и обстоятельства неожиданного развала защиты первой группы, ошва эмигрантов
ехать на процесс, а также взятой властями тактики на откровенное выдавливание иностранных защитников. Главным здесь является резкое изменение в отношении большевистской власти ко 2-му и Венскому Интернационалам и вопрос о выгодах для сторон от ухода с процесса иностранных защитников. Изменение отношения властей к иностранным адвокатам, по мнению автора реферируемой работы, связано с прорывами большевиков во внешней полигике (Генуэзская конференция, Рапальский договор), после которых посредничество иностранных социалистов во внешних сношениях РСФСР могло стать ненужным, а их мнение по процессу 1922 г. несущественным. В отношении же последствий отъезда иностранной защиты автор придерживается мнения, что большие политические дивиденды это принесло большевистской стороне, положившей таким образом начало превращению открытого процесса в недоступный для сочувствующих, сузившему возможности подсудимых защищаться, что являлось гораздо более серьёзным успехом, чем освещаемая рядом исследователей «моральная победа» подсудимых. Второй параграф «Ход процесса. Внешние формы и внутреннее содержание» является одним из ключевых в представленной работе. В нём разбирается ход процесса, тактика властей по его проведению, внешние формы ведения суда. Другой частью параграфа является анализ достоверности обвинений, предъявленных подсудимым. Исследуются те выявившие себя новые явления в советской судебной системе, которые позволяют установить черты сходства и различия процесса 1922 г. с последующими публичными политическими процессами. Во многом процесс стал предшественником всех последующих судебных действий 20-х - 30-х годов, поскольку именно здесь был впервые отработан механизм политического процесса, содержащий ряд действий неправового
характера Так, в частности впервые был применен принцип отбора публики в зал суда, предпринятый таким образом, чтобы туда не попали нежелательные лица, сочувствующие подсудимым. Задачей этой публики стало активное участие в процессе с целью воспрепятствовать подсудимым в осуществлении своей защиты. Другим неправовым действием можно считать участие в процессе рабочей делегации, не имевшей никакого отношения к суду и направленной на него в пропагандистских целях. Наиболее ярким проявлением новых форм ведения процесса и исследования улик явилась выдвинутая французским защитником второй группы обвиняемых Ж. Садулем теория «революционной юстиции», которую он определил как «принцип здорового игнорирования юридических форм», заключавшийся в том, чтобы «осуждать, не имея улик, базируясь исключительно на совокупности слов, позиций, поступков. Улики могут добираться, в дальнейшем, они вторичны».26 Впоследствии теория «революционной юстиции», развитая Крыленко и А. Я. Вышинским, использовалась при проведении всех значительных политических процессов. В то же время в проведении процесса 1922 г. и всех последующих имеются существенные различия. Эсеровский процесс ещ£ содержал элементы состязательности сторон, возможность спорить с судом, относительный либерализм в отношении подсудимых. Так, один из подсудимых второй группы Ю. Морачевский отказался поддерживать линию обвинения, но, несмотря на это, был оправдан.
Исследование содержательной стороны процесса вызывает затруднения в связи с обширностью периода, охваченного обвинительным актом и пробелов в источниковой базе. Это определяет отчасти гипотетический характер выводов по данной
36 Речи защитников Последние слова подсудимых М , 1922 С S0.
проблеме. Анализируя обвинительное заключение, автор приходит к выводу, что обвинения подразделяются на две части: большинство их носит чисто политический характер, отдельно стоит только обвинение в терроре, носящее как уголовный, так и политический характер По временным рамкам они охватывают значительный период, начиная с октября 1917 г. и заканчивая кронштадскими событиями и тамбовским движением. Системный анализ обвинений позволяет пересмотреть ряд укоренившихся стереотипов в науке в отношении роли подсудимых в происходящих событиях.
Сопоставив пункты обвинительного заключения, свидетельства очевидцев и ряд других материалов, автор приходит к следующим выводам:
1) Утверждения обвинителей и подсудимых первой группы о партии социалистов-революционеров как о «ведущей силе» похода на Петроград в октябре 1917 г. не соответствуют действительности. Согласно большинству источников, двинутые на Петроград войска враждебно относились к эсерам, отказались признать выдвинутого ими командующего и не приняли эсеровскую делегацию. Кроме того, как показывают материалы 4-го съезда ПОР, многие видные члены ЦК даже не были осведомлены о выступлении.
2) Обвинение эсеров в попытке вооруженного переворота в январе 1918 г. в период открытия Учредительного собрания и весной того же года при разоружении гвардейских полков и Минной дивизии является сильно преувеличенным. Существуют реальные свидетельства того, что в рядах эсеров существовал замысел подобного выступления (что, впрочем, отрицалось обвиняемыми первой группы). Однако практического воплощения этот замысел не получил, скорее всего, из-за недостатка наличных сил. Факты
же сотрудничества ПСР и гвардейских полков не подтверждаются документально: источники рисуют картину скорее неприязненных отношений преображенцев и семйновцсв к эсерам, а также влияние на них правой идеологии организации М.М. Филоненко.
3) Приписываемая эсерам обвинением роль «платных агентов Антанты» также в значительной степени не подтверждается источниками. Поддерживаемые Самарским и Архангельским правительствами отношения с англо-французским блоком в 1918 г. обосновывались в основном попытками эсеровских лидеров путем восстановления Восточного фронта возродить союзнические отношения в тех же рамках, какие существовали при царе, на основе признания Самарского правительства как «в серосс ийского». В свою очередь государства Антанты никогда не видели в эсеровских правительствах не только равноправного союзника, но и надёжного ставленника, что подчеркивал французский министр иностранных дел С. Пишон в письме министру иностранных дел Самары Веденяпину. После падения эсеровских правительств, в кагором западные союзники принимали активное участие, отношения ПСР (за исключением правого крыла) и Антанты становятся откровенно враждебными.
4) Что же касается обвинения эсеровских руководителей в организации и пособничестве Тамбовскому и Кронштадтскому выступлениям, то при наличии схожей с эсерами политической окраски (весьма сомнительной), участники этих движений имели с эсерами значительные политические разногласия. Так что утверждение о руководящей роли в них эсеров неправомерно.
5) Стоящее отдельно обвинение в терроре, служащее главным козырем обвинителей на суде и категорически отрицаемое
обвиняемыми первой группы, с наибольшей вероятностью является правомерным. Материалы 4-го съезда ПСР и показания обвиняемых первой группы Н. Н. Иванова и 6. В. Агапова, которые по своей роли в партии явно не были провокаторами, фиксируют наличие в руководстве партии террористических настроений, явную подконтрольность боевиков Семенова ЦК ПСР и участие в терроре путем подталкивания к совершению терактов и экспроприации по меньшей мере двух членов ЦК - Л. Р. Года и Д. Д Донского. Противники террора в ЦК, по всей видимости, просто не уведомлялись об этой деятельности партии Утверждение, что отряд Семенова являлся провокацией ВЧК, неправомерно, ввиду явной технической невозможности исполнения и бессмысленности в условиях, когда весь ЦК состоял из «принципиальных противников террора». Третий параграф «Первые итоги процесса 1922 г. Приговор.» посвящен тем результатам, которые были достигнуто противоборствующими сторонами к момету окончания процесса и приговору. Эти итоги, по мнению автора, были таковы:
1. Властям удалось в итоге «вытянуть» безнадежный, как казалось в начале, процесс. Это выразилось в успешной ликвидации защиты первой группы, причем таким образом, что сами защитники оказались в невыгодном положении.
2. Замена обычных принципов судопроизводства классовыми устранила проблему плохо подготовленного следственного материала и свела на нет юридические успехи подсудимых.
3. Обвинению удалось расколоть единство членов первой группы по отдельным моментам, как, например, в вопросе о терроре и структуре партии. Кроме того, подсудимым первой труппы ие удалось полностью оградить себя от обвинения в терроре.
4. Эсеровская пропаганда оказалась в целом неспособной доказать непричастность членов ЦК ПСР к террору, давая по этому вопросу явно ложные и противоречивые сведения.
5. Не удалось предотвратить возможность некоторой самоорганизации и мобилизации всех сил партии эсеров, даже находящейся в состоянии глубокого раскола Следовательно, большевики не добились политического уничтожения конкурента
6. Не удалось и политически изолировать партию эсеров. Хотя некоторые обвинения поколебали симпатии к эсерам в массах, многие российские и зарубежные политики и деятели культуры, сочувствующие левым идеям, не были готовы увидеть в партии социалистов-революционеров врага, помня её революционное прошлое. Поэтому суд над нею, а тем более возможность смертной казни эсеров воспринимались как произвол. Подсудимых письменно поддержали III Сенъобос, Герберт Уэллс, А. М. Горький, ветераны народовольческого движения М. Новорусский, Л. Штернберг, В. Богораз и др. Все они в письмах большевистскому руководству признали смертную казнь неприемлемой мерой.
В итоге приговор стал в своей формулировке компромиссным. Двое подсудимых (второй группы) были оправданы, часть получила различные сроки заключения (от 2 до 10 лет) активные же члены, как первой, так и второй группы были приговорены к расстрелу. Однако последние в итоге были освобождены от наказания ходатайством верховного Трибунала, в отношении же смертников первой группы исполнение приговора было приостановлено решением ВЦИК.
Третья глава «Процесс 1922 г. и политическая ситуация в России. Полиншческие последствия процесса» посвящена обстановке, складывавшейся в большевистских верхах в ходе
процесса, причинах, побудивших большевистских руководителей пойти на компромиссное, по сути, решение по приговору подсудимым эсерам. Исследуются и долгосрочные политические последствия процесса, их отличие от его непосредственных, а также то влияние, которое они оказали на судьбу партии и всего общества в целом. Глава состоит из двух параграфов.
Первый параграф «Борьба в РКП (б) по приговору Радикальная и умеренная линии в Политбюро» посвящбн причинам принятия большевистской властью компромиссного решения по вопросу приговора эсерам. Выясняются причины того, почему многие недавние ярые противники эсеров (Каменев, Зиновьев) и даже участники суда (Пятаков, Луначарский) радикально изменили своё мнение в пользу сохранения жизни всем подсудимым. Выясняются обстоятельства, благодаря которым сложившейся «внутренней оппозиции» смертному приговору удалось (единственный раз в советской истории) переломить мнение наиболее влиятельной группы Политбюро (Сталин, Троцкий и их соратники), придерживавшихся радикально жСсткой позиции в отношении приговора. Исследование данного вопроса позволяет утверждать, что изменение настроений ряда большевистских руководителей произошло под влиянием внутри - и внешнеполитических аспектов. Так, в частности, первые успехи в прорыве внешней изоляции Советской России оказались во многом частными случаями и не привели к установлению прямых отношений с западными государствами, в связи с чем вновь возрастала посредническая роль европейских социалистов и необходимость считаться с их мнением по процессу. Внутренние общественные настроения также не соответствовали ожиданию руководителей РКП (б). Значительная часть населения, как показали данные ГПУ, сочувственно, либо,
просто без враждебности, отнеслось к подсудимым первой группы, хотя поддержка им не выходила за рамки пассивного протеста. С учетом этих настроений, а также появившихся слухов о возможности возвращения ПСР к тактике индивидуального террора, ряд руководителей партии и правительства осознал необходимость смягчения приговора Отказ же от своей точки зрения влиятельных сторонников применения наиболее жёстких мер к подсудимым произошёл под влиянием двух факторов: позиции двух наиболее важных и компетентных ведомств, связанных с процессом -Коминтерна и ГПУ, мнение которых партийным лидерам приходилось учитывать, и изменения взглядов признанного вождя партии В. И. Ленина, считавшего теперь более выгодным сохранение жизни подсудимым для удержания их в качестве заложников. В то же время ущерб, нанесённый процессом партии социалистов-революционеров, был весьма значителен и предполагал полную нейтрализацию исходившей от неё опасности власти большевиков, что впоследствии подтвердилось. Второй параграф «Политические последствия процесса. Крушение ПСР» посвящен долговременным последствиям процесса 1922 г. для партии социалистов-революционеров и обстоятельствам её исчезновения с российской политической арены. В данном параграфе раскрывается то значение, которое было оказано процессом 1922 г. на судьбу некогда самой популярной партии России и через неё на судьбу всего общества. Автором исследуется, почему при вполне приемлемых для партии непосредственных итогах суда она прекратила своё существование. В качестве причин этого можно выделить:
1. Дальнейшее углубление раскола между российскими и заграничными организациями ПСР.
2. Истощение людских ресурсов вследствие ареста ветеранов партии и неопытности и инертности новых членов
3. Истощение в результате процесса материальной базы российских и зарубежных организаций партии, лишившей их возможности заниматься политической деятельностью.
4. Низкий моральный дух руководителей и активных членов партии, чувство безысходности в предвидении дальнейшей борьбы.
5. Масштабные репрессии, проводимые ГПУ после процесса.
В заключении автором формулируются обобщающие выводы и высказываются предложения о направлениях дальнейшего исследования данной темы.
Положения выносимые на защиту.
1.Процесс 1922 г., явился результатом российской внутренней и внешней политической и экономической ситуации и попыткой правящей партии - РКП (б) - представить её виновником своего политического конкурента - ПСР.
2. Партия социалистов-революционеров пришла к процессу 1922 г. в результате ошибочной политической тактики сочетания идеологии «третьего пути» с уступками власти большевиков и неудачного опыта построения «массовой партии».
3. Процесс 1922 г., являясь первым публичным процесс«»« Советской России, при внешнем сходстве с последующими, имеет существенные отличия и превосходит их по масштабу и значению.
4. Террористическая деятельность 1918 г. в Советской России, как главное обвинение в адрес подсудимых, наиболее вероятно, являлась именно результатом деятельности партии социалистов-
революционеров. В то же время политические обвинения, выдвинутые на процессе, во многом не соответствовали действительности.
5. Процесс 1922 г., несмотря на важность внутренних процессов разложения партии, явился веб же основной причиной крушения партии эсеров.
6. Процесс 1922 г. способствовал развитию и формированию основ Советской политической системы, а также стал во многом прелюдией последующих политических процессов в СССР.
1. Противостояние партии социалистов-революционеров и большевиков в конце 1917-начале 1918 гг. по материалам процесса 1922 г. и эсеровским источникам. // Наше Отечество: Сборник статей. Выи 2. / Московский государственный областной университет. - М., 2003. С. 92-98.
2. Партия социалистов-революционеров в период легализации. Кризис в тактике и идеологии. // Специалист. Теоретический и научно-методический журнал. / ООО «Специалист». - М,, 2004. С. 32-36.
3. Отношение партии социалистов-революционеров к антибольшевистским террористическим акциям в 1918 году. // Наше Отечество: Сборник статей. Вып 4. / Московский государственный областной университет. - М., 2005. С. 178-
По теме исследования опубликованы работы:
Подписано в печать: 24.10.2005. Бумага офсетная. Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная. Формат бумаги 60/84 шб Усл. п.л. 2.
_Тираж 100 экз. Заказ № 566._
Изготовлено с готового оригинал-макета в Издательстве МГОУ. 105005, г Москва, ул Радио, д. 10-а, тел.: 265-41-63, факс 265-41-62
t-
*
t
■jy
» 1986f
PH Б Русский фонд
2006-4 17134
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Сафонов, Иван Анатольевич
Введение.1
Глава 1. Причины процесса ПСР.
Подготовка процесса. 46
Глава 2. Открытие, ход и итог процесса Внешние и внутренние составляющие. 136
Глава 3. Процесс 1922 г. и политическая ситуация в России. Политические последствия процесса. 282
Введение диссертации2005 год, автореферат по истории, Сафонов, Иван Анатольевич
Данная работа является попыткой комплексного рассмотрения малоизученного эпизода отечественной истории начала советского периода - процесса, проведённого победившими в гражданской войне большевиками над вождями своих политических противников - социалистов-революционеров и всех обстоятельств, связанных с ним и оказавших на дальнейшее становление однопартийной советской системы и на: судьбу российского общества в целом. Актуальность темы. Раскрытие данной темы представляется актуальным в научном историческом и политическом плане. Российское общество, с крушением прежней советской системы столкнулось со сложной проблемой выбора пути дальнейшего развития. В стране сложились условия политической неопределённости, отсутствия чёткой направленности власти и общества в определении вектора движения к новой общественной модели. За прошедшее: со времени падения прежнего строя время, можно констатировать лишь провозглашение её декларативных основ и строительство отдельных элементов, которые при дальнейшем развитии могли бы послужить предпосылками её становления. Одним из таких элементов является попытка воссоздания в России многопартийной политической системы. Однако даже самый поверхностный анализ результатов, достигнутых на данный момент в ходе этой попытки, показывает, что существующий российский политический спектр во многом не отвечает сущности понятия многопартийности и является скорее её формально-юридическим выражением. Об этом свидетельствует недолговечность многих российских политических образований, частое отсутствие чёткой политической программы и выработанных предложений по её реализации, подмена их общими декларациями, а также почти полная изоляция от общества и частая неосведомлённость и непонимание его проблем и происходящих в нём процессов. Создавшееся положение демонстрирует очевидную неспособность существующих партий стать ключевыми политическими институтами новой общественной модели развития. Основной причиной этого явления, стал присущий большинству партий в начале их существования антиисторизм, игнорирование собственной истории стремление «писать её с чистого листа» и попытки применения в российских условиях конца 80-х и начала 90-х годов западноевропейских образцов в чистом виде без какой-либо адаптации к той явно специфической ситуации, в которой создавалась новая российская «многопартийность». В настоящий момент эта линия отвергнута большинством российских политических структур, претендующих на имя партий, как ошибочная. Всё чаще звучат призывы о необходимости учитывать прошлое при строительстве новой политической системы обращаться к опыту собственной истории. Наиболее ценным для изучения этого опыта представляется период существования первой российской многопартийности начала 20 века, когда в условиях кризиса самодержавия и возникновения проблемы выбора путей дальнейшего развития, в стране активно создавались партии. Наиболее значительные из них достигли в 1917 году пика своего влияния в обществе и получили возможность возглавить процесс строительства новой государственности. Главным образом это относится к социалистическим партиям и в первую очередь к самой популярной из них - партии социалистов-революционеров. Созданные Февральской революцией политические обстоятельства, способствовали тому, чтобы ПСР стала ведущей силой в политической жизни России. Для этого у партии были все возможности: широкая популярность в массах (в марте-апреле численность доходила до полутора миллионов человек), ориентация на основную составляющую населения страны: крестьянство, демократическая идеология, пользующаяся поддержкой, членство во влиятельном 2-м (позднее Венском) Интернационале, способность к компромиссу со своими политическими противниками. Однако, несмотря на это, партия эсеров, также как и другие популярные в то время партии, проиграла битву за власть малочисленному, малоизвестному конкуренту с откровенно авторитарной и непримиримой идеологией — большевикам, победа которых означала одновременно конец многопартийной системы и пресечение возможности демократического развития России. И теперь, когда после 70-летнего перерыва в России предпринята попытка восстановления многопартийности, исследование причин неудач предыдущей становится одной из наиболее актуальных политических проблем. Современные условия политической нестабильности, незначительная роль и низкая популярность партий в обществе, значительно уступающая той роли, какую играли их предшественники в начале века, при совершении аналогичных тактических ошибок неизбежно приведут к деградации и отмиранию основ многопартийности, что поставит под сомнение строительство декларируемой новой политической системы России в целом. Необходимым элементом подобного исследования является изучение причин поражения партии социалистов-революционеров, поскольку именно эсеровская партия наиболее длительное время оказывала сопротивление большевистскому режиму и именно исчезновение эсеровской партии с политической арены Советской России можно считать завершающими этапом установления однопартийной системы. Кроме того, сохранение у ПСР шансов на приход к власти служило гарантией существования многопартийной системы, хотя бы в рамках социалистических течений, вытекающей из её демократической идеологии. В исследовании же причин гибели эсеровской партии наибольшее значение занимает последний период её существования, когда она оставалась единственной силой, пытающейся сопротивляться новому режиму. Центральным и наиболее значимым событием этого периода в жизни ПСР был прошедший в Москве 8 июня - 7 августа процесс над 34 подсудимыми, среди которых были видные лидеры и идеологи социалистов-революционеров. По свидетельству источников именно после окончания данного процесса партия, сохранившаяся в ходе Гражданской войны и предшествующих репрессий, стремительно сходит с российской политической арены. Это обстоятельство заставляет обратиться к более широкому изучению судебного процесса 1922 года и связанных с ним обстоятельств.
В научном плане данная тема представляется автору актуальной по причине недостаточного освещения, и упрощённого подхода в исследовательской литературе. Несмотря на возросший интерес к раннему периоду советской истории и расширившиеся возможности для исследования, количество научных работ, непосредственно посвящённых данной теме, остаётся крайне ограниченным. Многие из них изданы в советское время и, несмотря на определённую научную ценность (введение в использование непосредственных материалов процесса, изучение обвинений) содержат идеологизированный подход к данной проблеме. Большинство современных исследователей занимающихся историей российских политических партий начала 20 века, в том числе и партией социалистов-революционеров, определяют данную тему как проходной эпизод в истории не только советского государства, но и самой партии социалистов-революционеров, не считая нужным заострять на ней внимание. В связи с этим процесс социалистов революционеров не получил объективного освещения и одновременно остался нерешённым ряд связанных с ним узловых вопросов, ответы на которые в значительной степени способствуют делу достоверного освещения периода становления и развития советской политической системы и её характерных особенностей. Одним из этих вопросов является определение самого характера процесса 1922 года, выявление общего и особенного, отождествления его с последующими публичными процессами, проведёнными советскими судебными и карательными органами во второй половине 20-х — 30-х гг. Исследование этого вопроса включает в себя подробное рассмотрение политической ситуации в момент его проведения, тех причин, которые побудили власти к его проведению в период после военной победы большевистской партии над своими основными противниками и завершения военных действий на большей части российской территории, подготовительных мероприятия и хода процесса, лиц отобранных на процесс в качестве подсудимых анализ соотношения его юридической и политической составляющих, и, наконец, изучение того положения, в котором находилась партия социалистов-революционеров накануне проведения властями данного процесса.
Другой спорный вопрос, имеющий ключевое значение и связанный с предыдущим - о справедливости предъявленных подсудимым обвинений. В проводимых ранее по этой теме исследованиях в значительной степени присутствует идеологический подход как советского, так (позднее) и антисоветского плана, что значительно снижает их научную ценность. Кроме того, по мнению автора идеологизация вопроса создала неверные подходы к его изучению. Один из таких подходов заключается в рассмотрении обвинений «единым блоком», в то время как они явно неоднородны и чётко подразделяются на обвинения чисто политического характера и стоящее отдельно обвинение в терроре и экспроприациях, имеющее как политический так и уголовный характер. Это обстоятельство является исключительно важным, для выведения объективно верного заключения о характере процесса, объяснения той линии, которой придерживалось на процессе обвинение, появления признаний Семёнова, позиции, занятой на процессе обвиняемыми первой группы, а также степени «легитимности» суда. Неверным представляется автору также другой подход к проблеме справедливости предъявленных обвинений, заключающийся в уделении внимания исключительно вопросу террористической деятельности партии эсеров и игнорирования рассмотрения других обвинений (октябрьские события 1917 года в Петрограде, противодействие роспуску Учредительного собрания, сотрудничество с Антантой и т.д.) на основании их предполагаемой «очевидности». Основанием для утверждения, что истина в данном случае лежит на поверхности служит оценка этих обвинений только по факту борьбы эсеровской партии с большевиками, без проведения при этом анализа роли социалистов- революционеров в событиях, послуживших основанием для включения данных пунктов в обвинительный акт. Отказ от подобных подходов содействует, по мнению автора, объективному исследованию вины или невиновности подсудимых в указанных обвинениях. Исходя из этого, в представленной работе автором сделана попытка
раздельного исследования политических обвинений и обвинения в терроре и подробного рассмотрения каждого обвинения из первой группы с позиции реального участия в них партии эсеров и соответствия его распространённым по указанному вопросу представлениям. Изучение данного вопроса включает также в себя критический анализ основного источника, послужившего одновременно поводом к началу процесса — воспоминаний предводителя боевиков и подсудимого второй группы на процессе Семёнова «Военная и боевая работа партии социалистов революционеров (конец 1917 - 1918гг)» и попытку определить те обстоятельства, при которых она была создана. Немаловажное значение имеет также вопрос личности самого Семенова, его деятельности в период гражданской войны и положение в партии эсеров. Выдвинутое заграничными руководителями ПСР, контробвинение в организации ВЧК-ГПУ масштабной провокации с целью обвинить во многом базировалось именно на биографии Семенова. В меньшей степени это касалось и его товарищей (Коноплёвой, Дашевского, Фёдорова-Козлова, Усова), однако оценка даваемая Семёнову бывшими соратниками была качественно иной. Такое выделение эсеровской пропагандой Семёнова из общего ряда подсудимых второй группы (даже таких одиозных как, например Григорий Ратнер или Владимир Игнатьев), во многом раскрывает его реальную роль в деятельности партии и одновременно позволяет проанализировать достоверность эсеровских источников, которые, в отличие от мемуаров Семёнова стоят, как правило, вне исследовательской критики. В эту же проблему входят исследование теоретических воззрений руководителей ПСР и рядовых её членов на террор как возможный способ борьбы с большевиками, вопрос о статусе Боевого отряда, обстоятельствах его появления, принципах формирования, поставленных перед ним задачах, реальных и вымышленных его отношениях с Центральным Комитетом партии и, безусловно, вопрос деятельности отряда совершённых им покушений и экспроприации и соответствия этих действий программной тактике социалистов-революционеров.
Наиболее широкой и важной из проблем, связанных с эсеровским процессом 1922 года являются его итоги и последствия как для самой ПСР. так и для её противников-большевиков и страны в целом. Речь здесь идёт и о непосредственных итогах, связанных с вопросом кто больше выиграл, и кто проиграл от суда, и о более масштабных и долгосрочных процессах, далеко выходящих за хронологические рамки самого суда, борьбы за участь подсудимых первой группы и даже существования партии социалистов-революционеров как таковой. В вопросе о том, какой стороной был выигран данный процесс, существуют определённые исследователями критерии подобной победы, служащие дополнением и, в значительной степени, пояснением к тому формальному приговору, который был вынесен подсудимым Верховным Трибуналом. Первый из них - юридический критерий. В его рамках победой большевиков на процессе была бы убедительно доказанная стране и окружающему миру достоверность объективность и полновесность предъявленных подсудимым обвинений и напротив победой подсудимых эсеров первой группы являлся доказанная надуманность и беспочвенность этих обвинений, являющихся только поводом политической расправы. При этом надо учитывать, что возможность применения юридического критерия в отношении процесса 1922 года значительно сужена историческими особенностями периода формирования нового общественного строя и узко политическим характером большинства обвинений. В более или менее развёрнутом виде он может быть применён только в отношении обвинения в террористической и экспроприаторской деятельности.
Набольшую роль играет в данном случае политический критерий. В оценке непосредственных итогов процесса 1922 года он носит определяющий и всеобъемлющий характер. В его основе лежат несколько давних и долгое время, господствующих в исторической науке тезисов, выдвинутых в ходе пропагандистской компании посвящённой процессу 1922 года. Главный из них состоит в том, что партия социалистов-революционеров к моменту процесса проявила полное «политическое банкротство». Впоследствии эта идея стала своего рода аксиомой, от которой отталкивалось любое исследование, связанное с процессом. Одновременно ведущаяся за рубежом кампания в поддержку подсудимых развивала тезис об «идейном банкротстве» правящей большевистской партии. Данный тезис базировался на двух других, также в дальнейшем распространённых и укоренившихся. Один из них — о «мелкобуржуазном» отклонении идеологических установок партии эсеров от социализма, о её исчерпанном социалистическом потенциале. Другой тезис — о политической «изоляции» эсеров от населения России, об отсутствии у неё реальной поддержки в массах. На этих же тезисах была построена и антибольшевистская эсеровская пропаганда. Следовательно, основными моментами при использовании политического критерия в выявлении краткосрочных итогов процесса 1922 года является исследование общественных настроений в России и за рубежом в период процесса эсеров, успехи и неудачи большевистской и эсеровской агитации, «идеологическое противостояние» на процессе и его итоги для обеих сторон. Итоги эти следует рассматривать как в сущностном плане (что выявилось в ходе процесса), так и во внешнем (политические приобретения и потери сторон в ходе идеологического противостояния). Относительно новым критерием оценки результатов процесса является моральный критерий. Применение данного критерия при исследовании результатов процесса 1922 года затруднено тем, что его появление вызвано в основном идеологическими мотивами. Его главной задачей часто является, в зависимости опт позиции исследователя подкрепление тезиса о «политическом банкротстве» или напротив политической состоятельности партии эсеров. Результатом этого стая сложившийся стереотип о «моральном банкротстве» или наоборот «моральной победе» подсудимых над своими обвинителями. Тем не менее, использование данного критерия имеет определённое значение при раскрытии итогов процесса и освещении дальнейшей деятельности ПСР. Также применение морального критерия может объективно содействовать деидеологизации темы и выявлению масштабов реального действия моральных факторов на результаты процесса и последующее развитие событий.
В отличие от непосредственных итогов процесса, где основной темой для исследования служат их причины, вопрос о его последствиях более сложен и нуждается в подробном разбирательстве, поскольку с ним связаны две обширных исторических проблемы: его влияния на судьбу партии социалистов-революционеров и роль в развитии основ советской системы. Выше уже говорилось, что партия, сумевшая уцелеть в годы преследований со стороны самодержавия и гражданской войны, после процесса 1922 года стремительно исчезает. Закономерно возникает вопрос о причинах подобного быстрого крушения.
Хронология событий позволяет выдвинуть предположение о связи процесса 34-х со столь внезапным исчезновением партии, но остаётся вопрос каким именно было это влияние и в чём оно непосредственно выразилось. По этому поводу можно выделить три основных версии.
Первая: существование партии прервано насильственно, путём широкого развёртывания властью репрессивных мер против эсеровских организаций на местах и никаких объективных условий в 20-е годы для этого не было. Это явление, описанное в данной работе, действительно имело место. Влияние процесса 1922 года на прекращение существования партии эсеров в свете этой версии выгшщит достаточно узким и опосредованным: только как повода к началу репрессий. С одной стороны обвинительное решение Верховного Трибунала давало для этого формальную возможность, с другой — непосредственные итоги процесса могли убедить власти в насущной необходимости силового решения в отношении социалистов- революционеров и невозможности устранить их с политического поля иным путём. В этом случае значимость эсеровского процесса в истории начала 20-х годов резко снижается.
Вторая: объективно партия социалистов-революционеров сохраняла возможность продолжения своей политической деятельности, но в ходе процесса сложилась ситуация, в условиях которой её дальнейшее существование оказалось невозможным. Подобную ситуацию в смягчённом варианте эсерам уже пришлось пережить до революции, когда в результате установления факта провокаторской деятельности члена ЦК ПСР Е.Ф. Азефа, перестала существовать мощнейшая Боевая организация партии, а в сочувствующих революционному движению кругах началось разочарование в основном эсеровском методе борьбы — терроре.
Само существование партии оказалось тогда под угрозой. Подобная же ситуация могла возникнуть и по результатам процесса 1922 года, тем более, что в распоряжении Трибунала и Государственного Политического Управления — ГПУ, находился тот, кого эсеры могли считать новым Азефом - Семёнов, склонивший по их мнению на путь ренегатства своих соратников по Центральному Боевому отряду. При принятии и разработке данной версии значимость судебного процесса 1922 года представляется наиболее широкой, поскольку при данных обстоятельствах его можно охарактеризовать как не только центральное, но и ключевое событие советской истории раннего периода Его результатом явилось, таким образом, исчезновение некогда самой значительной социалистической партии, вместе с ней демократической альтернативы, ещё не исчерпавшей своих объективных исторических возможностей, а, следовательно, был предопределён политический курс государства и судьба общества на семь десятилетий.
Третья: исчезновение партии социалистов-революционеров носило ^ объективный характер и произошло в результате естественного хода истории, а процесс и репрессивная политика большевиков являлись лишь сопутствующими факторами этого естественного хода истории. «Демократическую альтернативу» большевистскому режиму следует признать только теоретической возможностью, избранный ими курс на строительство государственно-(• бюрократической однопартийной системы — единственно возможной, а эсеров неспособными выдвинуть приемлемую программу развития. Определённым обоснованием подобной версии служат провал политики Временного правительства, быстрое крушение «эсеровских» режимов в Самаре и Архангельске и других партийных политических начинаний социалистов-революционеров. В контексте данной версии роль процесса также сужена, хотя и не в такой степени как это подразумевает первый случай. В подобных условиях, он мог носить характер как изолированного эпизода в истории партии, важного только как формальная процедура, узаконившая политические преследования со стороны властей. Но одновременно мог, являясь частью исторически объективного развития событий, сыграть роль своего рода катализатора, заставившего идти это развитие событий ускоренными темпами. В таком случае процесс следует рассматривать, как важный этап закономерного крушения политической состоятельности партии эсеров, через подробное изучение которого можно выявить и подтвердить подобную закономерность. В данной работе автором рассмотрены все три версии и сделана попытка выявить наиболее достоверную из них и доказать её верность.
Другой важнейшей проблемой связанной с подведением итогов эсеровского процесса 1922 года является то влияние, которое было оказано им на формирование советского режима в начале 20-х годов.
Ключи к её решению во многом находятся в самом процессе, сопровождавших его обстоятельствах и непосредственных итогах. Важным аспектом здесь является реакция правящей большевистской партии на происходящие события. Провозглашённый открытым процесс 34-х подсудимых поставил её в непривычное положение. С первых дней своего существования РКП (б) пошла по иному, чем её конкуренты-эсеры пути формирования своей структуры, выстраивания тактики, приняла иную авторитарную и непримиримую идеологию. Во многом этому она обязана своим приходом к власти в ситуации политического бездействия своих оппонентов и политическим выживанием в период вооружённой борьбы на нескольких фронтах одновременно, усугублённой восстаниями в тылу. Однако в случае идеологического противостояния и открытой свободной дискуссии, те же самые характерные черты неоднократно обращались против партии, становясь из её силы её же слабостью. Это ясно видно и из весьма ограниченной поддержки партии в массах до революции, а также начавшегося, ещё в эпоху Столыпина отхода от большевистской партии её видных деятелей, (Богданов, Рожков), недовольных жёстким пресечением инакомыслия в партии и идеологическим радикализмом. Но и пример тех, кто в этот период и в дальнейшем сохранил РСДРП-РКП верность демонстрирует, что и они периодически были несвободны от критических настроений в * отношении если не идеологии то тактики партии. Так поступали Г.
Е.Зиновьев и JI. Б. Каменев в 1917г., Н. И. Бухарин и В. В. Осинский в 1918, Т. В. Сапронов в 1919, Г. И. Мясников в 1922. При наличии подобных трений в собственных рядах задача сделать собственную идеологию не просто популярной, но господствующей среди населения России, по объективным признакам казалась ^ невыполнимой, в то время как идеология и партийные принципы эсеров вполне импонировали вовлечённым в революционные события массам. Организуя открытый процесс, трактовавшийся первоначально, как процесс над всей партией социалистов-революционеров в целом, большевистская власть вступала на опасную почву подобной идеологической дискуссии, способной вызвать неприятные для неё последствия, и для их предупреждения необходимо было выработать механизмы влияния на сам суд и на общество. Но ещё более важной являлась в данном случае историческая перспектива. Подавив в своё время народническое движение, императорская власть в России оказалась бессильной ликвидировать революционную идеологию, и вскоре появились её новые носители Учитывая ошибки своих предшественников, большевистскому руководству необходимо было идти по пути создания развитых и долгосрочных механизмов управления, которые способствовали не только устранению партии эсеров как таковой, но и не допускали возможности возникновения в будущем новых носителей их идей. Процесс социалистов-революционеров должен был, таким образом, стать первой проверкой крепости власти её способности держать в рутах страну, в тот период, когда она после 4-летней борьбы получила контроль практически над всей её территорией. В данной работе автором предпринята попытка освещения способов идеологической борьбы, предпринятой большевистским руководством против эсеров, её как успешный, так и неудачный опыт, выявления тех из них, которые стали впоследствии основами существования советской системы. Одновременно, автор уделяет внимание тем мерам борьбы, которые были предприняты в идеологическом противостоянии эсеровской партией в противопоставление деятельности большевистского руководства, успешности или неудачности их применения, а также причинам, по которым данные тактические меры не послужили основой к созданию новой более эффективной стратегии борьбы с большевистским режимом и открытию возможности перехода власти в руки сил «социалистической демократии». Таким образом, предметом данного исследования служит политическое противостояние двух выразителей различных течений социалистической мысли в переходный период начала 20-х годов, когда советская система завершала своё становление и входила в стадию углублённого развития. Наилучшим, по мнению автора, объектом изучения перехода советской системы в состояние политического равновесия и установления принципов взаимоотношения власти и общества в рамках нового общественного устройства является процесс 1922 года, в котором в полной мере отразились черты данного переходного периода, его предпосылки, ход и результаты. Одновременно это был, возможно последний узловой исторический момент, когда в Советской России существовала альтернатива путей развития. Изучение процесса 1922 года является, по мнению автора, оптимальным путём рассмотрения возможности такой альтернативы, её сущности и источника, от которого она исходила.
Хронологические рамки темы. Данная работа охватывает период с 1918 по 1924/25 гг. Хронологические рамки обусловлены заданной тематикой работы и позволяют проследить историю процесса социалистов-революционеров от его истоков до последствий. Начальная дата определяется тем, что именно с 1918 г. в тактике ПСР отчётливо наметились тенденции, приведшие её к судебному процессу 1922 г., где руководители партии и носители её идеологии оказались подсудимыми. Последующий период существования партии социалистов-революционеров в контексте этого процесса можно разделить на несколько этапов. Первый этап (сентябрь 1918 — февраль 1919 гг.) характеризуется крушением практической попытки воплотить в жизнь принятую в декабре 1917 г. на 4-м съезде ПСР тактику «третьей силы», окончанием, открытого этим съездом процесса «внутренней мобилизации»
• партии, укрепления её позиций, пошатнувшихся с отпадением левых эсеров и неудачей прежнего коалиционного курса. «Мобилизационный ресурс» партии исчерпывается, обостряется борьба группировок, выделение и отмежевание сначала правого, а затем левого флангов. Последствием этого стало организационное ослабление и расшатывание позиций партийного центра (составившего впоследствии основную часть подсудимых первой группы), что вынудило его пойти на уступки и снять часть своих тактических положений в обмен на предоставление со стороны большевистского правительства гарантий неприкосновенности партии в виде постановления ВЦИК от 26 февраля 1919г. При этом расхождения во взглядах различных группировок партии в этот период носят тактический, определяемый ситуацией, а не идеологический характер. Все, придерживающиеся линии, как правого, так и левого крыла не хотят идти на полный разрыв с партийным руководством и продолжают считать себя социалистами-революционерами. Однако уступки, сделанные руководством партии имели далеко идущие последствия, способствуя переходу политического центра партии с позиций самостоятельной «третьей силы» на положение своего рода «легальной оппозиции», действующей в рамках советской системы, согласно Постановлению ВЦИК. Именно подобное положение, по мнению автора, порождало в большевистских кругах при ^ организации процесса в 1922 г. мнение о возможности идейного ренегатства или, во всяком случае, смягчения идейной позиции подсудимых первой группы. Значительно серьёзнее этот документ воспринимался эсерами, о чём свидетельствуют ссылки на него при отказе сотрудничать со следствием и судом и попытки доказать юридическую несостоятельность процесса. В тоже время именно Ш этот документ способствовал сохранению рядовых эсеров, поступивших на службу в Красную Армию и советские учреждения.
Второй этап (весна 1919 -весна 1921г.) не подвергался в данной работе широкому рассмотрению, поскольку является, по мнению автора, переходным временем, когда в значительной степени реализовались последствия отступления, допущенного руководством ПСР в конце 1918 г. — начале 1919 г. В частности, отмечается постепенный дальнейший отход левого крыла ПСР от партии, оформление его частичной независимости в виде группы «Народ» (впоследствии «Меньшинства ПСР»), при сохранении формальных связей с партийным центром (что доказывается, участием Семёнова в 1919 году в 9-м Совете партии.) Непримиримое правое крыло, продолжающее борьбу с большевиками, также отходит от партии, предпочитая оставаться на вторых ролях в различных коалициях, управляемых «реакционными» с точки зрения эсеровской идеологии силами. Деятельность левого и правого флангов в этот период времени для тематики данной работы интересна, прежде всего, тем, что позволяет осветить вопрос о роли Семёнова и его товарищей по второй группе подсудимых в ПСР и выяснить являлся ли он провокатором. Кроме того, исследование данного периода позволяет определить роль и характер участия правого крыла ПСР в различных событиях периода гражданской войны, что представляется важным, поскольку именно деятельность правого крыла служила основной мишенью для большевистской агитационной кампании. Деятельность политического центра партии социалистов-революционеров в указанный период развивается в русле уступок, сделанных на предыдущем этапе.
Третий этап, хронологически определяемый рамками весны 19211922 г. является одним из наиболее важных в данной теме и включает себя историю партии эсеров от некоторого оживления местных организаций иногда характеризуемых исследователями как «подъём» партии (в данной работе автором анализируется правомерность применения данного термина) до подготовительной стадии процесса 1922 года включительно. В этот период произошли значительные изменения во взаимоотношениях двух партий, перешедших в прямое столкновение, поскольку ПСР оставалась единственной силой, не позволявшей РКП (6) установить политическую монополию. Его подробное рассмотрение демонстрирует ситуацию, в которой находилась партия социалистов-революционеров в период перед началом процесса, позволяет оценить возможность её дальнейшего существования, сильные и слабые стороны, а также подготовительные меры большевистской власти к проведению данного суда, настроения в партии большевиков. По мнению автора, положение двух противоборствующих сторон, сложившееся к моменту начала процесса в сравнении с его последствиями, очевидно, демонстрирует всю значимость и масштабность этого события. Также в данной работе разбирается ситуация, сложившаяся в эмигрантских кругах партии социалистов-революционеров, взаимоотношения с российскими товарищами, нарастающие кризисные явления в зарубежных организациях, их причины и влияние на процесс.
Четвёртым этапом является сам процесс социалистов-революционеров, проходивший с 7 июня по 8 августа. Значимость и специфические особенности данного события, позволяют, по мнению автора, выделить его в отдельный этап истории партии социалистов-революционеров и их взаимоотношений с большевистской властью и обществом.
Последний этап, хронологические границы которого - осень 19221925 гг., период кризиса и гибели российских организаций партии социалистов-революционеров и пика кризиса зарубежных организаций. Именно в это время начинают проявляться последствия процесса 34-х, касающиеся как собственно ПСР, так и всего российского общества, завершается процесс стабилизации новой общественно-политической модели развития, окончательно определяются принципы взаимоотношения власти и общества. Данный этап важен в исследовании для решения проблемы случайности и закономерности прекращения существования партии социалистов-революционеров, её социальной базы на последнем этапе существования и о возможности или невозможности «другого пути» в истории Советского государства.
Методологическая основа исследования. Выбор вышеизложенных проблем в качестве предмета исследования послужил основой методологического аппарата представляемой работы. Наиболее актуальным и обоснованным путём к раскрытию темы, автору представляется путь элементарно-теоретического комплексного анализа с переводом в структурный. В его основу положены принципы историзма и объективизма. Большую роль играет также использование логического метода. Это вытекает из характеристик и особенностей. К таким особенностям, прежде всего, следует отнести многоаспектность, зависимость от субъективных факторов, большую долю вариативности и гипотетичности решений. Многоаспектность темы уже неоднократно подчёркивалась выше. Игнорирование данной особенности ведёт к возникновению в ходе исследования исторических противоречий при рассмотрении одного и того же эпизода Примером такого противоречия в работе служит ситуация 1921-24 тт. когда параллельно росту популярности ПСР идёт сокращение её политического влияния и политических возможностей. Во избежание этих противоречий в данной работе предпринята попытка разложения проблемы на составляющие в контексте отдельных аспектов и получения, таким образом, структуры вывода по данному аспекту. Зависимость от субъективных факторов состоит в избирательном подходе к исследованию различных аспектов определяемом идеологической ориентацией исследователя с одной стороны и упрощенным обобщающим подходом с другой. Примером может послужить утверждение Р. Пайпса о том, что поскольку инкриминируемые эсерам преступления юридически не являлись таковыми на момент совершения, то никакой вины эсеров они не содержат. Подобное заявление заключает в себе призыв отказаться от исследования действительного участия и роли партии социалистов-революционеров в данных событиях и исследовать только внешнюю сторону процесса 1922 г. Это, в значительной степени, сужает возможность выявления особенных черт процесса 1922г. по сравнению с другими подобными ему. Данный подход является, по мнению автора, антиисторизмом, преодоление которого в значительной степени связано с использованием логического метода исследования, т. е. отказа от практики намеренного изолирования исторических эпизодов и исследование их в контексте широких процессов, характеризующих общее развитие.
Наибольшую сложность при исследовании создаёт такая особенность данной темы как её широкая вариативность. Указанная особенность сохраняется и при наличии таких положительных сопутствующих факторов как деидеологизация исторической науки, открытие более широкого доступа источников. Тем не менее, в отдельных аспектах темы характер содержания источников позволяет прийти к окончательным выводам только путём суммирования косвенных данных и сделанных на основании этих данных логических предположений. Классическим примером этого может служить разбирательство предъявленного подсудимым на процессе обвинения в террористической деятельности. Источники по данной теме можно охарактеризовать как косвенные, за исключением мемуаров Семёнова и показаний обвиняемых и свидетелей, которые, в силу разных причин, могут являться необъективными и несоответствующими истине. Некоторые же вопросы, в частности проверка утверждения о якобы даваемых Гоцем или Донским Семёнову и Коноплёвой наедине «в устной форме» санкциях на террористический акт против того или иного большевистского руководителя, со всей очевидностью не поддаются проверке. Лишь на основании анализа косвенных данных и базирующихся на нём логических умозаключений можно получить наиболее вероятное решение проблемы. В качестве * вспомогательного метода в работе использовалась историческая ретроспектива, поскольку при анализе обвинений, предъявленных подсудимым, исследователю приходится неоднократно возвращаться к предшествующим периодам деятельности партии социалистов-революционеров, когда роль была качественно иной и господствовали качественно иные политические обстоятельства. ^ Важным методологическим ориентиром для автора явилась ведущаяся сегодня работа по моделированию основных направлений общественной мысли России в 20 веке, в том числе по выявлению характерных черт эсеровского варианта социализма.1 Историография по теме. Предшествующий опыт исследования проблем, рассматриваемых в данной работе, имеет довольно Ш длительную историю. При этом очень ограниченное количество научных трудов посвящено непосредственно данной теме. Чаще
1 Модели общественного переустройства России 20 век / Отв ред. В В Шелохаев - М , 2004. См. также: Общественная мысль России. 18 - начало 20 века. Энциклопедия / Отв. ред. В. В Журавлёв - М., 2005. встречается включение истории процесса 1922 года в более широкие исследования, посвящённые либо истории социалистов-революционеров в целом, либо (в более позднее время) истории борьбы коммунистической власти со своими политическими противниками. Ещё более ограничено количество работ, где тема эсеровского процесса подвергается всестороннему рассмотрению. Обычным подходом является изучение отдельных аспектов процесса. Этому способствовала и идеологическая подоплёка работ, закрытость и неизвестность ряда источников. Тем не менее, совокупность научных трудов, которые следует определить как предшествующую историографию, по данной теме весьма многочисленна и насчитывает уже более 80 лет. Фактически 11 исследование этой темы началось уже со времени самого процесса.
За этот период подход к теме неоднократно изменялся. Поскольку в её основе лежал один из главных идеологических тезисов господствующего в советской исторической науке классового подхода — о безальтернативности развития Советского государства после октября 1917г. и тупиковости пути предложенного даже социалистическими небольшевистскими силами — то и периоды внимания и забвения всего, что связано с социалистическими партиями, в том числе и к процессу социалистов революционеров, во многом зависели от идеологических потребностей государства. И хотя, уже в советское время появились работы, которые созданы не в исключительно идеологических целях и являются ценными Ш научными разработками данной темы, благодаря привлечению более полного и неиспользованного ранее материала, они, как и более ранние ограничены теми же рамками. Лишь в конце 80-х и 90-е годы 20 века у исследователей появилась возможность воспользоваться большинством ранее закрытых источников и отказаться от классового подхода в написании своих трудов. Однако некоторые появившиеся новые работы показали, что отказ от его обязательного использования не означал устранения из научных работ идеологической подоплёки, но уже с иных позиций. Лишь недавно наметились тенденции, которые говорят о преодолении идеологизации данной тематики в науке. Для более подробного освещения следует проследить периоды интереса к ней или полного забвения со стороны отечественных и некоторых зарубежных исследователей.
Фактически исследование некоторых аспектов процесса началось уже в ходе самого судебного разбирательства. Первыми работами, посвященными ему, стали написанные в 1922 г. по постановлению «Пятёрки» в агитационных целях труды Луначарского,2 Мещерякова,3 Стеклова,4 Покровского5 и др. Безусловно, ценность этих работ представляется крайне незначительной и даже спорной, ввиду очевидной идеологической пристрастности их авторов являвшихся представителями одной из противоборствующих сторон. Некоторые из них были даже непосредственными участниками суда. Главная цель написания этих работ была ясно и открыто выражена Луначарским как «разоблачение внутреннего гниения партии и её безусловно контрреволюционного характера за время после Февральской и сугубо после Октябрьской революции».6 Помимо
2 Луначарский А. В. Бывшие люди. - М., 1922.
3 Мещеряков В. Н Партия социалистов-революционеров. - М., 1922.
4 Стеклов Ю. М. Партия социалистов-революционеров (правых эсеров). - М., 1922.
5 Покровский М. H. Что установил процесс так называемых социалистов-революционеров. — М., 1922.
6 Луначарский А. В. Указ соч. С. 4. необъективности научную ценность указанных работ снижает то обстоятельство, что они писались ещё в период хода процесса и появились тогда же, или сразу после его окончания. Поэтому в них отсутствует какой-либо анализ даже непосредственных итогов процесса и тем более его долгосрочных последствий, а есть лишь теоретические посылы, которые не следует принимать во внимание из-за их исключительно идеологического основания. Возможность рассматривать их как работы по данной тематике сохраняется только в связи со значительной степенью осведомлённости авторов, и с оценкой некоторых аспектов разбираемой темы, в частности виновности эсеров в предъявленных им обвинениях. При этом, очевидно, что особой научной ценности они не представляют. Останавливаться на них столь подробно представляется автору необходимым, ввиду того, что именно в этих работах появилось то, что впоследствии было присуще советской историографии в целом, что будет рассмотрено в дальнейшем, при подведении итогов. Окончание процесса и связанной с ним агитационной кампании не прекратили идеологической борьбы правящей партии против эсеров в целом. Некоторое время партия ещё существовала, а после её окончательного исчезновения её как единой структуры оставались ещё её видные и авторитетные представители, игравшие в своё время значительную роль в революционном движении и сохранившие популярность. В связи с этим сохранялся и санкционированный советским руководством интерес к истории эсеров, пик которого пришёлся на рубеж 20-х — 30-х годов. Именно к этому времени относится появления работ по данной тематике, которые можно характеризовать как исследовательские. К этому циклу относятся труды П. Лисовского,7 С. Черномордика,* Е. Ярославского9 Как и в предыдущих случаях, эти работы содержат в себе усиленный идеологический компонент. Кроме того, ещё в советское время исследователи отмечали такие слабые стороны этих трудов как неточность, поверхностность, слабая проработка темы. Тем не менее, нельзя не отметить уже в этих работах некоторые весьма ограниченные идеологическими рамками элементы исследования. К таковым в частности можно отнести попытку определения роли эсеров в российском политическом поле времён революции и гражданской войны. Именно в это время впервые появился термин «демократическая контрреволюция», впоследствии широко распространившийся в советской историографии. Под это определение пошли основные социалистические партии, конкурировавшие с большевиками (главным образом меньшевики и эсеры). Вся политическая значимость сил «демократической контрреволюции» сводилась к роли «ширмы для буржуазно-монархической реакции». Таким образом, самостоятельность социалистов данными исследователями отрицалась. При этом следует заметить, что деятельность правого крыла ПСР могла дать основание для подобных выводов, хотя в основном они, безусловно, делались по идеологическим причинам. Впоследствии тезис о социалистических партиях как «ширме для реакционеров» стал одним из обязательных выводов, к которому должен был прийти исследователь, рассматривая партию социалистов-революционеров. Другим, вытекающим из предыдущего, был вывод о неизбежности и закономерности разделения эсерами участи тех,
7 Лисовский П. На службе капитала. - Пт., 1928.
8 Черномордик С. Эсеры. - Харьков,, 1929.
9 Ярославский £. Третья сила. - M., 1932. чьими союзниками они являлись - монархических и либеральных партий. Процессу 1922 года данные работы не уделяли большого внимания, трактуя его всего лишь как формальный итог закономерного разложения эсеровской партии. Для исследуемой темы они представляют внимание лишь в контексте изучения обвинений и отчасти предыстории процесса.
В середине 1930-х годов внимание к данной проблеме и вообще истории эсеров и остальных социалистических партий резко идёт на спад, ввиду изменившейся политической и идеологической ситуации. Советский строй упрочился, ПСР уже давно не существовала, её уцелевшие активисты были изолированы, и необходимость борьбы с ними отпала. В данных условиях правящей партии было не нужно и в некоторой степени опасно напоминать населению о существовавших в прошлом различных партиях, о каких-либо возможных альтернативах официальному курсу представленных их программами. Ввиду данных идеологических установок научная деятельность по исследованию российских политических партий была свёрнута, доступ к подавляющему большинству источников закрыт. Кроме того, к этому времени воспоминания о многих участниках процесса и с большевистской стороны также оказались под запретом. Всё это способствовало свёртыванию изучения истории российских партий Последней, в тот период, по данной тематике стала работа А. Агарёва «Борьба большевиков с мелкобуржуазными партиями»10 После этого на длительный период наступило её забвение. С конца 1930-х до середины 1950-х годов исследовательская работа по тематике российской многопартийности не проводились.
10 Агарёв А. Борьба большевиков с мелкобуржуазны»» партиями // Пропагандист. 1935. № 6.
С конца 50-х годов, ввиду произошедших в СССР изменений и смягчения идеологического пресса, у исследователей вновь появилась возможность вернуться к рассматриваемой теме, был несколько приоткрыт и расширен доступ к источниковой базе. Такая более либеральная политика властей была, вероятно, вызвана первыми признаками идеологического кризиса советской модели развития и идеологическим попыткам выхода из него. В условиях, когда осуждение «перегибов» политики Сталина вызвала у части общества сомнения в самих основах советского строя и предположения о возможных альтернативах, правящей партии было необходимо, вернуться к зггой отложенной и закрытой в 30-е годы теме. Нужны были новые подтверждения того, что взятие власти большевиками в октябре 1917 г, было единственно возможным и закономерным вариантом развития событий. Поэтому идеологическое смягчение совершенно не означало для исследователей возможности выхода за определённые им рамки, обозначенные ещё в 20-е - 30-е годы. Каждая работа, посвящённая небольшевистским, в том числе и социалистическим партиям, должна была завершаться приходом автора к известным выводам о разложении и крушении этих партий в результате объективного хода истории. Но, несмотря на это, данный период следует признать наиболее плодотворным в советской историографии. Именно в это время над тематикой работали множество исследователей. В их числе следует назвать И. И. Минца," X. М. Астрахана12 JL ML Спирина13 и др. Ценность их произведений заключается в том, что
11 См. Непролетарские парши России в 1917 г. ив годы гражданской войны. -M., 1980.
12 Астрахан X. М. Большевики и их политические противники в 1917 г. — М,, 1973.
13 Спирин Л. М Банкротство непролетарских партий в России, 1917-1922.4. 1.-М., 1977. при сохранении необходимой в то время идеологической составляющей, авторы уделяли своё внимание различным сторонам деятельности партии социалистов-революционеров, ранее не освещённым в науке. Наиболее широкое освещение тема получила в работах К. В. Гусева, посвятившего этой теме целую серию монографий.14 Безусловно, идеологическая составляющая в значительной степени не давала возможности прийти к объективным выводам именно, однако по ряду направлений исследование истории ПСР и роли процесса 1922 года значительно продвинулось. В частности были сделаны попытки чёткого определения социальной базы ПСР, подробно освещён феномен «мартовского эсера», вновь поднята проблема роли социалистов в гражданской войне как «третьей силы». Слабой стороной большинства данных работ было неоправданное, по мнению автора, стремление рассматривать социалистические партии единым блоком. Подобная схема создаёт видимость полной тождественности взглядов и тактики меньшевиков и эсеров, при том, что между ними существовали по ряду вопросов весьма значительные различия. Подобная тенденция в полной мере преодолена только в работах К. В. Гусева и X. М. Астрахана. Кроме того, сама структура данных исследований построена таким образом, что история социалистов-революционеров рассматривается через призму борьбы с ними большевистских партий, которая во многих является главной линией произведения. Среди других вопросов начал рассматриваться и процесс 1922 г, но как одна из второстепенных тем. В большинстве работ он освещался крайне поверхностно и узко как проходной эпизод. Но в отдельных
14 Гусев К. В. От соглашательства к контрреволюции. - М., 1968. Его же: Большевики в борьбе против мелкобуржуазных партий в России. - М , 1969. произведениях ему уделялось больше внимания, как, например, в работе Д. JI. Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР».15 В этом труде впервые были освещены некоторые стороны подготовки процесса и, что ещё более ценно была сделана первая попытка осветить сам ход суда и выделить его специфические черты, а также проанализировать влияние на его исход внутренних и внешних факторов. Главным достижением работы было признание наличия в период подготовки процесса оппозиции большевистскому руководству со стороны представителей Верховного Трибунала по вопросу организации процесса. Но, несмотря на эти ценные дополнения, открывавшие новые возможности к исследованию процесса автор по понятным причинам не вышел за рамки установленного в то время подхода. Подводя итоги советского периода исследования в целом, следует признать сделанный в это время в раскрытие данной темы вклад значительным в плане постановки указанных выше основных узловых вопросов, служащих основой исследования. Тем не менее, можно констатировать, что достаточного внимания ей по идеологическим мотивам не уделялось. Ответы, данные на эти вопросы в советский период, в настоящее время не могут рассматриваться как выводы полученные в результате объективного исследования. Принятые в советское время тезисы являются спорными, требующими дальнейшего более глубокого изучения. Однако главной, по мнению автора, ошибкой, приводившей к недооценке роли процесса 1922 года, являлось то, что он рассматривался исследователями как итог деятельности социалистов-революционеров. Отношение к процессу как к итогу само собой подразумевает вывод, что он явился неким подобием
15 Голинков Д Г. Крушение антисоветского подполья в СССР. Ч. 2. - М., 1986. формального прекращения деятельности партии социалистов-революционеров, проведённого для того, чтобы выявить уже произошедшее фактически «банкротство». Подобная точка зрения, по мнению автора работы, препятствовала выявлению действительных причин крушения партии. Данные более позднего периода истории ПСР позволяют утверждать, что процесс 1922 г. явился в ней не итогом, а этапом, хотя и имеющим определяющее значение.
Масштабные политические изменения, произошедшие в России в конце 80-х и начале 90-х годов, и отказ от советской идеологии увеличили возможности исследователей. Отпала необходимость использования классового подхода, расширился круг доступных источников. Помимо этого появилась возможность использовать заграничные архивы эсеровской эмиграции, в частности т. н. «Амстердамский архив» открытый в 1975 г. голландским исследователем Марком Янсеном. В начале 1990-х, наряду с другими ранее не издававшимися произведениями, в России появились мемуары бывших лидеров небольшевистского социалистического движения, в том числе меньшевиков и эсеров (Чернова, Войтинского). В них содержался качественно иной взгляд на революционные события начала 20 века, и среди них эсеровский процесс 1922 г. Стало возможным и ознакомление с трудами зарубежных исследователей на эту тему. Особенно широкую известность приобрели работы того же Марка Янсена,16 Роберта Конквеста17 Ричарда
16 Янсен M. Суд без суда: 1922 г. Показательный процесс социалистов-революционеров. 1993.
17 Конквест Р. Большой террор.—M., 1988.
Пайпса.18 Взгляды этих исследователей в тот период являлись свежими для меняющейся советской, а затем российской исторической науки.
Помимо открывшихся возможностей интерес к теме поддерживался актуальностью момента. В условиях разрушения однопартийной системы и развития западнических настроений, установление советского строя стало восприниматься как «историческая ошибка» и поворот «с правильного пути», на который надо вернуться. В поисках этого пути началось изучение всего того программного многообразия, которое было представлено различными политическими течениями начала века Напротив другие исследователи, признававшие ошибкой именно отказ от советской системы занялись этой тематикой в целях отстаивания этой позиции В 90-е годы выходит большое количество трудов по теме, среди них работы Д. Б. Павлова,19 Д. Г. Красильннкова,20 Н. Д. Ерофеева,21 Н. Д. Костина22
Однако отказ от единого марксистского подхода не означал, как показала ситуация, деидеологизации данной темы. В результате в 90-е годы появилось три направления исследователей отстаивающие различные точки зрения по исследуемой теме. Одно из них продолжало придерживаться старой советской точки зрения о вырождении партии эсеров, ставшей после октября 1917г. помехой на единственно правильном пути прогрессивного развития России. Наиболее яркой работой подобного типа явилась книга Н. Д.
18 Пайпс Р. Россия при большевиках. - М., 1997.
19 Павлов Д Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 середин» 50-х гг. -М., 1999.
20 Красильников Д Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной истории. - Пермь., 1998.
21 Ерофеев Н. Д Паргтяя социалистов-революционеров // Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993.
22 Костин H. Д Суд над террором -М. 1990.
Костина «Суд над террором». Особая ценность монографии заключается в том, что это одна из очень немногих работ прямо посвящённых процессу 1922 г, а также в привлечении ряда ранее не известных источников по отдельным аспектам дела (письмо Зиновьеву). Однако слабость, как данной работы, так и всех исследователей данной темы, близких по взглядам к Костину состоит в некритическом отношении к источникам, стремлению «принимать на веру» всё, что может подтвердить разделяемую автором версию. В частности не проводится анализа показаний подсудимых второй группы, и они, при всей своей путаности, недостоверности, а иногда и явной ложности, выступают как аксиоматические утверждения, не требующие никакой доказательной базы. Напротив, всё, что может опровергнуть данную версию, не рассматривается вообще или рассматривается крайне тенденциозно, односторонне и также служит подспорьем для достижения главной цели исследования - оправдать обвинителей и обвинить осуждённых. Кроме того, из всех обвинений более или менее широкому исследованию подвергается исключительно террористическая деятельность, в то время как остальные обвинения не рассматриваются вовсе, исходя по видимому из неверной трактовки их как «очевидных». Таким образом, следует констатировать, что данное направление, не продвинулось в исследовании процесса 1922 г. далее достигнутых в предшествующий период результатов. Процесс исследователями • этого направления рассматривается как закономерный итог деятельности партии социалистов-революционеров. Другая позиция, возникшая по данному вопросу в 80-е -90-е гг., являлась попыткой приспособить старые критерии под новые реалии. Сохраняя основные установки, наработанные ещё в советское время, авторы теперь стремились в новых условиях пересмотреть их содержание, допуская в отдельных аспектах отклонение от прежней линии. Примером могут послужить созданные в этот время работы К. В. Гусева, автора многих работ посвященных эсерам написанных в 1960-е — 70-е гг. В книге «Сотрудничество и борьба. Из опыта отношения КПСС с непролетарскими партиями» написанной совместно с М Я Басмановым и В. А. Полушкиной, он придерживается в основном своих старых взглядов, отвергая насильственную ликвидацию большевиками своих оппонентов. Исчезновение эсеров объясняется в работе «несостоятельностью их теоретических воззрений порочностью политики и полной потерей влияния в массах». Но позднее в своей монографии «Рыцари террора» он выдвигает иную версию, согласно которой процесс 1922 года являлся по сути своей уголовным процессом, предпринятым властью с целью пресечения деятельности ПСР, носившей в период после Октябрьской революции и роспуска Учредительного собрания откровенно криминальный характер.24 Согласно выводу Гусева, большевистское правительство поступало с эсерами как поступало и поступает любое государство с террористическими организациями. В работе даже проводится аналогия между террористической деятельностью эсеров и деятельностью террористических организаций конца 20 века. При этом автор не приводит убедительных подтверждений причастности эсеров к террористическим актам 1918 г. Как и в предыдущих работах Гусева, данное утверждение носит здесь аксиоматический характер. Трактовка подобным образом процесса
73 Басманов М. И. Гусев К. В. Подушкина М. А. Сотрудничество и борьба. Из опыта отношений КПСС с непролетарскими партиями, — М., 1988.
24 Гусе» К. В. Рыцари террора - M., 1992.
1922 г. вызывает значительные сомнения. К. В. Гусевым не рассматривается то обстоятельство, что большинство обвинений носят политический характер, что уже само по себе не вписывается в концепцию уголовного разбирательства. Ещё меньше подтверждает эту версию события периода подготовки процесса и избранные способы его проведения. Малоосвещёнными и запутанными остаются вопросы о дискуссии, ведшейся по этому поводу в большевистских кругах, о необходимости проведения процесса не официальным председателем Верховного Трибунала Н. В. Крыленко, а не имеющим никакого отношения к советской судебной системе Г. Л. Пятаковым, необходимость участия в этом чуть ли не уголовном процессе ряда видных членов Политбюро, ведения процесса в нарушение ряда норм советской юстиции, экономические и политические теоретические споры в зале суда и т.д. Снижение, таким образом, по мнению автора значения процесса от политического противостояния двух социалистических сил к суду над террористической группировкой, не способствует раскрытию ряда важных узловых моментов указанной темы. Если два рассмотренных исследовательских направления явно имели своей отправной точкой советскую научную версию гибели партии социалистов-революционеров и разделяли её полностью или частично, то третье, выделившееся в тот же период, напротив отвергало советскую точку зрения и стояло на позициях, близких эсеровским и эмигрантским кругам, а также западным исследователям. Если представители других направлений склонны были оправдывать большевиков, то данные исследователи заняли последовательно антисоветскую позицию. К этому направлению можно отнести Д. Б. Павлова, «Большевистская диктатура против социалистов и анархистов 1917- середина 50-х годов», Д. Г.
Красильникова, К. В. Морозова и др. Ценность научных произведений этих авторов в доказательном разрушении догматических постулатов, выработанных советской идеологией, о том, что ПСР была обречена на распад ввиду своей «несостоятельной» теории и «окончательно утраченной популярности» в массах. Ими объективно продемонстрирована и степень поддержки партии населением России и те некоторые позитивные начинания, реализованные из программы ПСР, способные стать основой новой модели развития. Однако полный отказ и последовательная критика в данных научных трудах советского идеологизированного подхода к проблеме не способствовал деидеологизации самих этих трудов. Зачастую в них проявляется та же политизированность, что и у их оппонентов. Отрицательную роль здесь играет идеализация «непредвзятости» западных исследователей. От них данное направление в частности переняло тезис, что исчезновение социалистических партий, в том числе и эсеров, с политической арены России явилось результатом исключительно насильственного их подавления большевистским диктаторским режимом. Объективных же условий для этого, по мнению данных авторов не существовало. Особенно показательна в этом смысле работа Д. Б. Павлова, в которой автор, верно освещая природу партии большевиков, её авторитарно-централистский характер и непримиримость, выводит её взаимоотношения с другими социалистами из якобы присущего большевикам некоего «комплекса политической неполноценности». Якобы преодолевая этот «комплекс» и боясь быть поглощённой более популярными социалистами, РКП и предпочла сотрудничеству с ними открытую вражду. В то же время объяснения как «неполноценной» большевистской партии удалось, вопреки всему, разгромить своих политических противников, не представлено. Действительно насильственное подавление большевиками своих конкурентов, становившееся порой очень активным имело место. Тем не менее, по мнению автора, сведение всего процесса распада и гибели социалистического движения в России к репрессивным действиям ГПУ является суженным и политизированным подходом. При его использовании исследователь вопроса совершенно не учитывает слабые стороны самих эсеров, не анализирует то, в какой степени данные слабости оказали влияние на процесс политического крушения партии. В этом подходе сказывается перенятая от западных авторов традиция к определённой идеализации российских демократических социалистов ввиду их антибольшевистской и отчасти прозападной политической ориентации. Тем самым создаётся политическое противоречие: ПСР сумела сохраниться и восстановиться после репрессий самодержавия, во время красного и белого террора, а в 20-годы неожиданно прекратила своё существование. Уже одно это обстоятельство вызывает сомнение в исключительно насильственном пути исчезновения партии эсеров. Исследование же тех условий (как внутренних, так и внешних), в которых протекал этот процесс, говорит о скорее идеологической подоплёке этого вывода.
Изучение процесса 1922 года исследователи данного направления тоже сделали во многом идеологическим приёмом, пойдя в этом пути за Конквестом и Пайпсом , характеризовавших его как «театр агитпропа», «большевистский политический спектакль», «первый из показательных процессов». В соответствии с подобной позицией, это направление историков не видело в процессе 1922 г. присущих ему особенностей, характеризуя только его внешние формы, роднившие его с процессами 30-х годов. Через характеристику этих внешних форм исследовалось и содержание процесса, т. е. вопрос о виновности подсудимых. Ответ на этот вопрос давался данным направлением исследователей однозначно: подсудимые были невиновны в предъявленных обвинениях. При этом в политических обвинениях их разработка сводилась целиком и полностью к смене окраски событий, трактовке их в пользу подсудимых. Особый упор делался на то, что именно эсеры являлись наиболее легитимными носителями власти по итогам выборов в Учредительное собрание. В центре критики находилась и сомнительная легитимность всего суда в целом. Наиболее опасное для подсудимых первой группы обвинение в террористической деятельности характеризовалось исследователями, придерживающимися подобных взглядов, исключительно как «чекистская провокация», направленная на дискредитацию партии эсеров и предоставляющая законный повод для расправы с ней. Опираясь на эти взгляды, они полностью отвергли один из основополагающих источников по теме — мемуары Семёнова. Догматически признаваемые в советское время за истину, не подлежащую проверке, в постсоветский период они были также догматично и без оговорок признаны мистификацией, доказательством чему считали прошлое их автора. Между тем имеется ряд свидетельств в пользу того, что полностью отбрасывать их как источник неверно.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в 90-е годы, благодаря новым открывшимся возможностям, в исследовании темы удалось продвинуться. Тем не менее, несмотря на формальную деидеологизацию исторической науки, следует констатировать, что при исследовании данной темы идеологическая сторона всё ещё играет значительную роль. Новые подходы направлены скорее на то, чтобы опровергнуть своих предшественников, чем на реальное раскрытие всех аспектов темы, что приводит вместо исследования вопроса о причастности эсеров к террору 1918 г. к сведению всей темы к «комплексу большевистской неполноценности» и подмене реальных результатов процесса «моральной победой» подсудимых В настоящее время в исследовании освещаемой темы, ввиду актуальности момента, наметился определённый прогресс. Количество новых работ, связанных с ней, остаётся крайне незначительным, но то новое, что привносится ими в историю исследования вопроса, говорит о постепенном преодолении идеологической составляющей и отказе от крайних позиций в формирования мнения о причинах крушения партии эсеров. Примером может послужить работа Л.Г. Косулиной «Эволюция теоретических основ и практической деятельности партии социалистов - революционеров в 1901-1922 гт,». Именно этот научный труд представляет собой достаточно редкий пример объективности и деидеологизации в подходе исторической науки к рассмотрению партии эсеров. В нём удачно соблюдается компромисс между теми позитивными результатами, которые были достигнуты в советское время и теми, что появились в постсоветский период. Так, не отрицая факта репрессивного подавления эсеров большевистскими властями, автор, в то же самое время, подробно раскрывает слабые стороны партии и приходит к выводу, что они в не меньшей степени послужили её быстрому схождению с политической арены. Важные стороны истории и кризиса региональных организаций ПСР в 1922-1923 гг.
25 исследованы А. И. Юрьевым. Однако процесс 1922г. и в данном
25 Юрьев А. И Последние страницы истории партии социалистов-революционеров // Отечественная история 2001. № 6 случае остаётся второстепенным эпизодом, остающимся в представлении исследователей исключительно «эсеровским делом». Это обстоятельство даёт возможность вновь поднимать вопрос о необходимости оценки реальной роли этого события в ранней советской истории и его влияния на последующие события.
Источниковая база рассматриваемой темы представляет собой обширный и довольно разнообразный спектр самых различных источников. Однако их использование представляет собой затруднительный момент для исследователя. Многие из них долгое время оставались недоступными для изучения по идеологическим и политическим соображениям, либо ввиду их нахождения за границей и связанной с этим неизвестностью российской исторической науке. Другие, более доступные, и известные источники также создают при их использовании определённые проблемы, поскольку могут быть ценными только при предварительном проведении критического анализа их содержания. Наконец имеется ряд источников, критический анализ содержания которых позволяет прийти только к приблизительным и наиболее вероятным выводам, построенным на совокупности фактов и их логической обработке. Подобный подход является допустимым в научной логике при условии временной или постоянной невозможности представить прямые подтверждения. Выше уже рассматривался пример такого рода, связанный с вопросом об устных санкциях Коноплёвой Семёнову и Усову на террористические акты. Подобный же случай связан с якобы существовавшей общепартийной резолюцией запрещающей террор, о которой упоминает секретарь Заграничной делегации ПСР Б. Н. Рабинович, но которая не была обнаружена. Возможно, проблема существования подобных нераскрытых моментов связана с тем, что
часть источников по-прежнему остаются недоступными и труднодоступными, и их раскрытие сняло бы большую часть вопросов. В нынешних же условиях утверждения из отдельных источников можно подтвердить лишь путём суммирования и анализа косвенных данных из других материалов.
По данной теме существует несколько групп источников различающихся степенью достоверности и ценностью содержания. Первую и основную группу составляют документальные источники. Сюда входят документы следственного дела, протоколы судебных заседаний, постановления руководящих органов по вопросам, относящимся к подготовке и проведению процесса над эсерами, переписка между большевистскими руководителями, с высказанными мнениями, о том каким быть процессу, справочный материал ГПУ и Верховного Трибунала Кроме того, это материалы, непосредственно освещающие деятельность ПСР в России: материалы съездов и советов партии, резолюции и постановления областных конференций, переписка между внутрироссийскими организациями и с различными отколовшимися группами, наподобие «Меньшинства ПСР», которых партия в период некоторого оживления пыталась вновь подчинить своему влиянию. Долгое время часть этих документов находилась в весьма ограниченном доступе, и открытие большей части из них способствовало активному развитию исследовательских работ по тематике. Ввиду изменившихся условий и из-за возросшего интереса к теме, в последние годы было сделано несколько попыток суммировать и систематизировать известные материалы. В 1996 коллективом исследователей был издан сборник «Партия социалистов-революционеров: 1900-1925г.» (ответственный редактор — Н. Д. Ерофеев). В части 2. 3-го тома данного издания содержится значительная часть известных документов по теме. Ещё более полным собранием был подготовленный С. А. Красильниковым, К. Н. Морозовым и И. 6. Чубыкиным. «Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь-август 1922г.)» Ценность данного издания заключается в разнообразии подобранных авторами документов, и публикации недоступных ранее материалов из архива ФСБ.
Долгое время пробелом оставалось неизвестное советским исследователям документальное наследие заграничных эсеровских организаций, главным образом, Заграничной делегации - формально высшего органа ПСР за границей. Это обстоятельство осложняло рассмотрение процессов, протекавших в указанное время внутри партии и, следовательно, изучение влияния этих процессов на позиции социалистов-революционеров во время суда и дальнейшую их участь. Заполнен этот пробел лишь в 1989 г. благодаря голландскому исследователю М. Янсену, открывшему и систематизировавшему документальную базу заграничных эсеров из т. н. Амстердамского Архива. Часть этих документов была им опубликована в сборнике «Партия социалистов-революционеров после октябрьского переворота 1917г.» Данные материалы оказались ценными ещё тем, что в них сохранились копии отрывков стенограммы судебного процесса, которые потом попали в общую стенограмму в искажённом виде. Это позволило ещё более полно представить происходящее в ходе судебных заседаний. Данная • группа источников является основой для исследований по процессу, раскрывая положение, в котором находились противоборствующие стороны в период подготовки и проведения процесса, трудности, с которыми им пришлось столкнуться, применяемую сторонами тактику и т.д.
Вторая и весьма обширную группа источников — агитационные материалы, большую часть из которых, составляет периодическая печать. Пропагандистская кампания, развёрнутая вокруг процесса с самого начала приобрела весьма значительные масштабы. «Пятёрка, назначенная Политбюро ЦК РКП (б) руководить пропагандой, распределила выработанные лозунги между наиболее крупными советскими изданиями для соответствующего освещения событий прошлого и происходящего. Материалы этих периодических изданий долгое время служили исследователям основным источником информации о процессе. Ведущие издания («Правда», «Известия») вели хронику процесса, пересказывая в весьма тенденциозном стиле, происходящее на нём, и временами приводя выдержки из стенограммы. Одновременно за границей разворачивалась руководимая Заграничной делегацией ПСР контрагитация, где также довольно тенденциозно освещалось всё происходящее на суде. Хотя политическая ангажированность этих материалов, как с той, так и с другой стороны, очевидна, их использование способствует раскрытию вопроса о краткосрочных итогах процесса, сильных и слабых моментах системы большевистской и эсеровской пропаганды. Кроме того, нельзя характеризовать всю деятельность периодических изданий с обеих сторон только как массовую агитацию. Нередко факты, приводимые в этих целях противоборствующими сторонами, отражали объективную реальность и одновременно наносили урон • политической репутации оппонента. Примерами такого рода служит раскрытие эсеровской газетой «Голос России» репрессивной деятельности ВЧК-ГПУ, провала большевистской полигики «военного коммунизма» переход к НЭПу, который они трактовали как «отступление от социализма». Со своей стороны большевистские газеты вскрывали такие болезненные для партии эсеров стороны, как систематический и всё более углубляющийся раскол в партии, интервенционалистские настроения её правого крыла, его сотрудничество с сомнительными организациями откровенно антисоциалистической ориентации. Подобные идеологические атаки в определённые моменты способствовали значительным изменениям в ходе процесса, например, изменяли расстановку сил в большевистском руководстве по вопросу о смертной казни Исходя из этих положений, использование этих источников объективно способствует освещению процесса. Третью группу источников составляют публицистические произведения ряда участников событий, направленные на освещение некоторых моментов истории партии социалистов-революционеров. Примерами являются статьи В. М. Чернова «Вехи на трудном пути», «Разоблачитель», статья С. В. Маслова «Прошлое провокатора», а с противоположной стороны - статья Г. Е. Зиновьева «Процесс эсеров и убийство Володарского» и др. Эта группа источников более чем другие нуждается в критическом подходе, поскольку их направленность на выяснение связанных с историей партии и процессом 1922 г. вопросов, в значительной степени перекрывается политической ангажированностью автора. Этим и обусловлены свойственные подобного рода источникам противоречивость и содержание в них недостоверной информации, не подтверждаемой из других источников.
• Сходные с предыдущей черты имеет четвёртая группа источников мемуаристика. В рассматриваемой теме она занимает важное место. Наиболее значимым источником здесь, безусловно, является работа предводителя Центрального Боевого отряда и главного подсудимого второй группы на процессе Г. И. Семёнова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров (конец 19171918 гг.)»(Изд. 1922). Из всех источников это вероятно наиболее противоречивый, полностью признанный одной группой исследователей и полностью отвергнутый как мистификация другой группой. Не тот ни другой подход как уже говорилось выше, не является приемлемым, поскольку данные других источников содержат как подтверждения так и опровержения отдельных фактов, содержащихся в книге. При этом, очевидно, что личность и мотивы автора необходимо учитывать при исследовании работы. Учитывая спорные вопросы, связанные с воспоминаниями Семёнова, автором данной работы предпринята попытка, осветить мотивы и обстоятельства её написания. Тем не менее, эти мемуары остаются во многих отношениях ценным источником. Кроме воспоминаний Семёнова к мемуаристике, связанной с процессом, следует отнести воспоминания идейного лидера эсеров В. М. Чернова, союзника эсеров видного меньшевика В. С. Войтинского и др. требующие того же критического подхода.
Таким образом, обстоит то положение, которое сложилось в изучении рассматриваемой темы на сегодняшний момент и является исходным моментом для написания представленной работы. В основу её замысла положены те положительные тенденции, которые наметились в последние годы в исследовании процесса 1922 г. и его влияния на судьбу партии эсеров и становление советской общественной модели в целом. Опираясь на эти тенденции, автором сделана попытка раскрытия выше обозначенных узловых моментов, результатом которого должно стать выявление подлинного значения т. н. эсеровского процесса 1922 года.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Процесс партии социалистов-революционеров 1922 г. : Политический и социально-психологический аспект"
Заключение.
Подводя итоги данной работы, следует сказать, что процесс 1922 года, как историческое событие оставляет значительное количество вопросов достойных внимания исторической науки. Оказавшись непосредственным предшественником знаменитых процессов 30-х годов, эсеровский процесс 1922 года был совершенно заслонён ими в работах историков, хотя его роль и результаты имели гораздо большее значение для развития советской политической модели. В научных работах, посвящённых истории партии социалистов-революционеров, ему как правило не уделялось особого внимания В советское время его замалчивание объяснялось господствующей идеологией, но надо отметить, что и в нынешнее время он остаётся идеологически «неудобной темой» как для исследователей, придерживающихся старых позиций, так и тех, кто придерживается противоположного мнения. Первое направление исследователей стремится представить процесс эсеров как дело маргинальной политической группировки, выродившейся ещё в 1918 году в криминальное сообщество, закончившийся заслуженным приговором и поэтому эпизод изолированный и оказавший влияние на историю страны не более чем любое уголовное разбирательство того времени. Их противники напротив представляют процесс как чисто политический и рисуют подсудимых первой группы как жертв тоталитарной системы, подобных подсудимым Шахтинского процесса, дела Промпартии и др., превращая его в рядовой эпизод борьбы советской системы с инакомыслием. И в том и в другом случае данное событие советской политической истории трактуется однозначно, а между тем оно было и остается одним из самых противоречивых её страниц, тем более важным, что при тщательном исследовании оно ломает многие давно утвердившиеся стереотипы. Попадает под сомнение укоренившееся и явно ангажированное мнение Р. Конквеста и Р. Пайпса и их российских последователей о суде над социалистами-революционерами как о первом показательном процессе из тех, что позднее «стали нормой». Очевидным становится происхождение этой теории из обобщающего подхода к советской истории и особенно первым её десятилетиям, родившегося на Западе и пришедшего в Россию в конце 1980-х годов. Между тем, разница между этими процессами и судом над эсерами слишком очевидна Общеизвестный факт, что подсудимыми были не мифические «троцкисты-вредители» или агенты сразу нескольких иностранных разведок, как в конце тридцатых, а реальные противники большевистского режима, боровшиеся с ним различными путями, в том числе и вооружённым. «Нелегитимность» большевистского правительства не является, в данном случае серьёзным аргументом, поскольку к 1922 году на территории России не было никакого более легитимного правительства Уже это аксиоматическое отличие, должно служить для добросовестных исследователей препятствием для отождествления процесса 1922 года с более поздними, проведёнными в конце 20-х и 30-е годы. Но в данной работе представлены и другие различия, и главное из них - сама содержательная часть процесса сформулированная в обвинительном акте. В отличие от других процессов в данном случае наиболее вероятным является соответствие части обвинений реальной действительности. К таковым в частности принадлежит, обвинение в террористической и экспроприаторской деятельности. Безусловно, дать окончательный ответ о том, была ли партия социалистов-революционеров причастна к покушениям на Володарского и Ленина в 1918 году, не представляется сейчас возможным. Некоторые обстоятельства дела, по-видимому, уже невозможно восстановить в полном объёме. Но всё же самой достоверной представляется версия о том, что видные представители этой партии являлись виновными в организации и проведении террористических актов. На это указывает и попытка подсудимых первой группы отрицать, что отряд Семёнова был создан с ведома ЦК и напрямую подчинялся ему, и выдвинутые их защитниками за рубежом абсурдные версии о незначительной роли Семёнова в партии и якобы имевшем место исключении его в 1919 году. Кроме того, то обстоятельство, что эсеровское руководство и его сторонники неоднократно являлись источниками несоответствующих истине утверждений (примеры этому неоднократно приводились в данной работе), не даёт основания поверить им больше, чем агенту ГПУ Семёнову и утверждениям его соратников и исходящая от них информация заслуживает при исследовании не менее критического отношения. Показания же подсудимых Иванова и Агапова свидетельствуют скорее в пользу верности версии Семёнова Во всяком случае, эта версия выглядит более правдоподобной, чем противопоставленная ей теория об инспирированной ВЧК грандиозной провокации. Подобная операция являлась совершенно невозможной для ещё малочисленного и непрофессионального ведомства и одновременно бессмысленной и даже опасной по своему результату. При этом в данной работе неоднократно подчёркивалось, что к факту частичной виновности партии эсеров в инкриминируемых её руководителям преступных действиях, необходимо подходить комплексно, поскольку он имеет оборотную сторону в виде других пунктов обвинительного акта. В отличия от обвинения в террористической деятельности, по которому эсеровские руководители, в частности Гоц, Донской и Иванов, были виновны, но не признавали этого, факты своей политической борьбы с большевиками, за которые их весьма спорно можно было осудить, они не только не скрывали, но всячески демонстрировали. Этим они породили (вместе с ГПУ и большевистской пропагандой) миф о ПСР, как о ведущей силе в борьбе против большевистского режима в самом начале его становления, в конце 1917-1918 гг. Очевидность факта борьбы партии с большевистской властью и создала это устойчивое мнение. Однако исследование роли ПСР в происходивших в это время политических событиях и её реальных самостоятельных действий показывает, что миллионная ПСР так и не смогла действовать в качестве самостоятельной силы и её попытка проводить линию «третьего пути» во многом осталась теоретическим положением их программы. Даже такие удачные социалистические проекты как Самарский Комуч и Архангельское правительство нельзя признать полностью самостоятельной величиной ввиду частичной зависимости их от внешних сил, таких как чехословацкие части и интервенты. Не случайно многие представители партии, работавшие в них (такие как Авксентьев Зензинов, Маслов) впоследствии оказались её ренегатами «справа», такими же какими «слева» стали Семёнов, Дашевский или Буревой. Ещё более незначительной оказалась роль эсеров в провалившемся выступлении в октябре 1917 года, неудачной попытке противостоять разоружению гвардейских полков или Кронштадтском движении. Именно эта малая роль партии должна оправдать её как в глазах исследователей, которые, являясь сторонниками большевиков, видят в данных действиях преступление, так и их противников, видящих в них сопротивление тоталитаризму. Вне зависимости от политической оценки событий фактическое участие в них социалистов-революционеров выглядит в большинстве случаев косвенным и незначительным и никак не свидетельствует о ней как о ведущей силе, а, следовательно, подсудимые объективно являлись невиновными в предъявленных им политических обвинениях. Но это обстоятельство, важное в деле разрушения существующего стереотипа, всё же не отменяет главного: ряд обвинений в отношении ПСР был обоснованным, и указанные деяния имели место. В этом отношении процесс 1922 года не может быть отождествлен с процессами 30-х годов.
В то же время не следует, подобно К.В. Гусеву считать, что суд над эсерами не имел ничего общего с Шахтинским процессом или процессом по делу «вредительского троцкистско-зиновьевского центра». Проходя в иной обстановке, он, тем не менее, во многом стал в ряде аспектов предшественником всех последующих и исследуя его, можно одновременно проследить как рождалось то, что потом будет сопровождать каждое громкое судебное действие. Наиболее ярким явлением подобного рода явилось узаконенное волей властей раздвоение советской юстиции на формально-юридическую, игравшую зачастую фиктивно-вспомогательную роль и «революционную» или классовую, игравшую роль некоего высшего закона, ликвидирующего для революционного суда те рамки и помехи, которые поставлены ему формально-юридическими нормами. Впервые это разделение было теоретически оформлено и практически применено именно на процессе 1922 года, где в значительной степени спасло Трибунал от развала всего обвинения и позволило ему преодолеть «препоны» в виде норм советского уголовно-процессуального кодекса и принятых ранее постановлений об амнистии как партии эсеров в целом, так и её отдельных членов. Своё практическое выражение это разделение нашло в первых явных проявлениях зависимости судебной системы, снижения её роли до положения исполнителя решений ЦК и сведения её задач к формальному закреплению результатов работы органов госбезопасности. Другой характерной чертой впервые проявившейся на процессе 1922 года стала необходимость заранее предрешённого судебного приговора, явная настолько, что даже организаторы и участники процесса не считали нужным скрывать её. Примерами этому могут послужить проект письма, подготовленный Зиновьевым и письмо Цеткин и Брандлера, а также заявление Крыленко Гоцу, что всех подсудимых можно было бы «расстрелять в первый же день без всякого суда».
Но даже и в этом внешнем сходстве процессу ПСР присущи специфические отличия. Здесь, как видно из документов, подобная практика «революционной юстиции» применяется властями и судом ещё робко, без чётко определённой линии, от случая к случаю, по большей части вынужденно и вызывает отторжение даже у ряда участников процесса даже с большевистской стороны (Галкин, Рязанов). В ряде случаев сторона обвинения понуждается оправдывать свой произвол, пытаться прикрыть его некими юридическими обоснованиями. Предрешённость же исхода процесса 1922 года на деле оказалась призрачной, подверженной пересмотру. И это был единственный случай, когда большевистское руководство приняло решение отступить под давлением момента от своего первоначального намерения. Причём отступление это также произошло под влиянием уникальных обстоятельств, которые никогда больше не имели места в истории советской системы.
Прежде всего, это тот резонанс, который возник в связи с судом и возможной смертной казнью социалистов-революционеров и которого явно не ожидало советское руководство. Ни до, ни после этого советским пропагандистам, дипломатам и спецслужбам не приходилось сталкиваться со столь эффективной и массовой протестной кампанией, где принимало бы участие столько людей и организаций, имеющих общепризнанный мировой авторитет. Эсеровский процесс стал, таким образом, единственным, вышедшим на международный уровень. Другой отличительной чертой процесса 1922 года, стал тот бой, который дали подсудимые на процессе Трибуналу и обвинению. Даже оставшись без своих адвокатов, устранённых с процесса путём всяческих ухищрений организаторов суда, они с помощью только собственного правового опыта и элементарной логики сумели весьма успешно опровергнуть ряд направленных против них построений обвинителей, заставить их во многих случаях выпутываться из созданных ими же самими юридических коллизий и выглядеть настолько неуверенно, что даже некоторые большевистские лидеры, подобно Зиновьеву, усомнились в успехе процесса, задолго до его окончания и приступили к поиску компромисса. Но самым примечательным обстоятельством были те разногласия, которые возникли в ходе его подготовки и проведения в недрах самой правящей партии и наличие в ней своего рода «внутренней оппозиции», из тех большевистских лидеров, кто выступал против казни подсудимых, поскольку не видел в родственной социалистической партии опасных врагов. Их политическое сознание, сформировавшееся в период борьбы с самодержавием в условиях революционного подполья, эмиграции, а порой тюрьмы и каторги (которую многие из них отбывали вместе с подсудимыми эсерами), не позволяло им увидеть врага в революционере к какой бы партии он не принадлежал. Отсюда и недоверие к предъявленным обвинениям, что принадлежащий к любой партии революционер мог совершать покушения на признанных вождей революции - Ленина, Троцкого и др., открытое сочувствие подсудимым и презрительное отношение к «осведомителю» Семёнову. Особенно ярко это отразилось в письме Уншлихта и речи Рязанова Если такое отношение к подсудимым проявляли даже осведомлённые лидеры, то вполне понятно, что оно широко распространилось среди рядовых коммунистов, что также убедительно демонстрируется письмом Уншлихта Но в эту внутреннюю оппозицию вошли даже многие из тех, кто не сочувствовал подсудимым эсерам, и имел другие мотивы сопротивляться принятому влиятельной и непримиримой частью ЦК решению в отношении их судьбы. Мотивами этими могли быть и убеждение о необходимости соблюдения внешних форм законности независимо от политических мотивов (Галкин) и наконец элементарная политическая целесообразность (Луначарский, Зиновьев, деятели Коминтерна). Это действительно было уникальным случаем уже в те времена и тем более не возможно это стало позднее. И именно здесь, и содержится ответ на вопрос о том, чьей же «победой» явился процесс 1922 года Это не была в полной мере победа большевистского руководства, которому, несмотря на ряд значительных успехов, так и не удалось доказать «политическое и моральное банкротство» ПСР. Одновременно это не была победа эсеров, несмотря на то, что в юридическом и моральном плане они, безусловно, во многом переиграли своих обвинителей. Противостояние слишком дорого стоило партии и при этом все усилия, направленные на спасение жизни подсудимых, могли оказаться тщетными. Судьба их оставалась нерешённой до самого конца, и только вмешательство «внутренней оппозиции» решило дело в их пользу. Именно ей и принадлежит победа над наиболее влиятельными и непримиримыми вождями на процессе 1922 года.
Таким образом, уже все эти отличительные особенности выделяют процесс 1922 из общей череды событий «большого террора» 20-х-30-х годов, к которому его иногда причисляют или «красного террора» времён гражданской войны. Но этим не исчерпывается историческая важность этого знакового события начала 20-х годов. Главные её факторы - масштаб самого процесса и тех последствий, которые он имел и их существенное влияние на формирование советской системы. Масштаб процесса значительно перерос не только непосредственное разбирательство над 34-мя подсудимыми, но и столкновение между двумя конкурирующими партиями. На деле судебное разбирательство вылилось в противостояние двух идеологий, имеющих своей конечной целью социализм, но представляющих его и пути построения крайне различно. Социализм демократического плана близкий к западноевропейскому, столкнулся с административно -государственническим социализмом. И именно в период предшествующий суду и в его ходе впервые произошло прямое их столкновение и состязание, какого до этого не происходило за двадцатилетнюю историю существования обеих партий. В дореволюционное время, несмотря на значительные различия, социалистов объединяла единая цель: борьба с самодержавием. Февральская революция развела большевиков и эсеров по их отношению к войне и Временному правительству в разные лагеря, но и на этом этапе о прямом столкновении двух социалистических течений говорить ещё невозможно. В то время их ещё объединяли общие идеи, наподобие Учредительного собрания, к тому же Временное правительство было коалиционным и эсеры (кроме очень сомнительного в идеологическом отношении Керенского) находились в нём на вторых ролях, подчинясь воле кадетов и крупных промышленников. Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания привели эсеров и большевиков и к вооружённому столкновению. Но если большевистская партия выступала со своей идеологией как отдельная сила, то ПСР не смогла проявить себя как таковую в период гражданской войны, вступая в коалиции с различными более правыми несоциалистическими элементами и быстро уступив ведущую роль в антибольшевистском движении либералам и военной реакции. В начале же 20-х годов, когда основные антибольшевистские силы монархической и либеральной направленности были разгромлены, а политика правящей РКП начала вызывать широкое недовольство партия социалистов-революционеров получила исторический шанс попытаться привлечь под знамёна своих ещё довольно популярных идей большинство населения России. Открытый процесс мог стать для них той трибуной, с которой они могли не только опровергнуть выдвинутые против них обвинения, но и провести масштабную пропаганду своей идеологии. Для правящей партии они оказались последним существенным препятствием на пути к монополизации власти, тем более опасным, что были готовы играть по правилам создаваемой ею системы (отказаться от идеи Учредительного собрания, участвовать в выборах в Советы), с предоставлением только равных возможностей для агитации. Пойдя на открытый процесс, коммунистическая партия стремилась через обвинение ПСР в различных преступлениях осудить и дискредитировать ту идеологию носителем, которой она являлась. Этим и объясняется несколько необычный ход процесса, превращающегося по временам в теоретическую дискуссию по экономическим, политическим и научным вопросам. Естественно такое противоборство двух идеологий было слишком заметным, чтобы не привлечь внимание других сторонников, как одного, так и другого направления, и дискуссия быстро начала приобретать общеевропейский, а затем и практически мировой масштаб. Подобное развитие событий, могло, в условиях недовольства населения, поколебать устои ещё только формирующегося советского строя. Поэтому вполне естественным выглядит последующее превращение процесса из открытого в по сути закрытый. Это несколько сгладило его эффект, но не снизило его значения как последней и во многом уже призрачной попытки выбора пути дальнейшего развития новой России.
Не менее важными, чем масштаб процесса 1922 года, стали его итоги как краткосрочные, так и долгосрочные. К числу важнейших краткосрочных итогов процесса относится крушение надежд и гибель партии социалистов-революционеров. Такое развитие событий казалось неожиданным, учитывая некоторые рецидивы популярности партии и её идей среди населения, и то, что властям так и не удалось доказать тезис о её «политическом банкротстве». Поэтому многие исследователи видели причину её гибели только в масштабных репрессиях, обрушившихся на ПСР после процесса На деле же причины исчезновения партии гораздо более широкие и процесс сыграл в этом немалую роль, ударив по наиболее слабым её сторонам. Одной из таких сторон стала рыхлая структура партии социалистов-революционеров, неспособность её руководящих органов сплотить ряды своих членов. Годы противостояния с большевиками и особенно напряжённые месяцы процесса привели к тому, что часть их, разуверившись в социализме, качнулась вправо, часть влево к большевикам, многие просто отказались от дальнейшей борьбы и стали пассивными созерцателями происходящего. Ядро ПСР фактически в одиночку продолжало отстаивать свои идеи, и когда наступил кульминационный момент противостояния в виде процесса, ему пришлось пойти на крайнее напряжение своих сил и ресурсов. В результате силы оказались подорваны, а ресурсы истощены. Ряд поправевших эмигрантов от партии проявил полное равнодушие к судьбе своих судимых товарищей и тем самым ещё больше усугубил состояние раскола партии, что во многом стало гибельным для нуждающихся российских организаций. В то же время политические авантюры раскольников, их призрачные союзы с откровенно правыми маргинальными организациями нанесли ущерб социалистической репутации партии. Немалую роль в гибели ПСР сыграла и выбранная ей тактика привлечения новых членов. Выросшая из «демократических традиций» партии, она основывалась на широкой агитации помноженной на политическую инициативу снизу. Эсеровские идеологи не учитывали, что четыре года гражданской войны и террора со стороны красных и белых настолько подорвали политическую активность населения, что даже наиболее привлекательные идеи, не могли побудить его к борьбе за них. Начало 20-х годов стало временем угасания последних, локальных вспышек антибольшевистского сопротивления. В таких условиях партия эсеров не могла рассчитывать на большее чем полускрытое сочувствие со стороны населения и вялую угасающую деятельность разрозненных групп, постепенно ликвидируемых ОПТУ. Долгосрочными последствиями процесса стало развитие и укрепление основ нового политического строя под руководством
РКП (б). Правящая партия вынесла с процесса эсеров множество полезных уроков. Убедившись на примере ПСР, насколько гибельными на переломном этапе истории становятся разномыслие и административная рыхлость, большевистские лидеры твёрдо держали курс на создание отлаженной централизованной и иерархичной партийной машины, способной к быстрому реагированию и мобилизации на выполнение поставленных целей. Этот курс, начатый в 1921 году 10-м съездом партии, ускорился после процесса эсеров. Руководство партии всячески стремилось не допустить повторения связанной с ним ситуации, когда внутренняя оппозиция вынудила его переменить решение. Курс достиг своего пика к концу 20-х годов. Одновременно с внутренней централизацией шёл аналогичный процесс во внешнем представительстве партии - Коминтерне, проявившем во время процесса значительную самостоятельность. К началу 30-х годов относительная независимость Коминтерна была подавлена, и он окончательно стал орудием внешней политики СССР. Другим важным последствием процесса стало дальнейшее развитие пропагандистского аппарата. Наблюдения ГПУ показали руководству страны, что хотя население страны уже перешло от взрывоопасных революционных настроений к состоянию политической инертности, оно ещё далеко от лояльности новому строю и эту лояльность необходимо культивировать путём идеологической работы. Между тем имевшийся в тот момент пропагандистский аппарат правительства оказался слишком слабым для противостояния с развитой системой агитации зарубежных социалистических и профсоюзных организаций. Дальнейшие события советской истории показали, что опыт эсеровского процесса не прошёл даром: за последующее десятилетие в СССР была создана одна из самых совершенных в мире систем пропаганды и идеологического воспитании. Одновременно с этим большевики укрепляли то, что отрицали эсеры - эффективный и разветвлённый аппарат подавления и контроля. Деятельность ГПУ во время подготовки и проведения эсеровского процесса говорит о недостаточном профессионализме его сотрудников, однако, в то же время, проведённые чекистами успешные операции демонстрируют, что этот недостаток быстро преодолевался. Причём велась эта работа в условиях, когда полномочия органов госбезопасности были сильно урезаны: ГПУ, в отличие от своей предшественницы ВЧК, не имело даже самостоятельного статуса и входило в состав наркомата внутренних дел, а кадры были значительно сокращены. После эсеровского процесса, советское руководство признало подобную политику ошибочной. В 1923 г. создаётся ОПТУ, уже в статусе отдельного наркомата и с более широкими полномочиями, ставшими очередным шагом к тем неограниченным возможностям, какую получит НКВД в 30-е годы. Сильный и профессиональный аппарат госбезопасности на долгие годы станет отличительным признаком и одновременно одной из основ новой системы и ситуация, подобная, сложившейся во время эсеровского процесса, станет в дальнейшем невозможной.
В свете вышесказанного можно утверждать следующее: процесс 1922 года не выявил, вопреки утверждению советской историографии политического банкротства партии социалистов-революционеров, но при этом схождение её с российской политической арены было предопределено. Политические идеи эсеров об установлении в России демократического социализма, близкого к европейским образцам, ещё оставались в это время востребованы и находили отклик у населения Советской России.
Партия не была оторвана от общества н во многом объективно оценивала его состояние и воспринимала его проблемы. Однако для воплощения своего верного стратегического замысла ПСР была избрана неверная тактика. В условиях крушения дореволюционного российского общества и довольно долгого периода его дезориентации воплощение теоретических замыслов на практике было возможно только через чётко отлаженные руководящие механизмы. По пути их создания и пошла большевистская партия. В отличие от них эсеры таких механизмов управления создать не смогли, более того таким механизмом не была даже их собственная партия. Постоянные расколы, феномен «мартовского эсера», склонность поступаться своими позициями, привела ПСР к тому критическому моменту, когда подвести практическое воплощение под свои идеи уже не представлялось возможным. Этим моментом истины стал процесс 1922 года.
Со времени процесса над лидерами социалистов-революционеров прошло уже более 80-ти лет. За это время перестала существовать однопартийная советская система, и российское общество вновь оказалось в ситуации дезориентации и неопределённости путей дальнейшего развития. Предпринимаются попытки возрождения многопартийной системы, однако на сегодняшний день можно ответственно говорить об их неудаче этих попыток. Преодоление данного кризиса невозможно без учёта исторического прошлого российского государства, приобретения через изучение этого прошлого опыта, не повторение ошибок совершаемых предшествующими поколениями российских политических кругов. Удачной вторая попытка создать многопартийность в России может стать лишь путём тщательного изучения показательных исторических примеров иллюстрирующих неудачу первой попытки начала 20 века. Одним из наиболее ярких подобных примеров является прошедший в 1922 году процесс социалистов-революционеров.
Список научной литературыСафонов, Иван Анатольевич, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Астрахан X. М. Большевики и их политические противники в 1917 г. -М, 1973. 405 с.
2. Булдаков В. П. Красная смута. М., 1993. 376 с.
3. Вар дин И. В. Эсеровские убийцы и социал-демократическиеадвокаты. Факты и документы.- М, 1922. — 38 с.
4. В ар дин И. В. Политические партии и русская революция. — М.1922.48 с.
5. Владимирова В. Год службы социалистов капиталистам. М.,1927. 92 с.
6. Возвращённые имена. Сб. статей. -М., 1989. 510 с.
7. Гладков Т. На переломе. // Награда за верность казнь. - М.,2003. 722 с.
8. Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн.2.-М., 1986. 251с.
9. Гусев К. В. От соглашательства к контрреволюции. М., 1968.447 с.
10. Ю.Гусев К. В. Партия социалистов-революционеров. От мелкобуржуазного революционизма к контрреволюции. М., 1975.-383 с.
11. П.Гусев К. В. Рыцари террора. М., 1992. 143 с.
12. Гусев К. В. Чернов. Штрихи к политическому портрету. — М 1999.207 с.
13. З.Гусев К. В., Басманов М. И., Полушкина В. А. Сотрудничество и борьба. (Из опыта отношения КПСС с непролетарскими партиями).-М., 1988. 381 с.
14. М.Гусев К. В. Большевики против мелкобуржуазных партий в России. (1910-1920). -М., 1969. 364 с.
15. Гусев К. В. Интеллигенция и революция. М., 1985. 335 с.
16. Журавлёв С. В. Человек революционной эпохи: судьба эсера террориста Г. И. Семёнова (1891 1937) // Отечественная история. -М, 2000. № 3. С. 87 - 105.
17. КонквестР. Большой террор. -М., 1988. 487 с.
18. Кононенко А. А. Современная российская историография партии социалистов-революционеров. // Отечественная история М, 2004. №4. С. 107-112.
19. Костин. Н. Д. Суд над террором: о подготовке покушения на В. И. Ленина. М., 1990. 254 с.
20. Косулина Л. Г. Эволюция теоретических основ и практической деятельности партии социалистов-революционеров в 1901-1922 гг.: Автореферат к докторской диссертации. М., Российский университет дружбы народов., 2003. 36 с.
21. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888 —1938. М., 1990. 620 с.
22. Красильников Д. Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной истории (1917- 1918, 1985-1993гг.). -Пермь., 1998. 233 с.
23. Лисовский П. В. На службе капитала, Эсеро-меныпевистская контрреволюция. Л., 1928. 75 с.
24. Луначарский А. В. Бывшие люди. Очерк истории партии эсеров. -М, 1922. 73 с.
25. Мельгунов С. П. Красный террор в России 1918-1923. М., 1990. 217 с.
26. Непролетарские партии в России в 1917 г. и в годы гражданской войны. Сб. статей. / под общей редакцией И. И. Минца. М., 1980. 289 с.
27. Непролетарские партии России в трёх революциях. Сборник статей.-М, 1989. 169 с.
28. Непролетарские партии России. Урок истории. Сб. статей — М., 1984.214 с.
29. Павлов Д. Б. Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 середина 50-х годов. — М., 1999. 229 с.
30. Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 662 с.
31. Покровский М. Н. Что установил процесс т. н. социалистов-революционеров. М., 1922. 66 с.
32. Политические партии России (конец 19 первая треть 20 в.) Энциклопедия. - М., 1996. 800 с.3 3. Политические партии России. Страницы истории. Сб. статей. / Отв. ред. Н. Д. Ерофеев. -М, 2000. 222 с.
33. Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. В 2-х т. Т. 2.-М., 1996.
34. Политическая история России в партиях и лицах. М. 1993. 218 с.
35. Россия на рубеже веков.: Исторические портреты. М., 1991.
36. Спирин JI. М. Банкротство непролетарских партий в России. 1917 1922. - М, 1977. 432 с.
37. Стеклов. Ю. М. Партия социалистов-революционеров (правых эсеров). -М., 1922. 63 с.
38. Суслов А. Ю. Партия правых эсеров в Советской России: Автореферат к кандидатской диссертации. Университет. — Казань., 2000. 23 с.
39. Федоренко А. А. Политическая концепция В. М. Чернова. М, 1999. 181 с.
40. Черномордик. С. И. Эсеры. Харьков., 1930. 211 с.
41. Юрьев Л. И. Последние страницы истории партии социалистов-революционеров // Отечественная история. — М, 2001. № 6. С. 129-135.
42. Янсен М. Суд без суда: 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров. М. 1993.
43. Ярославский Е. М. Третья сила. М., 1932.169 с.
44. Список источников по теме.
45. Авксентьев Н. Д. Большевистский переворот в Петрограде. Воспоминания. М., 1995. 22 с.
46. Агарёв А. Борьба большевиков с мелкобуржуазными партиями // Пропагандист. М., 1935. № 6.
47. Бабина Б. А. Февраль 1922. / публикация В. Захарова. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 2. М., 1990.
48. Беседа с Б. А. Бабиной. / Запись Н. А. Бармина. // Минувшее Вып. 2. -М., 1990.
49. Вар дин И. В. Адвокатская контора Вандервельде and brothers. // Правда. -М., 1922.14 мая.
50. Васильев (Семёнов) Г. И. Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров. Конец 1917 1918гг. - Берлин., 1922. 139 с.
51. Войгинский В. С. Двенадцать смертников. Суд над социалистами-революционерами в Москве. Берлин., 1922. 127 с.
52. Войгинский В. С. Дни поражений и побед. Воспоминания. — Берлин., 1924. 397 с.
53. Гутман К. Курт Розенфельд защитник эсеров // «Правда». — М., 1922. 20 Мая.
54. Ю.Дьяконова Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР. Сборник документов. М., 1992.
55. Защита на процессе с-р. // Голос России. № 967. Берлин., 1922. 17 мая.12.3иновьев Г. Е. Процесс эсеров и убийство Володарского. // Правда. -М., 1922. 20 июня.
56. К процессу. // Передовица. Голос России. № 967. Берлин., 1922. 17 мая.
57. Кого судили ? Листок Московского бюро партии социалистов-революционеров. Текст. М., 1922. 2 с.
58. Краткий отчёт о работе 4-го съезда ПСР. — Пт., 1918. 160 с.
59. Кто такие социалисты-революционеры и за что их судили коммунисты. Южное бюро ЦК ПСР. (Текст). 1922. 12 с.
60. Ленин В. И. Мы заплатили слишком дорого // ПСС. Т. 45.
61. Маслов С. С. Прошлое провокатора // Голос России . № 909. -Берлин., 1922. 7 марта
62. Маслов С. С. Разоблачитель // Голос России. № 909. Берлин., 1922. 7 марта
63. Нин А. Адвокаты контрреволюции. М., 1922., 5 с.
64. Одиннадцатый съезд РКП (б). 27 марта 2 апреля 1922 г. Стенографический отчёт. - М., 1922. 351с.
65. Партия социалистов-революционеров. 1900-1925.: Документы и материал ы. В 3-х т. М., 1996. 1054 с.
66. Партия социалистов-революционеров после Октябрьского переворота. Сб. документов. М., 1989. 772 с.
67. Речи государственных обвинителей. — М., 1922.248 с.
68. Речи защитников. Последние слова подсудимых. М., 1922. 212 с.
69. Советская каторга. Бюллетень Заграничной делегации партии социалистов-революционеров. Прага. 1922.15 с.
70. Стеклов Ю. М. А судьи кто? // Известия. М., 1922. 16 июня.
71. Стеклов В. М. Коготок увяз. // Известия. — М., 1922. 20 июня.
72. Суварин Б. Два француза на помощь контрреволюции // Правда -М., 1922 г. 21 Мая.
73. Суд над партией социалистов-революционеров. Тезисы и материалы. Петрозаводск., 1922.139 с.
74. Судебный процесс над социалистами-революционерами, (июнь-август 1922 г.): Сборник документов. М., 2002.1007 с.
75. Фанни Каплан: «Я стреляла в Ленина.». Документы и материалы. Рыбинск., 1992. 63 с.
76. Фанни Каплан или кто стрелял в Ленина. Сб. документов. / Сост. В. К. Виноградов. А. Л. Литвин. Казань, 1995.
77. Чернов В. М. Перед бурей. Воспоминания. -М., 1993. 406 с.
78. Чернов В. М. Иудин поцелуй. // Голос России. №. 901. — Берлин 1922. 25 февраля.
79. Чернов В. М. Невольникам своего ремесла // Голос России № 904. Берлин., 1922. 1 марта.
80. Чернов В. М. Конструктивный социализм. -М., 1997. 647 с.
81. Чернов В. Записки социалиста-революционера Прага, 1925. 194 с.
82. Что дали большевики народу. Листовка партии социалистов-революционеров. (Текст). Ростов-на-Дону., 1921. 19с.
83. Центральный комитет и Всероссийская Конференция ПСР озадачах момента. — Южное бюро ПСР., 1922. 7 с. 42.Э. Вандервельде о процессе социалистов-революционеров. // Голос России № 999. Берлин., 1922. 25 июня.