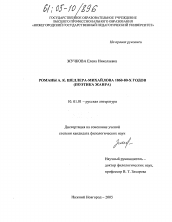автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Романы А.К. Шеллера-Михайлова 1860 - 80-х годов
Полный текст автореферата диссертации по теме "Романы А.К. Шеллера-Михайлова 1860 - 80-х годов"
На правахрукописи
Жучкова Елена Николаевна
Романы А.К.Шеллера-Михайлова 1860 - 80-х годов (поэтика жанра)
Специальность 10.01.01 - Русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Нижний Новгород 2005
Работа выполнена на кафедре русской литературы ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет»
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Захарова Виктория Трофимовна
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор
Николаева Евгения Васильевна (г.Москва),
кандидат филологических наук, доцент Уртминцева Мария Генриховна (г.Н.Новгород)
Ведущая организация: Арзамасский государственный педагогический
институт им. А.ПГайдара
2005г. в ^
Защита состоится . заседании --г---
диссертационного совета Д 212.166.02 в Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского (603000, г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 37, ауд.312).
С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (пр. Гагарина, 23).
Автореферат разослан «_»_2005г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Л.В.Рацибурская
Общая характеристика работы
Александр Константинович Шеллер-Михайлов (1838-1900) -талантливый и самобытный писатель-демократ, чье имя оказалось сегодня незаслуженно забытым. В силу этого проблема изучения творческого наследия Шеллера-Михайлова, несомненно, является актуальной. Можно утверждать, что перед нами - новый художественный мир, который нуждается в научном осмыслении. Авторов, подобных Шеллеру (А. Михайлов - это его псевдоним), принято называть писателями второго плана; при этом не стоит забывать, что своим кропотливым и упорным литературным трудом они внесли особый вклад вклад в историю русской литературы XIX века.
Следует отметить, что произведения Шеллера были очень популярны среди его современников, особенно - среди молодежи. Многими критиками и литераторами отмечался высокий нравственный пафос творчества писателя, но в то же время его упрекали в недостаточной художественности произведений, в излишних тенденциозности и морализаторстве, в некоторой расплывчатости авторской общественной позиции.
В отечественном литературоведении закрепилась традиция рассматривать произведения Шеллера как типичный образец русской демократической литературы о «новых людях». Будучи демократом по происхождению, образу жизни и общественным убеждениям, Шеллер-Михайлов не являлся, однако, революционером: основой общественных преобразований он считал не революцию, а нравственное самоусовершенствование человека. Действительно, герои его произведений далеки от революционной деятельности и заняты прежде всего вопросами семьи, образования, домашнего и школьного воспитания, наконец, вопросами собственного нравственного самоопределения и поиска смысла жизни. А. К. Шеллер-Михайлов — один из тех беллетристов, чьи романы были не только известны и любимы, но и очень своеобразно «вписывались» в исторический и культурный контекст XIX века.
По нашему убеждению, творчество Шеллера-Михайлова заслуживает возвращения в литературоведческий и читательский обиход. Актуальность данной работы обусловлена отсутствием монографических трудов, посвященных анализу творчества Шеллера-Михайлова, а также спецификой ракурса исследования (понятия о жанре и интертекстуальных связях -важнейшие в литературоведении).
Объектом нашего исследования являются романы А.К.Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов - «Гнилые болота» (1864), «Господа Обносковы» (1868), «Вразброд» (1870), «Падение» (1870), «Лес рубят-щепки летят» (1871), «Над обрывом» (1883) и рассказ «Вешние грозы» (1892).
Предметом настоящего исследования является поэтика жанра романов А. К. Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов в наиболее значимых ее аспектах, а именно: своеобразие персонажной системы; особенности пространственно-временной организации; значение и характер интертекстуальных связей в прозе писателя.
Научная новизна данной работы обусловлена самим ее объектом и заключается в изучении типологически значимых аспектов поэтики романной прозы А. К. Шеллера-Михайлова с целью выявления жанровой специфики его романов 1860-80-х годов. Изучение и определение характера интертекстуальных связей прозы Шеллера с современными ему произведениями писателей-классиков позволит установить факт типологического родства творчества писателей, придерживавшихся разных социально-политических и эстетических убеждений, обладающих разной степенью художественного дарования.
Цель диссертационного исследования - изучение жанровой поэтики романов А.К.Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов и выявление ее своеобразия.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• выявить наиболее показательные структурные элементы типологической модели романов А.К. Шеллера-Михайлова;
• раскрыть своеобразие персонажной системы романов А. К. Шеллера-Михайлова;
• определить особенности пространственно-временной организации в романах А. К. Шеллера-Михайлова «Лес рубят - щепки летят» и «Над обрывом»;
• классифицировать основные формы интертекстуальных связей и выявить их значение и способы функционирования в творчестве А.К. Шеллера-Михайлова;
• обозначить место романной прозы А.К.Шеллера-Михайлова в контексте русской классики второй половины XIX века.
В процессе работы в качестве методологической основы были использованы системно-целостный подход к произведению, историко-типологический и сравнительно-исторический способы изучения литературы. Структурно-семантический подход позволил через анализ художественных средств постичь своеобразие романного мышления Шеллера-Михайлова.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды М.М. Бахтина, Л.Я. Гинзбург, Ю.Н. Караулова, И.К. Кузьмичева, Н.С. Лейтес, Ю.М. Лотмана, В.Г. Одинокова, Г.Н. Поспелова, Н.Т. Рымаря, Н.А. Фатеевой, В.Е. Хализева, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что его материалы могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и спецкурсов, а также в организации практических занятий по русской литературе XIX века в вузах и колледжах. Научные результаты диссертации могут стать основанием для последующих разнообразных исследований творчества Шеллера-Михайлова, а также для изучения проблемы интертекстуальных связей и их значения в русской литературе XIX века.
Апробация работы проведена на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Нижегородского государственного
педагогического университета (2001,2002,2003, 2004 гг.), на методологических семинарах кафедры русской литературы этого вуза, на региональной научно-практической конференции «Воспитание будущего учителя в системе высшего педагогического образования» (Нижний Новгород, 2001), на международной конференции «Владимир Даль и современная филология» (Нижний Новгород, 2001), на Грехневских чтениях (Нижний Новгород, 2001), на межвузовской научно-методической конференции «Детская литература и детская книга» (Ярославль, 2002), на региональных научных конференциях - XI Рождественские православно-философские чтения «Православие и культура» (Нижний Новгород, 2002) и XII Рождественские православно-философские чтения «Православная духовность в прошлом и настоящем» (Нижний Новгород, 2003); в статьях, опубликованных во внутривузовских сборниках научных трудов. Результаты исследования нашли отражение в девяти публикациях по теме работы.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. В изученных романах А. К. Шеллера-Михайлова налицо синтез романической и бытоописательной тенденций, что обусловлено стремлением писателя показать зависимость формирования морально-психологического облика персонажа от быта, нравственных устоев и ценностей взрастившей его социальной среды.
2. Тема нравственного поиска, самоопределения и становления личности является ведущей во всех романах А. К. Шеллера-Михайлова, изученных нами, причем в большинстве случаев она связана с образом главного героя.
3. Особенности художественного изображения процесса самоопределения и становления личности в романах А. К. Шеллера-Михайлова могут быть постигнуты прежде всего через анализ персонажной системы, которая отличается четкостью и определенностью: отношения между компонентами строятся в основном или по принципу контраста, или по принципу содержательной конкретизации одного типологического ряда, или, наконец, по принципу «двойничества».
4. С течением времени творчество А. К. Шеллера-Михайлова претерпевало эволюцию, обогащаясь новыми формами и способами художественного воплощения центральной проблематики.
5. В таких романах писателя, как «Гнилые болота» и «Вразброд», повествование ведется от первого лица и события излагаются преимущественно в хронологической последовательности (прослеживается путь главного героя от младенчества к зрелости). Однако в романах «Господа Обносковы», «Лес рубят - щепки летят», «Над обрывом» повествование подчинено принципу отбора переломных событий из жизни героя. При этом в обоих случаях время может носить дискретный характер, и, как правило, это связано с принципом ретроспективного изображения событий. В произведениях А.К. Шеллера-Михайлова обнаруживается тенденция к расширению пространства; характер и особенности взаимодействия пространственно-временных
моделей в романах обусловлены своеобразием авторской задачи в
каждом конкретном случае.
6. Тексты произведений А.К. Шеллера-Михайлова позволяют говорить о разных формах проявления интертекстуальных связей, причем с наибольшей вероятностью о тех, которые маркированы: в частности, это заглавия-реминисценции («Господа Обносковы», «Над обрывом», «Вешние грозы»), многочисленные упоминания и цитаты, расширяющие художественное пространство текстов и выполняющие ряд других важных художественных функций.
Структура работы продиктована поставленными целью и задачами. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Каждая из глав включает по три параграфа.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научная новизна, устанавливаются объект и предмет исследования; определяется своеобразие творческой манеры А.К. Шеллера-Михайлова, место его романов в контексте литературного процесса второй половины XIX века; дан обзор исследовательской и критической литературы, посвященной изучению творчества Шеллера-Михайлова. Введение также содержит формулировку целей и задач, в нем представлена структура работы в целом.
Первая глава «Типологические особенности романов А. К. Шеллера-Михайлова».
Роман всегда вызывал пристальный интерес ученых, и обычно этот жанр наделяется целым комплексом признаков, среди которых сложно выделить ведущий. В первом параграфе данной главы, опираясь на авторитетные научные концепции, мы стремились выявить наиболее характерные жанровые свойства романа.
Крупнейшими теоретиками жанра романа в отечественном литературоведении XX века принято считать М.М. Бахтина и Г.Н. Поспелова. Тезис М. М. Бахтина о принципиальной незавершенности романа стал ключевым в теории этого жанра. Исходная же аксиома бахтинской концепции такова: «Роман - единственный становящийся жанр, поэтому он более глубоко, существенно, чутко и быстро отражает становление самой действительности»1 Ученый приходит к важному, на наш взгляд, выводу о значении идеи испытания в истории романа. Бахтин подчеркивал также, что в романе человек показан в процессе своего становления, как способный к изменению под воздействием жизни.
Все эти утверждения вполне актуальны и в отношении романов А.К. Шеллера-Михайлова, для которых характерна открытость финала: герои покраны автором на пороге новой жизни, однако ряд серьезных испытаний приводит их к важным жизненным итогам.
Методологически значимой нам представляется концепция жанра романа Г.Н, Поспелова. Ученый вводит категорию жанрового содержания, под которым понимаются исторически повторяющиеся, «типологические» свойства
1 Бахтин М. М. Эпос и роман. - СПб.: Азбука, 2000. - с. 198.
6
проблематики. Поспелов выделяет четыре группы жанров, среди которых для нас особенно актуальны «нравоописательные» и романические. Первые раскрывают бытовые устои общества (или отдельных социальных групп), а вторые - становление личности в частных отношениях2.
Актуальность этих положений для нашего исследования обусловлена самим его объектом - романами А. К. Шеллера-Михайлова «Гнилые болота», «Господа Обносковы», «Вразброд», «Лес рубят - щепки летят», «Над обрывом», для которых характерен синтез романической и бытоописательной тенденций: процесс становления человеческой личности, составляющий основу названных романов, обязательно сочетается с подробным описанием бытового уклада и образа жизни той социальной среды, которая взрастила главного героя.
Сущность проблем поэтики и типологии жанра романа видится в следующем: основой жанра романа является концепция становления человеческой личности, находящейся в сложных отношениях с окружающим миром и стремящейся самостоятельно постичь истину, смысл бытия и определить свое жизненное предназначение.
Вслед за В.Г. Одиноковым под типологией будем понимать «типически сходные явления, конфликты, характеры», имеющие «повторяющуюся художественную «организацию», структуру».3 Таким образом, типологические особенности реализуются через поэтику, а также через тип проблематики, который наиболее последовательно и регулярно используется автором.
Во втором параграфе данной главы мы обращались, к выявлению и анализу соотношений, возникающих между элементами персонажной системы таких романов Шеллера-Михайлова, как «Гнилые болота», «Господа Обносковы», «Вразброд», «Падение» и «Лес рубят - щепки летят», а также старались установить обусловленность персонажей этих романов философской концепцией автора.
Можно с уверенностью утверждать, что система персонажей - это один из наиважнейших компонентов поэтики жанра романа. Ее ядром является образ главного героя, через которого раскрывается творческая концепция произведения. Особенности развития личности и самореализации героя, своеобразие его внешнего и внутреннего бытия наиболее полно, глубоко и убедительно могут быть раскрыты прежде всего через исследование и установление его связей с другими действующими лицами.
Уже в первом романе писателя «Гнилые болота» (1864) можно выявить ту типологию персонажей и те особенности персонажной системы, которые впоследствии станут определяющими в романной прозе Шеллера-Михайлова. Автор противопоставляет представителей двух различных духовно-нравственных начал, в центре борьбы которых и окажется главный герой -
пособие для ст-тов пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1971.-е. 152-210. 3 ОДИНОКОЕ В.Г. Чтение как искусство. - Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1976.-с. 40.
См. об этом: Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы: Учеб.
Александр Рудый. С одной стороны, его окружает нелегкая и лишенная внешнего блеска жизнь родителей-тружеников, с другой - беспечная, праздничная и полная мнимых наслаждений жизнь бабушки и дяди. По принципу контраста строятся и портретные характеристики этих персонажей, а также соотносятся и главы, рассказывающие о детстве, юности и образе жизни каждого из них.
Следуя принципу художественной объективности, автор старается избегать идеализации одного жизненного пути и осуждения другого. В лучших традициях русской классики герой Шеллера осуществляет свободный нравственный выбор. Символично, что жизнь родителей, так уважаемых им, не может служить для него идеалом. Как отмечает автор, неприглядная проза тяжелых трудовых будней не может быть привлекательна для ребенка, и однообразное течение этих будней нарушает лишь появление бабушки с ее аристократическими манерами, изысканными нарядами и восторженными рассказами о блестящей светской жизни. Шеллер раскрывает пагубное воздействие красивых фантазий на неокрепшую психику ребенка.
Нравственно-философская кульминация «Гнилых болот» (как и многих последующих произведений Шеллера-Михайлова) - тяжелейший душевный перелом, потрясающий героя до болезни, едва не обернувшейся его смертью, но вместе с тем обусловивший его перерождение.
Счастье и смысл жизни лучших своих героев писатель-демократ видел в самоотверженной общественно значимой деятельности, направленной на благо Отечества. Повзрослевший и нравственно возродившийся Александр Рудый становится на путь знания, добра и правды. Несмотря на открытость финала, главный герой достигает определенной завершенности в своих жизненных поисках.
Тот же тип героя и связанной с ним проблематики господствует в романе «Вразброд», который, как и «Гнилые болота», построен в форме биографии главного героя - дворянина Владимира Теплицына, и повествование здесь ведется от первого лица. Используя прием ретроспекции, автор позволяет герою осмыслить основные этапы прожитой жизни и определить свое назначение в ней. По сути, «Вразброд» строится по той же типологической схеме, что «Гнилые болота» и некоторые другие произведения писателя.
В романе «Лес рубят - щепки летят» (1871) наиболее ярко воплотились типологические особенности романистики Шеллера-Михайлова, однако персонажная система здесь дополняется введением, в качестве центрального персонажа, женского образа. Более привычный для читателя и традиционный для автора образ героя-мужчины, подобного Рудому и Теплицыну, появится ближе к середине текста, а с первых его страниц роль главной героини принадлежит юной девушке - Катерине Александровне Прилежаевой.
Катерина встречает на своем пути много разных людей, однако знаковой во всех отношениях можно назвать встречу со штабс-капитаном Флегонтом Матвеевичем Прохоровым. Именно этот человек внесет наиболее серьезные коррективы в мировосприятие гордой девушки, и за его сына - Александра Прохорова - она впоследствии выйдет замуж. В
структуре рассматриваемой персонажной системы особенно значимо то, что образ отца появится в романе раньше, чем образ сына. Показательно, что по-настоящему Александр раскроется перед читателями именно тогда, когда станет рассказывать Катерине о влиянии, оказанном на него отцом. Так, Александр Прохоров не только войдет в художественное пространство романа в качестве полноправного действующего лица, но и по ходу развертывания сюжета начнет занимать позицию главного героя.
Александра Прохорова по праву можно считать типичным шеллеровским героем. Как в случае с Рудым и Теплицыным, писатель использует свой излюбленный художественный прием - повествование от первого лица: историю жизни и поисков Александра мы узнаем из его исповедального монолога, обращенного к Катерине Прилежаевой. По сути, в этом монологе сконцентрированы те основные, пожалуй, даже шаблонные «испытательные» точки, через которые Шеллер непременно проводит своих лучших героев. Однако в романе «Лес рубят - щепки летят» срабатывает принцип художественной экономии, позволяющий автору провести другие сюжетные линии, расширить художественное пространство романа, увеличить число персонажей, усложнив, кроме того, отношения между ними.
Поведение и речи Прохорова производят настоящий фурор в обществе Софьи Андреевны Вуич - новой начальницы приюта, в котором работает Катерина. Вуич - типичная светская дама, и ее образ жизни разительно отличается от жизни Катерины и Александра. Для кружка аристократки Вуич Прохоров и Прилежаева - «новые люди», и возникает вопрос, что стоит за этим понятием? Данный вопрос очень актуален для романистики Шеллера-Михайлова, но вряд ли на него существует четкий и однозначный ответ.
В применении к героям Шеллера-Михайлова понятие, впервые употребленное Н.Г. Чернышевским, трансформируется в соответствии с творческими установками Шеллера. Катерина и Александр являются носителями специфических, не лишенных ригоризма взглядов на искусство; они не дорожат материальными благами, умеют трудиться и вполне могут рассчитывать только на свои собственные силы; наконец, они осознают необходимость общественных перемен, которые должны привести к справедливому социальному равенству. Свои взгляды герои высказывают открыто и смело, и все это, взятое вкупе, представляется «новым» и даже похожим на революционность. Однако их никак нельзя назвать строителями некоего нового мира, разрушающими традиции и культуру прошлого. Будучи способными на борьбу, они вовсе не собираются разрушать и уничтожать.
Шеллера часто упрекали в искажении образов «новых людей», с чем сложно согласиться: вернее было бы утверждать, что он создает определенный их тип в соответствии со своим видением проблемы, и в этом проявилось своеобразие общественно-эстетической позиции Шеллера.
Можно утверждать, что система персонажей в романах Шеллера построена по типологической схеме классического романа, но в то же время
она у Шеллера не так сложна и разветвлена, как в произведениях русской классики. Соотношение персонажей чаще всего выражено сюжетно, а потому довольно прозрачно и устанавливается без особых трудностей. Ядро этой схемы составляют главные герои, а второстепенные и эпизодические персонажи позволяют наиболее полно и глубоко раскрыть их характер, ярче и резче, высвечивая типичные черты или позволяя выявить в психологии главных героев то, в чем последние сами не всегда способны отдать себе ясный отчет.
Возможны ситуации, когда второстепенный персонаж только по формальным показателям может считаться таковым; по степени же значимости в раскрытии авторской идеи и по важности той роли, которую второстепенный персонаж играет в жизни центральных героев, он и сам может быть определен как главный (например, капитан Хлопко в романе «Вразброд»); наконец, и эпизодические персонажи могут активно работать на раскрытие философской проблематики произведения.
Второстепенные и эпизодические персонажи находятся между собой в своеобразных композиционных соотношениях. Чаще всего они контрастируют друг с другом (например, по принципу «добряк-злодей») или же могут зеркально «отражать» черты характера друг друга, представляя разнообразные вариации одного социально-психологического типа (например, в романе «Лес рубят - щепки летят» выстраивается типологический ряд «несчастных» женщин, в чем-то противопоставленных решительной и гордой главной героине, а в чем-то оттеняющих особенности его характера). Принцип кривого зеркального отражения актуален для Шеллера-художника не только в системе персонажей отдельно взятого произведения, но и в контексте творчества писателя в целом.
Например, в романе «Господа Обносковы» центральная роль принадлежит мелкому чиновнику Алексею Алексеевичу Обноскову, образ которого можно рассматривать как своеобразную пародию на положительных героев Шеллера. История его личности развертывается в соответствии с теми же типологическими принципами, что и аналогичные истории Рудого, Теплицына, Прохорова. Однако нетрудно заметить, что совпадение это формально и носит внешний характер: стремления лучших героев Шеллера по своим нравственным результатам прямо противоположны стремлениям и результатам Обноскова, что и создает эффект кривого зеркального отражения. Так, в роли «доброго наставника», который неизменно присутствует в персонажной системе романов Шеллера, выступает тупая, завистливая и сварливая мать Обноскова (вольно или невольно она ускорит смерть сына), а добрые, умные и благородные люди в исковерканном больном сознании Обноскова предстают злодеями и врагами; страшный нравственно-психологический кризис, пережитый в детстве, способствует не возрождению, а последующей душевной деградации героя, которая еще более усугубится в гимназические годы; став зрелым человеком и зарабатывая на хлеб умственным трудом, Обносков будет выступать против безнравственности от имени целого поколения каких-то неизвестных «борцов» с пороками, заявляя: «В нас теперь сила» [II, с. 24], - или утверждая, что он «человек не светский, не
паркетный шаркун, не праздный остряк» [II, с. 204], а, в сущности, герой бесконечно одинок, несчастен, ненавидит ближних и боится жизни; не приносит герою счастья и не спасает от смерти и любовь к женщине, завершающаяся полным крахом его надежд и стремлений.
Анализ системы персонажей романов Шеллера подтверждает выдвинутый нами тезис о том, что эти романы по своему жанровому содержанию представляют синтез романических и бытоописательных жанровых тенденций. Характерным признаком романического жанра становятся конфликт между героем и средой, а также выделение в системе персонажей одного ведущего или нескольких героев и изображение процесса становления их характеров. В то же время многие персонажи интересуют автора прежде всего как представители определенного социального слоя, и эта социальная принадлежность, как правило, обозначена и строго закреплена.
В третьем параграфе отмечается, что процесс становления личности и история ее взаимоотношений с миром в романе развертывается во времени и пространстве. На материале таких романов писателя, как «Лес рубят - щепки летят» и «Над обрывом» нами выявлены основные типы пространственно-временных моделей и особенности соотношения между ними, раскрыто их философско-эстетическое значение в художественной системе названных романов. Проблема времени и пространства зависит от жанра произведения. Критики и литературоведы (в частности, А.М. Скабичевский, Г.Г. Елизаветина, М.А. Соколова), обращавшиеся к творчеству А.К. Шеллера-Михайлова, называли его романы «романами воспитания». Мы вполне разделяем данную точку зрения: можно утверждать, что в общем и в целом изученные нами романы Шеллера-Михайлова действительно могут быть названы «романами воспитания». Мы учитываем этот аспект при выявлении жанровой специфики двух романов писателя «Лес рубят - щепки летят» и «Над обрывом», так как в них отражены и синтезированы типологические особенности романной прозы Шеллера.
В романе «Лес рубят - щепки летят» мир предстает как школа, через которую должна пройти главная героиня - Катерина Александровна Прилежаева, причем говорить о становлении ее личности проблематично: в центре внимания автора не столько процесс становления, сколько процесс познания мира личностью, в ходе которого героиня и борется с устоями общества, чуждыми ей, и в какой-то мере приспосабливается к ним. Задачей автора обусловлено и множество различных пространственно-временных моделей в романе.
С первых же строк текста автор «вводит» читателей в топос Петербурга с его сырой, пасмурной и дождливой атмосферой. Петербург у Шеллера- это город острейших социальных контрастов. По принципу контраста соотнесены, в частности, первая и вторая главы романа «Лес рубят - щепки летят». Образы «униженных и оскорбленных» родителей Катерины - супругов Прилежаевых, возникающие на первых страницах романа, являются органичной частью топоса Петербурга; это образы людей, живущих на грани жизни и смерти, на пределе человеческих возможностей. Смерть отца становится переломным событием в жизни семьи Прилежаевых: будущее страшит неизвестностью, «голодной смертью» и безысходностью.
Уже в самом начале произведения заявлен мотив двери как границы между замкнутым и открытым пространством, символизирующий остроту и кризисность ситуации между жизнью и смертью. Преодолеть границы замкнутого пространства подвала, открыть дверь в большой мир для Прилежаевых равнозначно решению вопроса о жизни и смерти. Первый шаг делает мать семейства - Марья Дмитриевна, которая идет в дом Данилы Захаровича Боголюбова - брата своего покойного мужа, идет, чтобы просить помощи. На страницах романа появляется еще один типично петербургский топос - «нейтральное государство» квартиры статского советника Боголюбова. Время здесь носит «хроникально-бытовой характер» (термин И.В. Роднянской): оно статично, неподвижно, бессобытийно. В пристальном внимании к быту, в подробном описании интерьеров, в причудливой детализации предметов и вещей ярко проявилась этологическая тенденция романного творчества Шелера, причем для писателя-демократа наиболее важен социальный аспект изображаемого. Создается своеобразный парадокс, заключающийся в том, что противопоставленные по внешним материальным условиям микромиры семей нищих Прилежаевых и живущих в достатке Боголюбовых родственны по своей сути: они замкнуты в тесном пространстве, изолированы от жизни и статичны.
Такими же свойствами обладает и топос графского особняка Белокопытовых, в котором жизни не больше, чем в тесном подвале Прилежаевых, а люди здесь похожи на заводных кукол, играющих отведенные им роли.
Активный и динамичный выход в открытое пространство большого мира способна осуществить старшая дочь Прилежаевых - Катерина. Первые же столкновения с миром столицы вызывают у девушки ощущение враждебности и отчужденности: блеск и красота многолюдного города созданы не для обитателей подвалов. Голодная и одетая в лохмотья Катерина выглядит потерянной в этом огромном пространстве.
Детский приют графов Белокопытовых, в который устроилась работать героиня, также является частичкой Петербурга, своеобразной моделью неправедно устроенного общества в миниатюре. Мотив неподвижности и однообразия, подобного смерти, возникает в описании приютских комнат. Можно заметить, что от одного описания к другому темные краски сгущаются, а пространство уменьшается, мастерски нагнетается ощущение того, что перед нами - приют... смерти. Очень скоро девушка поймет, что, получив долгожданную работу, она сменила один закрытый мирок (подвал Прилежаевых) на другой, также лишенный жизни, воздуха и света. Тщетными окажутся и ее попытки изменить положение обитателей приюта.
Большего Катерина добивается, обустраивая пространство своего собственного дома. Однако подчеркнем, что «Лес рубят - щепки летят» не является семейным романом, а идиллический семейный хронотоп здесь - один из многих в ряду пространственно-временных моделей, перечисленных выше, и не он «разомкнет» замкнутое пространство романа.
Дух истории России эпохи бурных шестидесятых годов XIX века, благодаря которому «размыкаются» границы художественного пространства романа, связан прежде всего с образами штабс-капитана Прохорова - инвалида
войны с турками, и его сыновей - Александра и Ивана, ставших участниками Крымской войны.
Функцию звена, связующего героев с историческими событиями, выполняет топос лавочного клуба, завсегдатаем которого становится штабс-капитан, внимательно следящий за военными событиями по газетам. Границы замкнутого пространства квартирки Прилежаевых расширяются по мере того, как ее обитатели, активно обсуждающие общественно-политические проблемы, начинают осознавать себя гражданами России. Все более активное участие в общественных событиях начинают принимать молодые герои романа -Катерина и вернувшийся с войны Александр Прохоров. Процесс познания мира выводит их на новый исторический путь, и их судьба теперь напрямую зависит от происходящих в стране перемен, которые со временем начинают принимать все более негативный характер. Автор отмечает: «Наше общество в то время занималось рубкою леса старых порядков и заблуждений, и поэтому немудрено, что разных недоразумений было множество» [VI, с. 458].
«Недоразумения» не обошли стороной и супругов Прохоровых, которым так и не удалось преобразовать окружающий их мир. В финале романа Катерина и Александр покидают сначала Петербург, а потом и территорию России. В обществе, как показывает Шеллер, многое возвратилось на круги своя, но Александр и Катерина предпочли продолжить свой путь, вышедший не только за пределы топоса Петербурга, но и за пределы России.
Время и пространство романа «Лес рубят - щепки летят» многомерно, сложно и не лишено внутренней противоречивости. Хронотопы, в которых развертывается бытие героев, способны преобразовывать их человеческое сознание, глубже раскрывая их моральные и психологические возможности.
На иных художественных принципах основана пространственно-временная организация романа «Над обрывом» (1883). Здесь, в отличие от многих других романов Шеллера, исторический дух той эпохи, когда развиваются описываемые события, ярко не выражен и не обозначен.
Задачей писателя - исследовать изменения, происшедшие не только и не столько во внешней, сколько во внутренней жизни главного героя - дворянина Егора Мухортова — обусловлен и избирательный подход к фактам его биографии (выхвачен лишь тот отрезок времени, когда произошел нравственный кризис), и характер пространственной организации (события развиваются в замкнутых пространствах барской усадьбы и охотничьего домика). Временные рамки происходящего обозначены Шеллером достаточно четко.
Мухортов оказывается в ситуации выбора между выгодной женитьбой и разорением родового гнезда; переломность этой ситуации дает импульс нравственной работе сознания героя. Автор психологически убедительно мотивирует возможность нравственного перерождения Мухортова. Используя излюбленный прием ретроспекции, Шеллер обращается к годам детства и отрочества героя... Вероятно, там, в его далеком прошлом, можно и нужно искать истоки настоящего. Тема памяти и неразрывной связи настоящего с прошлым пронизывает художественную ткань романа, причем в сознании
главного героя оживают те страницы прошлого, которые обусловили его настоящий нравственный перелом.
Несмотря на стремление изменить образ жизни, а вместе с тем поменять и место жительства, Мухортов понимает, что осуществить это (в частности, продать имение) будет очень нелегко... Нелегко потому, что придется порвать с прошлым, которое «уйдет» вместе с этим домом, но необходимо, чтобы ошибки этого прошлого не отдавались болью в настоящем.
Характерно, что после разорения из закрытого пространства своего имения Мухортов «перемещается» в еще более ограниченное пространство охотничьего домика, находящегося над обрывом. Во внутреннем мире героя идет интенсивнейшая и напряженная работа.
По самой сущности своей ситуация «обрыва» предполагает осуществление некоего «переломного» действия, поступка. Устоит герой над обрывом или сорвется?.. Мухортов вдруг вспоминает о том, что, по преданию, во время постройки дома и разбивки сада над обрывом погиб рабочий. В очередной раз в одной пространственно-временной точке пересекаются прошлое и настоящее: события давних лет каким-то образом «отдаются», подобно эху, в настоящем Мухортова.
Тема времени настойчиво звучит в невеселых раздумьях героя. В главах, описывающих жизнь Мухортова после продажи имения, возникает своеобразная игра временем и пространством. Казалось бы, в пространстве «домика над обрывом» время отличается явной внешней бессобытийностью, но эти внешние замкнутость и неподвижность иллюзорны. Именно здесь, вдалеке от праздной и пустой суеты, Егор Александрович, мысленно обращаясь к прошлому, не только начнет постигать смысл настоящего, но и сделает шаг в будущее.
Своеобразным документом, фиксирующим прошлое и останавливающим время, становятся дневники, к которым и обращается герой. С одной стороны, чтение дневниковых записей активизирует процессы воспоминания, с другой -приоткрывает дверь в будущее, и за счет этого границы предельно замкнутого пространства бесконечно расширяются, способствуя обретению героем новых жизненных ценностей. В расширяющееся («размыкающееся») пространство внутреннего мира героя постепенно начинает входить тема народа.
После перенесенных испытаний Мухортов чувствует себя как бы заново родившимся и мечтает стать «простым выносливым солдатом»: сыном своего отца - героя войны 1812 года. Прошлое и настоящее в очередной раз пересекаются в романе, и, как показывает автор, именно это пересечение временных пластов обусловливает эволюцию героя.
Характерен итог, к которому приходит Мухортов: «Теперь он ясно... сознавал, что он порвал навсегда со своим прошлым - с прошлым барина-белоручки...» [III, с. 480].
Повторим, что автор ограничивает художественное пространство романа пределами замкнутых топосов барской усадьбы, а затем охотничьего домика. Предполагаемая общественная деятельность героя выносится за рамки романа, и топос Петербурга, с которым Мухортов связывает свою будущую
деятельность на благо России, так и не появляется в романе. Однако, несмотря на минимальное количество пространственных моделей, время и пространство в романе «Над обрывом» имеют важное сюжетное и ценностное значение, а также позволяют выявить философско-этическую концепцию А.К.Шеллера-Михайлова.
Вторая глава «Характер и значение интертекстуальных связей в творчествеА. К. Шеллера-Михайлова».
В первом параграфе рассматривалось понятие об интертекстуальности в современном литературоведении. Термин «интертекстуальность» (фр. INTERTEXTUALITE) в научный обиход был введен в 1967 году Ю. Кристевой - французским филологом, теоретиком постструктурализма. Впоследствии идея интертекстуальности была развита Р.Бартом. Теоретиками структурализма и постструктурализма (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, М. Грессе и др.) интертекстуальность понимается весьма широко, особенно акцентируется ее преимущественно бессознательный характер: «... интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без
4
кавычек».
Ничто не исчезает бесследно и, благодаря памяти культуры и принципу взаимосвязи, тот или иной текст незримыми нитями соединен с другими текстами, вплетен в ткань культуры. Тексты, способные оказать влияние на посттекст, обладают особым статусом. Лингвист Ю.Н. Караулов в связи с этим использует термин «прецедентный» текст.5 В нашем исследовании под прецедентными будут пониматься в основном тексты классической, преимущественно русской, литературы XIX века.
Интертекстуальность может трактоваться по-разному. Например, В.Е. Хализев совершенно справедливо замечает, что этим термином «часто обозначается общая совокупность межтекстовых связей, в состав которых входит не только бессознательная автоматическая или самодовлеющая игровая цитация, но и направленные, осмысленные, оценочные отсылки к предшествующим текстам и литературным фактам».6 Представляются необходимыми разработка и классификация форм интертекстуальных связей, а также изучение особенностей их взаимодействия.
Для анализа всей совокупности межтекстовых отношений и элементов в нашем исследовании используется термин «формы интертекстуальности».
4 Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. - М.: Интрада - ИНИОН, 1996.-с. 218.
5См. об этом: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность./ Отв. ред. Д.Н. Шмелев; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. - М.: Наука, 1987.- с. 216.
6 Хализев В. Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов. - 3-е изд., испр. и доп.// В.Е. Хализев. - М.: Высшая школа, 2002. - с. 261.
Настоятельная необходимость видится в том, чтобы 1) более четко разграничить формы интертекстуальных связей (с опорой на определения уже сформулированные в литературоведении); 2) определить характер «включения» в текст по наличию - отсутствию маркированности; 3) выявить их сущность; 4) раскрыть их значение и особенности функционирования.
Принципы, положенные в основу нашей схемы видов межтекстовых связей, обусловлены прежде всего своеобразием исследуемого материала -прозой русского писателя-демократа второй половины XIX века А. К. Шеллера-Михайлова. Кроме того, в некоторых случаях нам предстоит использовать разные виды работы с прецедентными текстами русской классики XIX века.
В центре второй главы нашей работы - во-первых, «направленные, осмысленные, оценочные отсылки к предшествующим текстам и литературным фактам» (выражение В.Е. Хализева); во-вторых, только маркированные виды межтекстовых связей; в-третьих, из видов межтекстовых связей будут проанализированы заглавия-реминисценции, цитаты и упоминания в прозе А. К. Шеллера-Михайлова. Перечисленные маркированные виды межтекстовых связей мы выделяем и анализируем с учетом уже существующих литературоведческих определений.
Считаем убедительным признать реминисценцией «не буквальное воспроизведение невольное или намеренное чужих структур, слов, которое наводит на воспоминание о другом произведении».7 Исходя из этого определения, к реминисценциям отнесем заглавия романов Шеллера-Михайлова «Господа Обносковы», «Над обрывом» и рассказа «Вешние грозы», которые вызывают в сознании читателя (исследователя) аналогии с соответствующими заглавиями русской классики («Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Обрыв» И.А. Гончарова и «Вешние грозы» И.С. Тургенева). В качестве основных разновидностей реминисценций выделим также цитаты и упоминания.
Большинство произведений А.К. Шеллера-Михайлова обладают весьма выразительными и многозначными названиями: «Гнилые болота», «Вразброд», «Засоренные дороги», «Лес рубят - щепки летят», «Падение», «Над обрывом» и др. Кроме того, некоторые из них носят ярко выраженный реминисцентный характер, информирующий о межтекстовых связях.
Так, например, естественно было бы предположить, что «Господа Обносковы» написаны под определенным влиянием «Господ Головлевых» М.Е.' Салтыкова-Щедрина. Время создания разубеждает в этом предположении: «Господа Обносковы» (1868) появились на несколько лет раньше, чем «Господа Головлевы» ,(1875-1880). Однако следует подчеркнуть, что и Салтыков-Щедрин, и Шеллер-Михайлов жили в одну эпоху, а временной отрезок между годами создания их романов не столь значителен. Ничего парадоксального нет в том, что писателей волновали сходные проблемы.
Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учебное пособие/ Л В. Чернец, В Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др/ Под ред. Л В. Чернец. - М: Высшая школа; Академия, 1999. - с. 497.
Несомненно родство проблематики «Господ Обносковых» и «Господ Головлевых». В центре пристального внимания их авторов находится процесс распада человеческой души, причем процесс этот исследован писателями в связи с историей целой семьи. В основу сюжета «Господ Обносковых» положена история мелкого служащего, 27-летнего Алексея Обноскова, характер которого раскрывается прежде всего в сфере родственных связей.
Тема духовного обнищания личности, представленная через историю семьи, «обыгрывается» авторами в заглавии романов. Негативное представление о героях с «говорящей» фамилией Обносковы возникает сразу: читательское сознание выявляет именно материальную («вещественную») сущность этой фамилии. Однако Шеллер стремится изобразить бедность не столько материальную, сколько духовную. Характерно, что Обносков - человек умственного труда, хотя и не обладающий «ни особенно блестящим умом, ни особенно сильной памятью» [II, с. 11]. Уже первые высказывания Обноскова свидетельствуют о его раздражительности и склонности к злословию. В адрес одного из своих знакомых он разражается гневным выпадом: «Верхогляды, проповедники модных истин, перевешал бы их всех!<...> Из своих рук, кажется, задушил бы их» [II, с. 11].
Человеконенавистничество и страсть к обличению чужих пороков роднят претендующего на интеллектуальность Обноскова с Иудушкой Головлевым: внутреннее убожество обоих, тотальная неспособность понимать людей и сочувствовать, совершенное отсутствие самокритичности приводят героев к утрате грани между добром и злом, психологической глухоте и - как следствие - к смерти. Процесс постепенного омертвения человеческой души глубоко и своеобразно исследован Шеллером и Салтыковым-Щедриным.
Знаменательны и во многих отношениях родственны финалы обоих произведений. О неоднозначности финала «Господ Головлевых» написано немало. Нам представляются особенно интересными и заслуживающими внимания трактовки финала «Господ Головлевых» А. С. Бушминым и М.М. Дунаевым8. Сопоставление этих разных, во многом противоположных мнений способствует более глубокому осмыслению сложного финала «Господ Головлевых». Отмечаем, что столь же неоднозначен и финал «Господ Обносковых».
Как и Иудушка, Обносков показан в пограничной ситуации. Перед лицом смерти все наносное уходит, и герой, зовущий священника и страшащийся Суда, говорит о своей вине перед женой. Подчеркиваем, что и у Обноскова, и у Иудушки проблески совести смутны и неявны. Действительно, трудно
8 См. об этом: Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. - М. - Л: АН СССР, 1959.-с. 182-194; Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII-XX веках. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - с.306-309.
представить, чтобы герои сознательно признали бы перед кем-то свою вину: слишком уж зачерствели и высохли их души. Однако мы согласны с оценкой Дунаева, который, называя Иудушку «гением ханжества», обращает внимание на его художественную одаренность. Отмечаем, что при всем сходстве Иудушки с Обносковым, последнему явно недоставало любви к жизни.
Несмотря на то, что смерть обоих героев ничего не изменила и не утвердила в окружающем мире, в финалах обоих романов возникает ощущение некоего света, создающееся за счет того, что и Шеллер-Михайлов, и Салтыков-Щедрин - люди глубоко верующие - прекрасно сознавали: человек создан по образу и подобию Божию. Иудушка и Обносков были воспитаны в православной вере, и это не могло пройти бесследно для их душ.
Можно говорить о сложнейшем взаимодействии прецедентного текста (романа «Господа Головлевы») с «посттекстом» (романом «Господа Обносковы»), который в хронологическом плане предшествует «претексту». Реминисценция, маркированная в заглавии, обусловливает «скрытые» реминисценции: типологическое родство образов главных героев, отдельных сюжетных ситуаций, финалов произведений. Все это свидетельствует о том активном и непрекращающемся творческом диалоге, который часто возникает между текстами разных авторов.
Символичность заглавия романа Шеллера «Над обрывом» (1883) усиливается и усложняется за счет неизбежных параллелей, возникающих с заглавием романа И.А. Гончарова «Обрыв» (1869). В обоих этих произведениях обрыв является реальной координатой хронотопа, однако его-прямое значение пересекается с переносным: конкретный (реальный) обрыв и обрыв «символический» сливаются в одно целое.
В обоих романах с обрывом связаны предания, в основе которых - гибель людей. Возникают эти предания в сознании главных героев романов (Райского и Мухортова), сквозь призму ощущений и раздумий которых повествуется о -таинственных и трагических событиях. Для Мухортова, выражающего основные авторские идеи, история гибели рабочего, упавшего с обрыва, - это одно из типичных явлений трагической судьбы русского народа, о которой с болью размышляет Мухортов.
Мухортов с ужасом открывает для себя «нравственную грязь» жизни и тщательно анализирует происходящее вокруг и в его душе. Для Мухортова выстоять «над обрывом» означает порвать с устоями своего окружения, -вырваться из омута своей семьи, обрести некую новую правду, связанную со Служением народу. В таком решении проблемы чувствуется скрытая и, возможно, неосознанная полемика с И.А. Гончаровым. Главная героиня «Обрыва» - Вера - как и Мухортов, настойчиво ищет свой путь, пытаясь противопоставить сложившимся устоям своей семьи нечто новое. Однако для гончаровской Веры, в отличие от Мухортова, подняться со дна обрыва значит вернуться в свою семью, к бабушкиной «правде».
Кроме того, и у Гончарова, и у Шеллера обрыв связан с мотивом страсти, причем в тексте Шеллера данный мотив доминирует в создании образа юной возлюбленной Мухортова - горничной Поли. Конфликт, возникающий между
Мухортовым и Полей, пусть и на ином интеллектуальном уровне, внутренне родственен драме, разыгравшейся в отношениях Веры и Марка: это драма, а точнее - трагедия отсутствия взаимопонимания. Мы сопоставляем особенности изображения страсти Шеллером и Гончаровым и приходим к выводу, что при всех различиях в решении этой темы, оба писателя показывают разрушительный характер страсти.
В каждом из своих значений обрыв связан с судьбами разных героев и своеобразно обыгран авторами претекста и посттекста. Особенности трактовки обрыва как символа перелома в жизни Веры и Мухортова свидетельствуют о различии общественных позиций дворянина Гончарова и разночинца Шеллера; тем более знаменательно пересечение морально-этических взглядов писателей, возникающее в осмыслении обрыва как символа разрушительной страсти (отметим, что у Гончарова данный мотив заявлен более настойчиво и основательно, чем у Шеллера): падение Веры («Обрыв») и Поли («Над обрывом») - и физическое, и нравственное - происходит именно тогда, когда страсть поглощает все иные чувства и способности молодых героинь и отдаляет их от Бога.
Проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, что заглавия-реминисценции обладают особой, можно сказать, повышенной функциональностью и информируют о многообразных и сложных межтекстовых связях.
Заглавие «Вешние грозы» (1892) даже в сознании неискушенного читателя вызовет параллели с «Вешними водами» (1872) И.С. Тургенева. Взаимодействие и взаимоотталкивание двух этих произведений является весьма сложным и своеобразным, причем пересечения между авторами возникают прежде всего в интерпретации мотива фатума.
В «Вешних грозах» Шеллера, как и в повести Тургенева «Вешние воды», центральной является тема первой любви, а сами влюбленные -Николай и Александра Ивановы - очень молоды и красивы. Сама, если так уместно выразиться, аура «Вешних гроз» напоминает художественную манеру Тургенева. Рассказ открывается датой (что так значимо в тургеневской поэтике) и пейзажем, показанным глазами рассказчика. Используя прием параллелизма, автор уподобляет отношения любящих людей природным явлениям. Такой же прием используется Тургеневым в «Вешних водах», когда с порывом грозы сравнивается внезапно вспыхнувшая любовь Санина к Джемме. Интересно, что само сочетание «вешние воды» Тургенев использует в тексте повести только один раз - в эпиграфе. Обращаясь к исследованию «Древо жизни» А.Н. Афанасьева, мы выявляем древнеславянские истоки восприятия Тургеневым вешних вод как символа обновления и молодости.
У Шеллера сочетание «вешние грозы», возникающее по ходу повествования несколько раз и вложенное в уста господина Иванова, наполняется только отрицательной семантикой. Для Иванова гроза - это символ разрушения, беды и смерти. Мысли о неизбежности смерти, о бренности и хрупкости человеческой жизни, о тщетности всех самых возвышенных и прекрасных порывов человека глубоко волновали и Тургенева, однако Шеллер не столько
разделяет взгляды своего знаменитого современника, сколько полемизирует с ним. Атмосфера таинственности и трагизма, связанная с образом Иванова и его любовью, постепенно и последовательно развенчивается самим же Ивановым. Оказывается, его горячо любимая красавица-жена Сашенька отравилась из-за рядовых и пустых раздоров между ним и ее матерью - Анной Петровной. Все тайны развеяны автором, словно дым. Вешние грозы отгремели, а человеческой жизни не вернуть. Нельзя утверждать, что Шеллер отрицает таинственную власть стихий в жизни людей, но он уверен в том, что человек способен и должен сам управлять своей жизнью и любовью, собой, наконец. Эта мысль содержится и в последних строках «Вешних гроз».
Изображая процесс духовного становления своих героев, Шеллер очень часто подробно знакомит с кругом их чтения, поэтому тексты его произведений буквально пестрят заглавиями известных книг, именами писателей-классиков и популярных литературных персонажей. Примечательно, что подобные упоминания, как правило, используются не пассивно, а вдумчиво осмысливаются автором и его героями, сопровождаются их эмоциональными комментариями и своеобразно интерпретируются.
Уже в романе «Гнилые болота» (1864) можно встретить упоминания сразу нескольких литературных произведений и небольшие комментарии к ним. В частности, нами были изучены упоминания таких произведений, как «Мертвые души» и «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Записки охотника» И.С. Тургенева, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Бедные люди» Ф.М. Достоевского и др. Данный «набор» может показаться произвольным, однако в нем присутствует своя логика и определенная связь с личностью и судьбой главного героя «Гнилых болот».
В романе «Вразброд» (1870) упоминания более многообразны, а главное - рассуждения самих героев о русской литературе более пространны, оценочны и дискуссионны. Нами были проанализированы значения упоминаний комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и Чацкого, выявлена роль упоминаний поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и «Бедных людей» Ф.М. Достоевского в создании образа княжны Зинаиды (жены главного героя). Можно утверждать, что цитаты и упоминания, используемые Шеллером в романах «Гнилые болота» и «Вразброд», многофункциональны: они позволяют понять авторскую позицию, многосторонне раскрыть характер того или иного персонажа, глубже и полнее постичь содержание произведения, наконец, по-новому осмыслить образцы классической литературы.
Мысль о различии в эстетических пристрастиях людей, выросших в разных социальных условиях, а потому занятых решением совершенно несходных задач и проблем, звучит и в романе «Лес рубят - щепки летят», герои которого цитируют строки из стихов А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, НА Некрасова.
В контексте всего романа эти цитаты позволяют, выражаясь словами Ю.Н. Караулова, «метафоризировать» основной конфликт произведения. Характерно, что для того, чтобы выразить свои предчувствия и переживания, мещанка Прилежаева никогда не процитировала бы Лермонтова, как аристократка Вуич в аналогичной ситуации не процитировала бы Некрасова. Противоположные типы отношения к жизни обусловливают и разное
восприятие шедевров поэзии. Благодаря цитатам, роман Шеллера «подключается» к историко-литературному контексту, что, в свою очередь, позволяет составить представление об эстетической и общественной позиции писателя; цитирование может придавать размышлениям героев философскую направленность, которая способствует глубокому и тонкому раскрытию человеческой психологии, более того, позволяет выявить бессознательно-интуитивное начало в поведении героев.
Не менее интересны и сложны функции упоминаний и цитат в позднем романе «Над обрывом» (1883), главный герой которого - Егор Мухортов -воспитан на книгах. Особенно значительную роль сыграли в его жизни образы и темы русской литературы.
Так, например, в своем дневнике он приводит не только цитату из тургеневской «Поездки в Полесье», но и свой полемичный и эмоциональный комментарий к ней. Цитата непосредственно связана с сюжетом романа, позволяет глубже вникнуть в особенности сюжета, преобразует и обогащает смыслы авторского текста. Наконец, она помогает раскрыть характер главного героя, внося в него больше определенности и ясности.
Концептуально и художественно обусловленным в структуре романа «Над обрывом» представляется эпизод чтения Мухортовым и Полей «Преступления и наказания». Герои Шеллера пережили каждый свое «преступление и наказание» и, согласно взглядам автора, осуществили свободный выбор. Через сопоставительный анализ нами выявлена философско-этическая перекличка финалов «Преступления и наказания» и «Над обрывом», в которых звучит идея воскресения через страдания. Символично, что писатель-демократ во многом сходится с Достоевским в осмыслении важнейших нравственно-философских проблем.
Мотивы поэзии НА. Некрасова слышны в раздумьях Мухортова о народе, поэтому вполне гармоничной и тематически оправданной выглядит цитата из поэмы «Рыцарь на час» (1860) Некрасова, являющейся первой в ряду приведенных выше цитаты из «Поездки в Полесье» и упоминания «Преступления и наказания». Она не просто вписывается в данный ряд, но, выполняя функцию своего рода эпиграфа, открывает этот ряд, задает смысловую доминанту и настраивает читателя на соответствующий лад.
Кроме того, в тексте романа упоминается статья И.С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», есть «скрытая» цитата из «Войны и мира» Л.Н.Толстого, а также неточная цитата из евангельской притчи о девах со светильниками. Нами был проанализирован характер функционирования этих упоминаний и цитат в тексте романа, и, в частности, наблюдения, проделанные нами при исследовании христианских мотивов и образов в романах Шеллера , свидетельствуют о том, что писатель-демократ акцентирует внимание на действенно-практическом значении христианства, сближая евангельские события с проблемами земной реальности.
Нетрудно заметить, что все цитаты и упоминания в романе связаны с образом главного героя, причем в числе писателей, литературных персонажей и исторических деятелей, вызывающих восхищение Мухортова - люди,
стремящиеся к самопожертвованию во имя высшей справедливости, на благо своего Отечества, своего народа. Все эти примеры свидетельствуют о том, что идея самопожертвования организует художественное пространство романа, являясь его центром. На реализацию данной идеи «работает» и насыщенный межтекстовый пласт романа, благодаря которому Шеллер подключает свой текст к многочисленным источникам. В результате этого образуется мощная полифония чужих голосов, а смысловое поле шеллеровского текста безгранично расширяется за счет многочисленных ассоциаций.
Подводя итоги, отмечаем, что внедряющиеся в текст упоминания и цитаты не только расширяют границы его смыслового поля, но и позволяют в новом ракурсе увидеть и воспринять классический образец (прецедентный текст). В случае, когда идет обращение сразу к нескольким источникам, важное значение имеет последовательность их расположения, особенности взаимодействия, место, занимаемое в структуре текста.
Интертекстуальный диалог с русской классикой, возникающий в произведениях Шеллера, несмотря на отдельные полемичные моменты, в общем и целом свидетельствует о типологическом родстве творчества русских писателей XIX века, о единстве их духовных и нравственных исканий.
В заключении подводятся итоги исследования, объединены наблюдения предыдущих глав, выявлена жанровая специфика романов А. К. Шеллера-Михайлова в целом, намечены перспективы дальнейшего изучения темы.
Романы А.К.Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов, изученные нами, можно рассматривать как своеобразные жанровые явления переходного характера, представляющие собой синтез романических и бытоописательных начал. Такой синтез был типичен для произведений демократической прозы.
Романное творчество Шеллера своеобразно входило в систему русского классического романа, занимая в ней необходимое и достойное место, при этом творчество писателя, несомненно, развивалось в художественном отношении, обогащаясь новыми формами реализации ведущей проблематики.
Большинство романов Шеллера-Михайлова строится по определенной типологической схеме, обладающей комплексом характерных структурных элементов. Особое место в этой схеме принадлежит персонажной системе, в рамках которой протекает процесс становления личности главного героя.
В центре этой системы находится образ главного героя (героини), вокруг которого разыгрывается борьба противоположных нравственно-этических начал, воплощенных в образах других действующих лиц. Обязательным компонентом персонажной системы большинства романов Шеллера становится образ доброго старшего наставника, которому, как правило, противопоставлен образ злодея. Взаимодействие этих антагонистических типов позволяет реализовать постановку и решение сложных философских вопросов. Кроме того, второстепенные и эпизодические персонажи позволяют глубже и полнее раскрыть особенности психологии главного героя, а также способствуют более вдумчивому и верному постижению философской проблематики произведения. Композиционные соотношения, возникающие между второстепенными и эпизодическими персонажами, чаще всего выражены сюжетно и основаны, как
правило, на принципах контраста или смыслового взаимодополнения. В последнем случае может выстроиться целый персонажный ряд, варьирующий тот или иной социально-психологический тип.
Литературоведы неоднократно писали о том, что главной задачей Шеллера было создание образов так называемых «новых людей», но, что примечательно, сам Шеллер вовсе не считал своих героев «новыми людьми». Он создал в своем творчестве определенную разновидность этого литературного типа - героя мыслящего, деятельного, самокритичного, стремящегося к нравственному самоусовершенствованию и преображению окружающей действительности, но совершенно чуждого революционным настроениям.
Анализ персонажной системы в романах Шеллера свидетельствуют о наличии в их структуре романических и бытоописательных тенденций. Так, ведущим признаком романического жанра является изображение процесса становления личности главного героя, стремящегося «выломиться» из своей среды, противопоставить ей иной образ жизни, новые нравственные и этические идеалы и устремления. В то же время пристальный интерес автора к социальному положению отдельных персонажей как представителей определенных общественных слоев, их статичность и комплекс устойчивых морально-психологических качеств позволяет говорить о бытоописательных началах романов Шеллера.
История взаимоотношений личности героя с миром в романах Шеллера развертывается во времени и пространстве. Писатель использовал разнообразные типы пространственно-временных форм, о чем свидетельствует обращение к таким его романам, как «Лес рубят - щепки летят» и «Над обрывом». Наряду с другими романами Шеллера их можно отнести к определенной жанровой разновидности «романа воспитания», выделенной М. М. Бахтиным. Задачей автора продиктованы особенности поэтики времени и пространства в каждом конкретном случае. Так, в романе «Лес рубят - щепки летят» в центре внимания Шеллера - процесс познания мира личностью, и, в связи с этим, путь жизненных поисков главных героев имеет поступательную направленность от ограниченных пространств к бесконечным пространствам России, мира. Этим процессом обусловлено также значительное разнообразие пространственно-временных моделей в романе.
Художественное пространство романа «Над обрывом» ограничено пределами замкнутых топосов барской усадьбы Мухортовых и охотничьего домика, в котором главный герой поселился после разорения. Минимальное количество топосов при их глубокой внутренней насыщенности, а также многообразие приемов в разработке категории времени в романе обусловлены задачей автора - глубоко изучить и последовательно изобразить процесс становления личности дворянина Егора Мухортова. Время и пространство в романе, таким образом, имеют важное сюжетное и ценностное значение, а также позволяют выявить философско-этическую концепцию Шеллера-Михайлова.
Расширению пространственно-временной организации произведений, несомненно, способствуют и различные виды межтекстовых связей, используемые Шеллером. Зачастую их включение маркировано автором и носит открытый характер (например, закавыченные цитаты и упоминания из текстов русской классики или заглавия-реминисценции), что обусловливает процесс сложного взаимодействия посттекстов (романов Шеллера) с прецедентными текстами произведений русской классики XIX века. В результате был сделан вывод о том, что разнообразные виды межтекстовых связей, возникающие в романной прозе Шеллера, приводят к диалогу различных культур, творческих систем и философско-этических позиций, свидетельствуют о типологическом родстве творчества русских писателей XIX века, о единстве их духовных и нравственных поисков.
В заключение отметим, что А. К. Шеллер-Михайлов верил в необходимость и актуальность созданных им произведений, в то, что у него всегда будет свой читатель. Можно с уверенностью утверждать, что творчество этого самобытного русского писателя нуждается в дальнейшем изучении.
Основное содержание диссертации отражено в публикациях:
1. Жучкова, Е.Н. Типология женских образов в романной прозе А.К. Шеллера-Михайлова (на примере романов «Гнилые болота», «Падение», «Над обрывом»)/ Е.Н. Жучкова// Владимир Даль и современная филология: Материалы Межвузовской научной конференции 22-23 ноября 2001 г. Н. Новгород. Т. II. - Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2001.-с. 234-240.
2. Жучкова,Е.Н. Проблема нравственного становления личности в творчестве А.К. Шеллера-Михайлова (на примере романа «Гнилые болота»)/ Е.Н. Жучкова// Детская литература и детская книга: актуальные проблемы изучения, преподавания и интерпретации: Материалы Межвузовской научно-методической конференции, Ярославль, 21-23 ноября 2001 г. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2002. - с. 33-37.
3. Жучкова, Е.Н. Значение интертекстуальных связей в романе А.К.Шеллера-Михайлова «Над обрывом» (творческий диалог с романом Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»)/ Е.Н. Жучкова// Новое прочтение отечественной классики: методические рекомендации. Вып. 6. -Н. Новгород: НГПУ, 2002.- с. 14-20.
4. Жучкова, Е.Н. Роман А.К. Шеллера-Михайлова «Господа Обносковы»: проблема героя в контексте традиций русской классики XIX века»/ Е.Н. Жучкова// Материалы к самостоятельной работе студентов-филологов по литературе на заочном отделении. Выпуск И. - Н. Новгород: НГПУ, 2002.-с. 23-28.
5. Жучкова Е.Н. Христианские основы мировосприятия героев романистики А. К. Шеллера-Михайлова/ Е.Н. Жучкова// Православие и культура: XI Рождественские православно-философские чтения. - Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2002. - с. 474-479.
6. Жучкова Е.Н. Мотив фатума в прозе И.С Тургенева и А.К. Шеллера-Михайлова/ Е.Н. Жучкова// Анализ художественного произведения мировой литературы в школе и вузе: Методические рекомендации для студентов филологического факультета. - Выпуск XI. -Нижний Новгород: НГПУ, 2003. - с.80-87.
7. Жучкова, Е.Н. Рождество в романе АК.Шеллера-Михайлова «Вразброд» и традиции русской классики/ Е.Н Жучкова// Православная духовность в прошлом и настоящем: XII Рождественские православно-философские чтения. - Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003.-с. 454-459.
8. Жучкова Е.Н. Символика заглавий в романной прозе А.К. Шеллера-Михайлова/ Е.Н. Жучкова// Новое прочтение отечественной классики: методические рекомендации. Вып. 7. -Н. Новгород: НГПУ, 2004.- с. 27 - 34.
9. Жучкова» Е.Н. Типологические особенности романной прозы А.К. Шеллера-Михайлова (на примере романа «Вразброд»)/ Е.Н. Жучкова// Новое прочтение отечественной классики: методические рекомендации. Вып. 7. - Н. Новгород: НГПУ, 2004.-с. 34 - 41.
Подписано в печать ОН СЗ Печать трафаретная
Объем Д"- п.л. Тираж /со экз. Заказ
Отдел полиграфии AHO "МУК НГПУ" 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-37, ул.Ульянова, 1
■Ь
2 7 т 2005
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата филологических наук Жучкова, Елена Николаевна
ВВЕДЕНИЕ.'.
ГЛАВА 1. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА
1.1. Проблемы поэтики и типологии жанра романа в отечественном литературоведении.
1. 2. Персонажная система в романной прозе А.К.Шеллера-Михайлова.
1. 3. Поэтика времени и пространства в романах А.К.Шеллера
Михайлова «Лес рубят — щепки летят» и «Над обрывом».
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА
2. 1. Понятие «интертекстуальность» в современном литературоведении.
2. 2. Заглавия-реминисценции в прозе А. К. Шеллера-Михайлова.
2. 3. Функционирование упоминаний и цитат из русской классики
XIX века в романах А. К. Шеллера-Михайлова.
Введение диссертации2005 год, автореферат по филологии, Жучкова, Елена Николаевна
Александр Константинович Шеллер-Михайлов (1838-1900) -талантливый и самобытный писатель-демократ, чье имя оказалось сегодня незаслуженно забытым. В силу этого проблема изучения творческого наследия Шеллера-Михайлова, несомненно, является актуальной. Можно утверждать, что перед нами - новый, малоисследованный и практически закрытый художественный мир, который нуждается в научном осмыслении. Авторов, подобных Шеллеру (А. Михайлов — это его псевдоним), принято называть писателями второго плана, при этом не стоит забывать, что они внесли серьезный вклад в историю русской литературы XIX века. В связи с этим актуализируется вопрос о соотношении классики и беллетристики. Трудно не согласиться с В.М. Марковичем, утверждающим, что и классика и беллетристика «выполняют функции необходимые и потому в каких-то отношениях равноправные» [83, с. 55].
Следует отметить, что произведения Шеллера были очень популярны среди его современников, особенно - среди молодежи. Многими отмечался высокий нравственный пафос творчества писателя. В частности, историк литературы А. М. Скабичевский задавался вопросом, почему романами Шеллера зачитываются, «считают его в числе наиболее симпатичных и полезных писателей» [159, с. 30] и сам же отвечал следующее: «. потому и любят, и так усердно читают Шеллера, что он имеет в своих романах дело. с картинами умственного и нравственного развития своих современников в течение трех десятилетий, в различных слоях общества. Я убежден в том, что не найдется на Руси ни одного мыслящего человека, который не переживал бы чего-нибудь такого, что переживают герои Шеллера» [159, с. 30].
В то же время многие критики и литераторы упрекали Шеллера в «недостаточной художественной отделке» [159, с. 24] произведений, в отсутствии «поэтических красот» [159, с. 24], в излишних тенденциозности и морализаторстве, в некоторой расплывчатости социальной авторской позиции.
Особенно резок и категоричен в этом плане был М. Е. Салтыков-Щедрин. Например, о героях романа Шеллера «Вразброд» он писал: «Это даже не люди, а марионетки. трудно понять, о чем они хлопочут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают» [155, с. 363]. В суровой рецензии на роман Шеллера «Засоренные дороги» (его, действительно, нельзя назвать удачным) Салтыков-Щедрин вспоминает и первый роман писателя «Гнилые болота», которому «обилие диалогов и крайняя бедность. «живого» содержания» [155, с. 262] придали «характер чего-то напускного, сочиненного с чужих слов» [155, с. 262]. Салтыков-Щедрин относит Шеллера к тем авторам, «которые в разнообразии жизни умеют подмечать только одни. избранные стороны» [155, с. 262]. Сатирик упрекает Шеллера также и в том, что тот, называя отрицательные жизненные явления, не анализирует и не исследует их. Особенно трудно согласиться с явно утрированным высказыванием Салтыкова-Шедрина, что шеллеровские герои способны только уныло вопить и голосить о социально-общественных проблемах: «. Как будто. это унылое голошение нечто определяет, как будто и впрямь они понимают и достоверно указать могут, где находятся гнилые болота и в чем заключается суть засоренных дорог» [155 , с. 263]. Как раз «унылое голошение» мало свойственно деятельным, жизнелюбивым и волевым героям Шеллера, действительно много рассуждающим о социальных проблемах, но пытающимся определиться в жизни, посильно помочь ближним, внести свою лепту в общее дело преобразования российской действительности второй половины XIX века.
В свете суровых оценок, данных Салтыковым-Щедриным романам Шеллера, особенно интересным представляется, что в творческом наследии обоих этих писателей есть произведения, заглавия которых совпадают в одной из словоформ: «Господа Обносковы» (1868) у Шеллера и «Господа Головлевы» (1875-1880) у Салтыкова-Щедрина.
Очень вероятно, что эти совпадения случайны (тем более, что классик, как мы знаем, любил использовать словоформу «господа» в названиях своих произведений), однако тот факт, что «Господа Обносковы» появились раньше «Господ Головлевых» невольно заставляет задуматься, и впоследствии мы обязательно остановимся на этой проблеме более подробно.
Вполне лояльным можно назвать отношение к творческому наследию Шеллера-Михайлова со стороны советских литературоведов. При этом следует отметить, что в фундаментальных научных изданиях имя писателя лишь упоминается, перечисляются названия некоторых его произведений, дается самая общая и краткая оценка и характеристика их основной тематики. Например, в третьем томе академической «Истории русской литературы» (издание 1982 года) в главе «Н. Г. Чернышевский-романист и «новые люди» в литературе 60-70-х годов» содержится следующая информация: «В условиях крушения революционной ситуации 1859-1861 годов. в беллетристике о «новых людях» произошло размежевание. Появились произведения, в которых подвергалось ревизии революционное учение Н. Г. Чернышевского и провозглашался либерально-буржуазный идеал в общественной и частной жизни (А. К. Шеллер-Михайлов, «Гнилые болота», 1864, и «Жизнь Шупова, его родных и знакомых», 1865; Д. JI. Мордовцев, «Новые русские люди», 1868 и др.)» [77, с. 109].
В главе шестнадцатой этого же тома - «Литература 70-х годов» - в связи с кратким обзором демократической литературы о «новых людях», о поисках разночинцами смысла жизни, своего места в ней» [77, с. 553] в числе прочих встретится имя Шеллера-Михайлова и перечень таких его произведений, как «Господа Обносковы», «Под гнетом окружающего», «Вразброд», «Лес рубят -щепки летят» [77, с.553].
Во всех отношениях гораздо более содержательны и основательны вступительные статьи к сборникам произведений Шеллера-Михайлова. В частности, во вступительной статье Г. Г. Елизаветиной к роману «Лес рубят — щепки летят», изданному «Художественной литературой» в 1984 году отдельной книгой, прослежены основные этапы биографии писателя, дан обзор отзывов на его романы, достаточно подробно и полно, насколько позволяют рамки вступительной статьи, охарактеризован роман «Лес рубят-щепки летят». Совершенно справедливо Г.Г.Елизаветина указывает, что критика, современная Шеллеру, не была объективна в восприятии его творчества, и это обстоятельство комментируется следующим образом: «Подобная крайность в отзывах на романы Шеллера-Михайлова объясняется тем, что литература его времени имела такие замечательные образцы, как произведения Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого» [63, с. 17]. Мы полностью разделяем утверждение Г.Г.Елизаветиной о том, что «в век. великих творений не случайно и появление литературы, хотя и не достигающей «вершинных» образцов, но идущей в русле общественной жизни и отвечающей потребностям современного ей читателя» [63, с. 17].
В 1987 году в московском издательстве «Правда» был выпущен том избранных сочинений, включающий в себя такие романы Шеллера, как «Господа Обносковы», «Над обрывом» и рассказ «Вешние грозы», и открывающийся предисловием М.А. Соколовой. Здесь также содержится ряд сведений из биографии писателя, определяется место и значение его творчества в русской демократической беллетристике 1860-90-х годов, обзорно раскрывается основная проблематика его произведений.
В отечественном литературоведении закрепилась традиция рассматривать произведения Шеллера-Михайлова как типичный образец русской демократической литературы о «новых людях», возникшей, по словам М.А.Соколовой, «вслед за революционно-демократической литературой -литературой Чернышевского, Щедрина, Некрасова» [165, с. 3]. Среди представителей этого направления ею названы К. Станюкович, Н. Хвощинская, И. Кущевский, И. Омулевский. Важно оговорить, что Шеллер-Михайлов, будучи демократом по происхождению, образу жизни, общественным взглядам и эстетическим убеждениям, не являлся, однако, революционером, и на это справедливо указывает Г. Г. Елизаветина: «Шеллер-Михайлов не верил в плодотворность политических катаклизмов. Искренний почитатель Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, он видел в них не столько революционеров, сколько мыслителей-просветителей. Пытаясь найти для себя опору в их деятельности, Шеллер-Михайлов находил ее в той идейной пропаганде, которую они осуществляли, но в самих идеях ценил не революционный, а нравственный пафос.» [63, с. 9].
Вопросы воспитания всегда были особенно близки Шеллеру, а основой общественных преобразований он считал не революцию, а нравственное самоусовершенствование человека. Действительно, герои его произведений далеки от революционной деятельности и заняты прежде всего вопросами семьи, образования, домашнего и школьного воспитания, наконец, вопросами собственного нравственного самоопределения и поиска смысла жизни. Таковы, в частности, Александр Рудый («Гнилые болота»), Владимир Теплицын («Вразброд»), Егор Мухортов («Над обрывом») и другие герои. Все они показаны автором в ситуации нравственного выбора, на результат которого активное влияние оказывают другие действующие лица и стечение жизненных обстоятельств.
В статье с характерным названием-цитатой Шеллера «Себя должны мы прежде всего исправить.» М.А. Соколова так раскрывает основную проблематику творчества писателя: «Первые же романы Шеллера-Михайлова были посвящены насущным вопросам пореформенного времени: как жить? Где новые идеалы? Каков новый человек, которому принадлежит будущее? Надо было создать типический образ разночинца, положительный образ героя пореформенной поры. Это должен был быть разночинец (или даже дворянин, порвавший со своей средой), человек дела.» [165, с. 6].
Характерно, что Шеллер не только часто подчеркивал свое демократическое происхождение, но и мотивировал им « нехудожественность», (выражение Шеллера) своих произведений: «Нам ли, труженикам-мещанам, писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо эффектные и с безмятежно ровным, полированным слогом» [13, т. 1, с. 24].
Думается, для того, чтобы составить более полное и объективное представление о великой эпохе XIX века, очень важно обращаться и к материалу произведений беллетристики, столь популярной в различных слоях российского общества и оказавшей несомненное влияние на интеллектуальное и нравственное развитие наших соотечественников. Уместной представляется цитата из статьи В.М. Марковича «К вопросу о различении понятий «классика» и «беллетристика»: «. изучение истории литературы должно охватывать не только выдающиеся художественные ценности, не менее важна вся масса второстепенной или даже третьестепенной литературной продукции» [83, с. 53]. А. К. Шеллер-Михайлов — один из тех беллетристов, чьи романы были не только известны и любимы, но и очень своеобразно «вписывались» в исторический и культурный контекст XIX века.
В связи с этим актуализируется вопрос о тех критериях, в соответствии с которыми безусловно талантливый прозаик Шеллер-Михайлов, чье творчество отразило характерные тенденции в развитии литературного процесса второй половины XIX века, может быть отнесен к так называемым писателям второго плана. Мы считаем возможным выделение следующих критериев.
Обращаясь в своем творчестве к темам, сквозным для русской литературы XIX века, Шеллер шел по стопам своих великих современников: он не осуществил некоего прорыва в художественной трактовке этих тем, а, скорее, закрепил скачок, совершенный в области романа, например, И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым, Ф.М. Достоевским и др. В решении онтологических проблем, которые были весьма значимы для Шеллера, ему не удалось достичь глобального уровня художественного обобщения, свойственного классикам. Не приходится говорить и о существовании философской системы писателя, потому, вероятно, он апеллировал не столько к общечеловескому опыту, сколько к нравственным и интеллектуальным запросам своих современников, не ставя при этом задач философского обобщения и не выходя на проблемы мирового масштаба. Можно утверждать, что Шеллер не был революционером не только в плане общественных взглядов, но и по уровню писательского дарования. Думается, этот фактор обусловил и некоторую стилевую упрощенность произведений Шеллера, в которой его часто упрекали другие литераторы и которую он вполне осознавал и признавал сам. Подчеркнем, что художественное несовершенство - это еще один важнейший критерий, не позволяющий воспринимать то или иное произведение как классическое.
Однако, по нашему убеждению, творчество Шеллера-Михайлова заслуживает возвращения в литературоведческий и читательский обиход. Актуальность данной работы обусловлена отсутствием монографических трудов, посвященных анализу творчества Шеллера-Михайлова, а также спецификой ракурса исследования (понятия о жанре и интертекстуальности являются важнейшими в литературоведении).
Следует оговорить, что в наши задачи не входит изучение романов А.К. Шеллера-Михайлова в контексте русской демократической литературы, представленной целым рядом разнообразных творческих индивидуальностей. Творчество самого Шеллера-Михайлова, еще раз подчеркнем, совершенно не изучено и требует глубокого научного осмысления. При этом изучение творчества Шеллера в соотнесенности с русской классикой представляется оправданным, так как это позволит, по нашему мнению, вписать художественное наследие писателя в широкий контекст традиций русской прозы.
Объектом данного исследования являются по преимуществу романы А.К.Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов - «Гнилые болота» (1864), «Господа Обносковы» (1868), «Вразброд» (1870), «Падение» (1870), «Лес рубят-щепки летят» (1871), «Над обрывом» (1883) и рассказ «Вешние грозы» (1892). Изучение последнего произведения (рассказа «Вешние грозы») представляется необходимым прежде всего в силу явной интертекстуальной природы его заглавия, которое прямо-таки обязывает нас, обратившись к тексту произведения, раскрыть характер аналогий, возникающих с «Вешними водами» И.С. Тургенева. Кроме того, если названные выше шеллеровские романы 1860-80-х годов все-таки привлекали внимание литературных критиков или хотя бы упоминались в отдельных статьях, то произведения, написанные позже, остались совершенно незамеченными. Не исключено, что на такое отношение к позднему творчеству Шеллера повлияли широко распространенные суждения о том, что писатель в основном повторялся, рано исчерпав свой творческий потенциал. Приведем следующее характерное высказывание Салтыкова-Щедрина по поводу произведений, появившихся после «Гнилых болот»: «С тех пор г. Михайлов написал довольно много, но все вновь написанное оказывается повторением «Гнилых болот» и, к сожалению, повторением довольно слабым. Сфера наблюдения нимало не расширилась, а тот горячий лиризм, который примирял читателя «Гнилых болот» с недостаточностью действительного содержания, утратил свою первоначальную свежесть и приобрел какие-то фальшивые ноты» [155, с. 262]. Очень сложно согласиться с подобными категоричными оценками, так как проделанное нами исследование приводит к едва ли не противоположным выводам.
Несмотря на то, что уровень творческой эволюции Шеллера нельзя сравнивать с аналогичными процессами в творчестве классиков, можно с уверенностью утверждать: творчество писателя художественно развивалось с течением времени. Обращение к текстам поздних произведений Шеллера подтверждает эту мысль.
Предметом настоящего исследования является поэтика жанра романов А. К. Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов в наиболее значимых ее аспектах, а именно: своеобразие персонажной системы; особенности пространственно-временной организации; значение и характер интертекстуальных связей в прозе писателя.
Размышляя о жанровых качествах романа, А. Я. Эсалнек замечает: «. круг проблем, объединяемых идеей личности, может быть в разной степени широким — это и зависит от мироощущения художника, от его представлений о личности, об истоках ее сознания и способах его функционирования» [145, с. 98]. По мнению исследователя, изображение и анализ внутреннего мира личности «требует изображения ее окружения. Все персонажи, вписанные в роман и составляющие как бы фон, самыми разными нитями связаны с осуществлением основного замысла, показателем которого и является доминирующая проблематика» [145, с. 98].
Доминирующая проблематика» большинства романов Шеллера-Михайлова, названных выше, связана с отдельными фактами биографии самого писателя, а в еще большей степени обусловлена его социально-политическими взглядами и нравственно-этическими убеждениями. Свою литературную деятельность Шеллер начал в 60-е годы XIX века, когда вопросы просвещения, образования и воспитания становились ведущими, а проблема духовно-нравственного развития личности приобретала особую актуальность. Расцвета достигло также педагогическое движение, в котором активное участие принимал и Шеллер-Михайлов: в 1861 году он открыл школу для бедных детей, затем написал немало статей, посвященных воспитанию и обучению, напечатал публицистические исследования о проблемах образования за рубежом. Наконец, в своих произведениях, в частности, в романах, занимавших в его творчестве центральное место, Шеллер изображал нравственное и умственное развитие современного ему поколения.
Итак, научная новизна предпринятого нами исследования обусловлена самим его объектом и заключается в изучении типологически значимых аспектов поэтики романной прозы А. К. Шеллера-Михайлова с целью выявления жанровой специфики его романов 1860-80-х годов. Изучение и определение характера интертекстуальных связей прозы Шеллера с современными ему произведениями писателей-классиков позволит установить факт типологического родства творчества писателей, придерживавшихся разных социально-политических и эстетических убеждений, обладающих разной степенью художественного дарования.
Цель диссертационного исследования — изучение жанровой поэтики романов А.К.Шеллера-Михайлова 1860-80-х годов и выявление ее своеобразия.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• выявить наиболее показательные структурные элементы типологической модели романов А. К. Шеллера-Михайлова;
• раскрыть своеобразие персонажной системы в романной прозе А. К. Шеллера-Михайлова;
• определить особенности пространственно-временной организации в романах А. К. Шеллера-Михайлова «Лес рубят - щепки летят» и «Над обрывом»;
• классифицировать основные формы интертекстуальности и выявить их значение и способы функционирования в творчестве А. К. Шеллера-Михайлова;
• обозначить место романной прозы А. К. Шеллера-Михайлова в контексте русской классики второй половины XIX века.
В процессе работы в качестве методологической основы были использованы системно-целостный подход к произведению, историко-типологический и сравнительно-исторический способы изучения литературы. Структурно-семантический подход позволил через анализ художественных средств постичь своеобразие романного мышления Шеллера-Михайлова.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды М.М. Бахтина, Л.Я. Гинзбург, Ю.Н. Караулова, И.К. Кузьмичева, Н.С. Лейтес, Ю.М. Лотмана, В.Г. Одинокова, Г.Н. Поспелова, Н.Т. Рымаря,
Н.А. Фатеевой, В.Е. Хализева, J1.B. Чернец, А.Я. Эсалнек.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что его материалы могут быть использованы при подготовке лекционных курсов и спецкурсов, а также в организации практических занятий по русской литературе XIX века в вузах и колледжах. Научные результаты диссертации могут стать основанием для последующих разнообразных исследований творчества Шеллера-Михайлова, а также для изучения проблемы интертекстуальных связей и их значения в русской литературе XIX века.
Апробация работы проведена на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Нижегородского государственного педагогического университета (2001, 2002, 2003, 2004 гг.), на методологических семинарах кафедры русской литературы этого вуза, на региональной научно-практической конференции «Воспитание будущего учителя в системе высшего педагогического образования» (Нижний Новгород, 2001), на международной конференции «Владимир Даль и современная филология» (Нижний Новгород, 2001), на Грехневских чтениях (Нижний Новгород, 2001), на межвузовской научно-методической конференции «Детская литература и детская книга» (Ярославль, 2002), на региональных научных конференциях — XI Рождественские православно-философские чтения «Православие и культура» (Нижний Новгород, 2002) и XII Рождественские православно-философские чтения «Православная духовность в прошлом и настоящем» (Нижний Новгород, 2003); в статьях, опубликованных во внутривузовских сборниках научных трудов. Результаты исследования нашли отражение в девяти публикациях по теме работы.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. В изученных романах А.К.Шеллера-Михайлова налицо синтез романической и бытоописательной тенденций, что обусловлено стремлением писателя показать зависимость формирования морально-психологического облика персонажа от быта, нравственных устоев и ценностей взрастившей его социальной среды.
2. Тема нравственного поиска, самоопределения и становления личности является ведущей во всех романах А.К. Шеллера-Михайлова, изученных нами, причем в большинстве случаев она связана с образом главного героя.
3. Особенности художественного изображения процесса самоопределения и становления личности в романах А.К. Шеллера-Михайлова могут быть постигнуты прежде всего через анализ персонажной системы, которая отличается четкостью и определенностью: отношения между компонентами строятся в основном или по принципу контраста, или по принципу содержательной конкретизации одного типологического ряда, или, наконец, по принципу «двойничества».
4. С течением времени творчество А.К. Шеллера-Михайлова претерпевало эволюцию, обогащаясь новыми формами и способами художественного воплощения центральной проблематики.
5. В таких романах писателя, как «Гнилые болота» и «Вразброд», повествование ведется от первого лица и события излагаются преимущественно в хронологической последовательности (прослеживается путь главного героя от младенчества к зрелости). Однако в романах «Господа Обносковы», «Лес рубят - щепки летят», «Над обрывом» повествование подчинено принципу отбора переломных событий из жизни героя. При этом в
4 обоих случаях время может носить дискретный характер, и, как правило, это связано с принципом ретроспективного изображения событий. В произведениях А.К. Шеллера-Михайлова обнаруживается тенденция к расширению пространства; характер и особенности взаимодействия пространственно-временных моделей в его романах обусловлены своеобразием авторской задачи в каждом конкретном случае.
6. Тексты произведений А.К. Шеллера-Михайлова позволяют говорить о разных формах проявления интертекстуальности, причем с наибольшей вероятностью о тех, которые маркированы: в частности, это заглавияреминисценции («Господа Обносковы», «Над обрывом», «Вешние грозы»), многочисленные упоминания и цитаты, расширяющие художественное пространство текстов и выполняющие ряд других важных художественных функций.
Структура работы продиктована поставленными целью и задачами. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Каждая из глав включает по три параграфа.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Романы А.К. Шеллера-Михайлова 1860 - 80-х годов"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отечественном литературоведении сложилась традиция рассматривать романы писателя - беллетриста А.К. Шеллера-Михайлова как характерное явление демократической прозы второй половины Х1Хвека. Историк литературы A.M. Скабичевский в свое время не без оснований назвал Шеллера сторонником «натуральной школы» и последователем традиций Н.В.Гоголя. Характерно наличие бытоописательных тенденций в творчестве Шеллера. Практически во всех его романах, изученных нами, подробно воссозданы реалии того социально-бытового уклада, в котором происходит формирование личности главного героя. В связи с этим романы Шеллера можно рассматривать как своеобразные жанровые явления переходного характера, представляющие собой синтез романических и бытоописательных начал. Такой синтез был типичен для произведений революционно-демократической прозы.
Можно утверждать, что творчество Шеллера своеобразно входило в систему русского классического романа, занимая в ней необходимое и достойное место. Однако современники Шеллера - выдающиеся русские литераторы — весьма критически оценивали его творческое наследие, и многие из этих оценок, несмотря на известную долю справедливости, отличались излишней категоричностью и некоторой поверхностностью. Отметим также, что критики обращались в основном к ранним произведениям писателя, а при таком избирательном подходе трудно проследить эволюцию творчества; более того, может создаться ошибочное представление, что эволюция и вовсе отсутствовала.
Однако, как доказывает проделанное нами исследование, романное творчество Шеллера, несомненно, развивалось в художественном отношении, обогащаясь новыми формами реализации ведущей проблематики.
Большинство романов Шеллера-Михайлова строится по определенной типологической схеме, обладающей комплексом характерных структурных элементов. Особое место в этой схеме принадлежит персонажной системе, в рамках которой получает свое развертывание процесс становления личности главного героя. Уже в ранних романах Шеллера можно выявить ту структуру персонажной системы, которая, развиваясь и трансформируясь с течением времени, впоследствии стала определяющей для шеллеровской романистики разных лет.
Литературоведы неоднократно писали о том, что главной задачей Шеллера было создание образов так называемых «новых людей», причем писателя упрекали в том, что ему не удалось убедительно реализовать поставленную задачу, однако сам Шеллер вовсе не считал своих героев «новыми людьми». Можно утверждать, что он создал в своем творчестве определенную разновидность этого литературного типа - героя мыслящего, деятельного, самокритичного, стремящегося к нравственному самоусовершенствованию и преображению окружающей действительности, но совершенно чуждого революционным настроениям. Сложно говорить о том, что герои Шеллера разрушают традиции прошлого и создают нечто новое, и в этом многим виделась слабость общественной позиции писателя, в свою очередь, якобы негативно влияющая на его творчество. Думается, однако, что в подходе к решению проблемы «нового героя» проявилась не столько слабость, сколько своеобразие общественной и эстетической позиции Шеллера.
Положительные герои писателя в большинстве своем автобиографичны и являются выразителями его заветных идей и убеждений. Именно личность главного героя становится тем организующим центром персонажной системы, вокруг которого происходит группировка других действующих лиц, также выполняющих ряд важных художественных функций. В частности, второстепенные и эпизодические персонажи позволяют глубже и полнее раскрыть особенности психологии главного героя, а также способствуют более вдумчивому и верному постижению философской проблематики произведения. Композиционные соотношения, возникающие между второстепенными и эпизодическими персонажами, чаще всего выражены сюжетно и основаны, как правило, на принципах контраста или смыслового взаимодополнения. В последнем случае может выстроиться целый персонажный ряд, варьирующий тот или иной социально-психологический тип. Особо следует сказать о романе «Господа Обносковы», главный герой которого является своего рода пародией на лучших героев Шеллера.
Стройную систему, все части которой взаимосвязаны и выполняют важные композиционные и философско-эстетические функции, представляет типология женских образов, разработанная Шеллером.
В целом персонажная система романов Шеллера построена по типологической схеме русского классического романа. В центре ее находится образ главного героя (героини), вокруг которого развертывается борьба противоположных нравственно-этических начал, воплощенных в образах других действующих лиц. Обязательным компонентом персонажной системы большинства романов Шеллера становится образ доброго старшего наставника, которому, как правило, противопоставлен образ злодея. Взаимодействие этих антагонистических типов позволяет реализовать постановку и решение сложных философских вопросов.
Анализ персонажной системы в романах Шеллера свидетельствуют о наличии в их структуре романических и бытоописательных тенденций. Так, ведущим признаком романического жанра является изображение процесса становления личности главного героя, стремящегося «выломиться» из своей среды, противопоставить ей иной образ жизни, новые нравственные и этические идеалы и устремления. В то же время пристальный интерес автора к социальному положению отдельных персонажей как представителей определенных общественных слоев, их статичность и комплекс устойчивых морально-психологических качеств позволяет говорить о бытоописательных началах романистики Шеллера.
История взаимоотношений личности героя с миром в романах Шеллера развертывается во времени и пространстве. Пространственно-временная организация является важнейшим фактором, определяющим специфику жанра. В произведениях Шеллера отразились наиболее характерные процессы, происходившие в становлении пространственно-временной системы русской романистики тех лет. Писатель использовал разнообразные типы пространственно-временных форм, о чем свидетельствует обращение к таким его романам, как «Лес рубят — щепки летят» и «Над обрывом». Наряду с другими романами Шеллера их можно отнести к определенной жанровой разновидности «романа воспитания», выделенной М. М. Бахтиным. Задачей автора продиктованы особенности поэтики времени и пространства в каждом конкретном случае. Так, в романе «Лес рубят — щепки летят» в центре внимания Шеллера — процесс познания мира личностью, и, в связи с этим, путь жизненных поисков главных героев имеет поступательную направленность от ограниченных пространств к бесконечным пространствам России, мира. Этим процессом обусловлено также значительное разнообразие пространственно-временных моделей в романе. Отметим, что видимая контрастность некоторых топосов оказывается обманчивой, т.к. мотивы, доминирующие в их создании являются внутренне родственными (топосы позвала нищих Прилежаевых и квартиры богатого статского советника Боголюбова, роскошного особняка графов Белокопытовых и убогого сиротского приюта, несмотря на внешнее различие, объединены мотивами изолированности от жизни, статичности и мертвенности).
Можно говорить о тенденции к расширению пространства, и в финале главные герои - супруги Прохоровы — покидают пределы России, что позволяет автору окончательно разомкнуть пространственно-временные границы произведения.
Художественное пространство романа «Над обрывом» ограничено пределами замкнутых топосов барской усадьбы Мухортовых и охотничьего домика, в котором главный герой поселился после разорения. Минимальное количество топосов при их глубокой внутренней насыщенности, а также многообразие приемов в разработке категории времени в романе обусловлены задачей автора - глубоко изучить и последовательно изобразить процесс становления личности дворянина Егора Мухортова. Время и пространство в романе, таким образом, имеют важное сюжетное и ценностное значение, а также позволяют выявить философско-этическую концепцию Шеллера-Михайлова.
Расширению пространственно-временной организации произведений, несомненно, способствуют и различные формы интертекстуальности, используемые Шеллером. Зачастую включение интертекстуальных элементов маркировано автором и носит открытый характер (например, закавыченные цитаты и упоминания из текстов русской классики или заглавия-реминисценции). При этом следует констатировать и существование «скрытых» интертекстуальных связей, возникающих в творчестве Шеллера. В то же время упоминание названий произведений русской литературы, их авторов и героев может быть только «внешним», т.е. не вызывающим никаких внутритекстовых пересечений.
В ходе анализа основных форм интертекстуальности в творчестве Шеллера-Михайлова был исследован процесс сложного взаимодействия посттекстов (романов Шеллера) с прецедентными текстами. Так, сходство в заглавиях романов «Господа Обносковы» Шеллера и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина позволяет говорить о типологическом родстве их главных героев, о сходстве отдельных сюжетных ситуаций и финалов произведений: И Шеллер-Михайлов, и Салтыков-Щедрин не только подробно исследуют процесс стирания граней между добром и злом, протекающий в душах героев, но и обличают нравственно-психологические устои семей господ Обносковых и господ Головлевых, которые во многом и предопределили душевную деградацию Алексея Обноскова и Порфирия Головлева.
Интересный творческий диалог возникает также между текстами романов «Обрыв» И.А. Гончарова и «Над обрывом» А.К. Шеллера. Образ обрыва потенциально знаков и символичен, причем в романе Шеллера его символичность еще более усугубляется за счет явной реминисцентности заглавия. Особенности трактовки обрыва как символа перелома в жизни Веры (героини Гончарова) и Мухортова (героя Шеллера) свидетельствуют о различии общественных позиций двух писателей-современников; тем более знаменательно пересечение в их морально-этических трактовках обрыва как символа разрушительной страсти. По мнению обоих писателей, страсть разрушает личность и жизнь человека, лишая его индивидуальности, свободы выбора и отдаляя от Бога.
Заглавие «Вешние грозы», вызывающее неизбежные параллели с тургеневскими «Вешними водами», также сигнализирует о сложных интертекстуальных связях, которые особенно наглядно проявляются в интерпретации А.К. Шеллером и И.С. Тургеневым мотива фатума.
Рассмотренные нами маркированные заглавия-реминисценции произведений Шеллера-Михайлова выполняют многообразные художественные функции, формируют читательское предпонимание текста, способствуют более глубокому раскрытию философско-этической проблематики произведения, соотносятся с образом и судьбой главных героев, наконец, позволяют выявить некие новые грани в осмыслении классических текстов.
Многофункциональны также упоминания и цитаты, используемые Шеллером в романах «Гнилые болота», «Вразброд», «Лес рубят — щепки летят», «Над обрывом». В частности, они способствуют выявлению авторской позиции, многостороннему раскрытию характера того или иного персонажа, более глубокому и полному постижению содержания произведения.
Цитаты из прецедентных текстов позволяют автору не только противопоставить разные типы отношения к жизни и понимания сущности истинного искусства (например, в романе «Лес рубят - щепки летят»), но и выразить свое собственное эстетическое кредо. В романе «Над обрывом» цитаты из текстов И.С. Тургенева и Н.А. Некрасова, а также упоминание «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского, оспаривая или подтверждая отдельные мысли претекста, обогащают смыслы посттекста, вносят больше определенности и ясности в концепцию личности главного героя. Отнюдь не случайна и последовательность расположения цитат и упоминаний, подчиняющаяся определенной композиционной и смысловой логике.
Итак, разнообразные формы интертекстуальности, возникающие в романной прозе Шелера, приводят к диалогу различных культур, творческих систем и философско-этических позиций. Внедряясь в текст, реминисценции, упоминания и цитаты расширяют границы его смыслового поля, вносят нечто новое и в восприятие прецедентного текста, свидетельствуют о типологическом родстве творчества русских писателей XIX века, о единстве их духовных и нравственных поисков.
В заключение отметим, что, несмотря на резкие критические отзывы некоторых своих современников, Шеллер-Михайлов был уверен в необходимости и актуальности созданных им произведений, в том, что у него всегда будет свой читатель, о чем сам неоднократно говорил и писал. Например, М.А. Соколова во вступительной статье к сборнику Шеллера-Михайлова приводят- следующее характерное высказывание писателя: «Мои произведения будут дороги тем людям, кому дороги идеи и мысли, сильно выраженные о нашей жизни» [165, с.13-14]. В свете подобных признаний актуализируется вопрос и о перспективах исследования: во-первых, необходимо расширить круг исследуемых произведений Шеллера-Михайлова; во-вторых, углубить изучение контекстуальных связей творчества Шеллера с русской классикой и, кроме того, установить характер его взаимодействия с отдельными произведениями революционно-демократической беллетристики второй половины XIX века; в-третьих, обозначить новые аспекты в изучении поэтики романов Шеллера.
Список научной литературыЖучкова, Елена Николаевна, диссертация по теме "Русская литература"
1. Гоголь, Н.В. Мертвые души. Поэма/ Н.В. Гоголь// Гоголь, Н.В. Сочинения: В 2 т. Т. 1. — Самара: Самарский Дом печати, 1994. - С. 239458.
2. Гоголь, Н.В. Невский проспект/ Н.В.Гоголь// Гоголь, Н.В. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Самара: Самарский Дом печати, 1994. — С. 397-427.
3. Гончаров, И.А. Обрыв. Роман в пяти частях/ И.А. Гончаров М.: Государственное издательство Художественной литературы, 1955. -624 с.
4. Достоевский, Ф.М. Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом/ Ф.М.Достоевский// Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 14, 15. — Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972.
5. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом/ Ф.М. Достоевский// Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 6. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972. -423 с.
6. Островский, А.Н. Бесприданница. Драма в четырех действиях/ А.Н.Островский// Островский, А.Н. Полное собрание сочинений: В 12 т. Т. 5. Пьесы 1878 1884. -М.: Искусство, 1975. - С. 3-72.
7. Пушкин, А.С. Медный всадник/ А.С.Пушкин// Пушкин, А.С. Сочинения: В 3 т. Т. 2. -М.: Художественная литература, 1986. С. 172-185.
8. Салтыков-Щедрин, М.Е. Господа Головлевы/ М.Е. Салтыков-Щедрин // Салтыков-Щедрин, М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 13. М.: Художественная литература, 1972. - С. 7-262.
9. Толстой, Л.Н. Война и мир: Роман в четырех томах/ Л.Н. Толстой. М.: Советская Россия, 1991.
10. Тургенев, И.С. Вешние воды/ И.С.Тургенев// Тургенев, И.С. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 8. Повести и рассказы 1871-1883. Стихотворения впрозе. — М.: Государственное издательство Художественной литературы, 1956.-С. 38-183.
11. Тургенев, И.С. Поездка в Полесье/ И.С.Тургенев// Тургенев, И.С.Собрание сочинений: В 12 т. Т. 6. Повести и рассказы 1860-х годов. — М.: Государственное издательство Художественной литературы, 1956. С. 207-225.
12. Шеллер-Михайлов, А.К. Вразброд. Роман в двух частях/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 4. -С.-Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904. С. 143-599.
13. З.Шеллер-Михайлов, А.К. Гнилые болота, история без героя. В двух частях/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 1. — С. Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904.-С. 33-212.
14. Шеллер-Михайлов, А.К. Гнилые болота. Беспечальное житье/ А.К. Шеллер-Михайлов М.: Правда, 1984. - 527 с.
15. Шелл ер-Михайлов, А.К. Господа Обносковы/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 2. -С.-Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904. С. 5-252.
16. Шеллер-Михайлов, А.К. Господа Обносковы. Над обрывом. Вешние грозы/ А.К. Шеллер-Михайлов. М.: Правда, 1987. - 528 с.
17. Шеллер-Михайлов, А.К. Дворец и монастырь: Историческая роман-хроника времен Великого князя Василия Ивановича и царя Иоанна Грозного/ А.К. Шеллер-Михайлов М.: Советский писатель — Олимп, 1991.-272 с.
18. Шеллер-Михайлов, А.К. Лес рубят — щепки летят. Роман в двух частях/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. - Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904. - С. 5-519.
19. Шеллер-Михайлов, А.К. Лес рубят щепки летят: Роман/ А.К. Шеллер-Михайлов. - М.: Художественная литература, 1984. - 528 с.
20. Шеллер-Михайлов, А.К. Над обрывом. Роман/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 3. — С. Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904. - С. 295-486.
21. Шеллер-Михайлов, А.К. Падение/ А.К. Шеллер-Михайлов// Шеллер-Михайлов, А.К. Полное собрание сочинений. Т. 5. С. - Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1904. - С. 159-430.1.
22. Анализ художественного произведения мировой литературы в школе и вузе: Методические рекомендации для студентов филологического факультета. Выпуск XI. — Нижний Новгород: НГПУ, 2003. - 111 с.
23. Афанасьев, А. Н. Древо жизни/А. Н. Афанасьев -М.: Современник, 1982. -463с.
24. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика/ Р. Барт. М.: Прогресс, 1989.-615с.
25. Бахтин, М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук/ М.М. Бахтин. СПб.: Азбука, 2000. - 333 с.
26. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет/ М. Бахтин. -М.: Художественная литература, 1975. 502 с.
27. Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского/ М.М. Бахтин. Изд. 3-е -М.: Художественная литература, 1972. - 470 с.
28. Бахтин, М.М. Эпос и роман/ М.М. Бахтин. СПб.: Азбука, 2000. - 304 с.
29. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества/ М.М. Бахтин. М.: Искусство, 1979. - 424с.
30. Бердяев, Н.А. О русских классиках/ Н.А. Бердяев. М.: Высшая школа, 1993.-368 с.
31. Билинкис, Я.С. О творчестве JI.H. Толстого/ Я.С. Билинкис. — JL: Советский писатель, 1959. 414 с.
32. Богданов, В.А. Роман/ В.А. Богданов// Литературный энциклопедический словарь/ Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987. - С. 329-331.
33. Бочаров, С.Г. Роман Л. Толстого «Война и мир». Очерк/ С.Г. Бочаров-М.: Гослитиздат, 1963. 142 с.
34. Бочаров, С.Г. Сюжеты русской литературы/ С.Г. Бочаров. М.: Языки русской культуры: Кошелев, 1999. — 626 с.
35. Зб.Бурсов, Б.И. Русские революционеры-демократы о положительном герое/ Б.И. Бурсов. Л.: Лениздат, 1953. - 212 с.
36. Бушмин, А.С. Искусство сатиры/ А.С. Бушмин. -М.: Современник, 1976. -253 с.
37. Бушмин, А.С. Сатира Салтыкова-Щедрина/ А.С. Бушмин. М. - Л. АН СССР, 1959.-644 с.
38. Бялый, Г.А. Русский реализм от Тургенева к Чехову/ Г.А. Бялый. — Л: Советский писатель. Ленинигр. отд., 1990. 637 с.
39. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учебное пособие/ Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман и др./ Под ред. Л.В. Чернец. — М.: Высшая школа; Академия, 1999. 556 с.
40. Введение в философию: В двух частях. Часть 2/ И.Т. Фролов, Э.А. Араб-Оглы, Г.С. Арефьева и др. М.: Политиздат, 1989. - 693 с.
41. Вердеревская, Н.А. Русский роман 40-60-х годов XIX века/ Н.А. Вердеревская. Казань: Издательство Казанского университета, 1980.- 136 с.
42. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика/ А.Н. Веселовский. М.: Высшая школа, 1989. - 404 с.
43. Вече. Альманах русской философии и культуры. Выпуск 4. СПб: Издательство С. — Петербургского университета, 1995. - 191 с.
44. Взаимодействие творческих индивидуальностей русских писателей XIX — начала XX веков: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МПУ, 1994.- 195 с.
45. Владимир Даль и современная филология: Материалы международной научной конференции. 22-23 ноября 2001 года. Нижний Новгород. Том II. Нижний Новгород: Нижегородский лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2001. -351 с.
46. Гачев, Г.Д. Содержательность художественных форм/ Г.Д. Гачев. М.: Просвещение, 1968. - 302 с.
47. Гинзбург, Л.Я. О литературном герое/ Л.Я. Гинзбург. Л.: Советский писатель. Ленингр. отд., 1979. - 222 с.
48. Гинзбург, Л.Я. О психологической прозе/ Л.Я. Гинзбург. Л.: Художественная литература, Ленингр. отд., 1977.- 443с.
49. Грехневские чтения: Сборник научных трудов. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2001.- 166с.
50. Горелов, П.Г. Пропажа совести и ее возвращение (Художественное слово в романе «Господа Головлевы»)/ П.Г. Горелов// Литература в школе. — 1989.-№4.-С. 34-48.
51. Грифцов, Б.А. Психология писателя/ Б.А. Грифцов. М: Художественная литература, 1988.- 462с.
52. Гулый, А. С. Проблема духовности и нигилизма в трилогии И.А. Гончарова: Автореф. дис. канд. филол. наук: 10.01.01/ А.С. Гулый. -М. 2003.-27с.
53. Гуральник, У.А. Революционно-демократическая эстетика и критика 60-х годов. Чернышевский, Добролюбов/ У.А. Гуральник// История всемирной литературы: В 9т. Т. 7. М.: Наука, 1991.- С. 29-33.
54. Гуревич, A.M. Динамика реализма (в русской литературе XIX в.): Пособие для учителя/ A.M. Гуревич. -М.: ГИТИС, 1994.- 87с.
55. Днепров, В.Д. Идеи времени и формы времени/ В.Д. Днепров. -Л.: Советский писатель. Ленингр. отд., 1980.-598с.
56. Добин, Е.С. Искусство детали: Наблюдение и анализ/ Е.С. Добин. Л.: Советский писатель. Ленингр. отд., 1975.- 192с.
57. Добин, Е.С. Сюжет и действительность. Искусство детали/ Е.С. Добин. -Л.: Советский писатель. Ленингр. отд., 1981.- 431с.
58. Драгомирецкая, Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX веков/ Н.В. Драгомирецкая. М.: Наука, 1991.- 379с.
59. Драгомирецкая, Н.В. Время в литературе/ Н.В. Драгомирецкая// Словарь литературных терминов. Ред.- сост. Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М.: Просвещение, 1974.-509с.
60. Егоров, Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов/ Б.Ф. Егоров.-Л.: Искусство. Ленингр. отд.,1991.- 334с.
61. Елизаветина, Г.Г. А.К. Шеллер-Михайлов (Очерк творчества)/ Г.Г. Елизаветина// Шеллер-Михайлов А.К. Лес рубят — щепки летят: Роман.- М.: Художественная литература, 1984.- С.3-18.
62. Елизаветина, Г.Г. Эхо «шестидесятых». Творчество А. К. Шеллера (А. Михайлова)/ Г.Г. Елизаветина// Шеллер-Михайлов А. К. Гнилые болота. Беспечальное житье. -М.: Правда, 1984.- С.3-18.
63. Есин, А.Б. Демократический журнал «Дело»/ А.Б. Есин . — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959.- 48с.
64. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения/ А.Б. Есин. -М: Флинта, Наука, 1998.- 248с.
65. Есин, А.Б. Психологизм русской классической литературы: Книга для учителя/ А.Б. Есин. -М.: Просвещение, 1988.- 174с.
66. Жаров, В.А. Ф.М. Достоевский и философия права 1860-х годов: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/ В.А. Жаров. Тверь, 2003.-18с.
67. Жирмунский, В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика/ В.М. Жирмунский. Д.: Изд-во «Наука», Ленингр. отд., 1977.- 407с.
68. Жук, А.А. Русская проза второй половины XIX века: Пособие для учителей/А.А. Жук. -М.: Просвещение, 1981.- 254с.
69. История всемирной литературы: В 9т. / Гл. ред.: Ю. Б. Виппер и др. Т. 7/ Ред. кол.: И. А. Бернштейн и др. -М.: Наука, 1991.- 830с.
70. История русской литературной критики: Учеб. для вузов / В.В. Прозоров, О. О. Милованова, Е. Г. Елина и др./ Под ред. В. В. Прозорова. М.: Высшая школа, 2002.- 463с.
71. История русской литературы: В Зт./ Гл. ред. Д.Д. Благой. Т. 3. Литература второй половины XIX начала XX веков/ Ред. кол.: Ф.И. Евнин и др-М.: Наука, 1964. - 902 с.
72. История русской литературы: В 4т./ Гл. ред. Н. И. Пруцков. Т.З. Расцвет реализма/ Ред. кол.: А.С. Бушмин и др. Л.: Наука, 1982. - 876 с.
73. История русской литературы XI-XIX веков: Учебное пособие для студ. филолог, фак. высш. учеб. заведений: В 2ч./ Под ред. Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 4.2. - 224с.
74. История русской литературы XIX века 1800 1830-е годы: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч./ Под ред. В.Н. Аношкиной и Л.Д.Г ромовой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Ч. 1. - 288 с.
75. Кабанов, А. Об авторе/ А. Каба нов// Шелер-Михайлов А.К. Дворец и монастырь: Историческая роман-хроника времен Великого князя Василия Ивановича и царя Иоанна Грозного. — М.: Советский писатель: Агентство «Олимп», 1991.- с. 3-6.
76. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность/ Ю.Н. Караулов. — М.: Наука, 1987.-261с.
77. Карякин, Ю. Достоевский и канун XXI века/ Ю. Карякин. — М.: Советский писатель, 1989. 646 с.
78. Классика и современность/ Под ред. П. А. Николаева, В. Е. Хализева. — М.: Изд-во МГУ, 1991.- 256с.
79. Кожинов, В.В. Основы теории литературы/ В.В. Кожинов. М.: Знание, 1962.-48с.
80. Кожинов, В.В. Происхождение романа/ В.В. Кожинов. М.: Советский писатель, 1963.- 439с.
81. Кожинов, В.В. Размышления о русской литературе/ В.В. Кожинов. М.: Современник, 1991.-524с.
82. Косиков, Г.К. О принципах повествования в романе/ Г.К. Косиков// Литературные направления и стили: Сб. ст., посвящ. 75-летию проф. Г.Н. Поспелова/ Отв. ред. Г.К. Косиков. М.: Изд-во МГУ, 1976.- С. 257264.
83. Котельников, В.А. Иван Александрович Гончаров: Кн. для учащихся ст. классов/В.А. Котельников. -М.: Просвещение, 1993.- 191с.
84. Краснов, Г.В. Проблема изображения народа и развитие критического реализма. Из курса лекций по истории русской литературы XIX века/ Г.В. Краснов. Горький: Горьковский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 1959.-39с.
85. Крылова, М.А. Автобиографическая тетралогия Н.Г. Гарина-Михайловского («Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»): проблема жанра: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/М.А Крылова. Н. Н., 2000. - 21 с.
86. Кузьмичев, И.К. Введение в общее литературоведение XXI века: Лекции/ И.К. Кузьмичев. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 2004.- 324с.
87. Кузьмичев, И.К. Литературные перекрестки: Типология жанров, их историческая судьба/ И.К. Кузьмичев. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1983.-208с.
88. Кулакова, А.А. Мифопоэтика «Записок охотника» И.С. Тургенева: пространство и имя: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/А.А. Кулакова. -М., 2003.-33с.
89. Кулешов, В.И. Натуральная школа в русской литературе XIX века/ Учебн. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 «Рус. яз. и лит.»/ В.И. Кулешов. 2-е изд. — М.; Просвещение, 1982.- 239с.
90. Курляндская, Г.Б. Тургенев и русская литература: Учеб. пос. для ст. пед. ин-тов/ Г.Б. Курляндская. М.: Просвещение, 1980.-192 с.
91. Курляндская, Г.Б. Нравственный идеал героев Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского: Кн. для учителя/ Г.Б. Курляндская. — М.: Просвещение, 1988.- 256с.
92. Лакшин, В.Я. Толстой и Чехов/ В.Я. Лакшин. Изд. 2-е, испр. - М.: Советский писатель, 1975.-456с.
93. Лебедев, Ю.В. Над страницами романа И. А. Гончарова «Обрыв»/ Ю.В. Лебедев// Литература в школе. 1995. - №4. - С.2-10.
94. Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX века: вторая половина: Кн. для учителя Ю.В. Лебедев. -М.: Просвещение, 1990.- 228с.
95. ЮО.Левидов, A.M. Автор — образ — читатель. 2-е изд., дополн./
96. A.M. Левидов —Л: Изд-во Ленинградского университета, 1983.- 349с.
97. Лейдерман, Н.С. Движение времени и законы жанра; Монография/ Н.С. Лейдерман. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1982.- 256с.
98. Лейтес, Н.С. Роман как художественная система: Учебное пособие по спецкурсу/ Н.С. Лейтес. Пермь: ПГУ, 1985.- 79с.
99. Литвинова, Д.А. Проблема воспитания в художественной разработке Ф.М.Достоевского: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/ Д.А. Литвинова. Магнитогорск, 2004,- 18с.
100. Литературный энциклопедический словарь/ Под общ. ред.
101. B.М. Кожевникова, П.А. Николаева. — М.: Советская энциклопедия, 1987.- 750с.
102. Литературоведческие термины (материалы к словарю). М-во общего и проф. образования РФ Коломенский пединститут. - Коломна: КПИ. -Вып. 2.-1999.- 120с.
103. Лихачев, Д.С. Историческая поэтика русской литературы: Смех как мировоззрение и др. работы/ Д.С. Лихачев. — СПб.: Алетейя, 1999.- 508с.
104. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества/ Лихачев Д. С.; РАН; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом)/ Д.С. Лихачев. — Спб.: Блиц, 1999.- 191с.
105. Лихачев, Д.С. Поэтика древнерусской литературы/ Д.С. Лихачев. 3-е изд., доп. -М.: Наука, 1979.- 352с.
106. Лихачев, Д.С. Человек в литературе древней Руси/ Д.С. Лихачев. — 2-е изд. -М.: Наука, 1970.- 180с.
107. ПО.Лотман, Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века/ Л.М. Лотман. — Л.: Наука, Ленингр. отд., 1974.- 350с.
108. Лотман, Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха/ Ю.М. Лотман.-Л.: Просвещение, 1972.-271 с.
109. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII начало XIX века)/ Ю.М. Лотман. - 2-е изд., доп. -СПб.: Искусство, 1999.- 413с.
110. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек текст - семиосфера - история/ Ю.М. Лотман. - М.: Школа. «Языки рус. культуры», 1996.-447с.
111. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя/ Ю.М. Лотман. — М.: Просвещение, 1988.- 352с.
112. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста/ Ю.М. Лотман. М.: Искусство, 1970.-384с.
113. Лукьянова, Л.В. Проблема женских характеров в рассказах А. П. Чехова (в свете дискуссии по «женскому вопросу»): Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/Л. В. Лукьянова.-М., 1996.- 19с.
114. Манн, Ю.В. Поэтика Гоголя/ Ю.В. Манн. — М.: Художественная литература, 1978.-398 с.
115. Манн, Ю.В. Смелость изобретения: Черты художественного мира Гоголя/ Ю.В. Манн. 2-е изд., дополн. - М.: Дет. лит., 1979.- 142с.
116. Маркович, В.М. Тургенев и русский реалистический роман XIX века/ В.М. Маркович. Л.: ЛГУ, 1982.-208 с.
117. Машинский, С.И. Художественный мир Гоголя/ С.И. Машинский. — М.: Просвещение, 1971.-512с.
118. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах/ Е.М. Мелетинский. -М.: Российский гуманитарный ун-т, 1994.- 136с.
119. Недзвецкий, В.А. Гончаров/ В.А. Недзвецкий// История всемирной литературы: В 9 т. Т. 7. -М.: Наука, 1991.- с. 50-56.
120. Николаев, Д.П. Сатира Салтыкова-Щедрина/ Д.П. Николаев М.: Художественная литература., 1977.- 358с.
121. Новое прочтение отечественной классики: методические рекомендации. Выпуск 5. -Н. Новгород: НГПУ, 2000.- 39с.
122. Новое прочтение отечественной классики: методические рекомендации. Выпуск 6. Н. Новгород: НГПУ, 2002.- 39с.
123. Одиноков, В.Г. Поэтика романов JI. Н. Толстого/ В.Г. Одиноков. — Новосибирск: Изд-во «Наука»: Сиб. отд-ние, 1978.- 160с.
124. Одиноков, В.Г. Поэтика русских писателей XIX века и литературный прогресс/ В.Г. Одиноков. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1987.-155с.
125. Одиноков, В.Г. Проблемы поэтики и типологии русского романа XIX в./ В.Г. Одиноков. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1971.- 192с.
126. Одиноков, В.Г. Типология образов в художественной системе Достоевского/ В.Г. Одиноков. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981.-145с.
127. Одиноков, В.Г. Художественная системность русского классического романа: Проблемы и суждения/ В. Г. Одиноков. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976.-196с.
128. Одиноков, В.Г. Художественно-исторический опыт в поэтике русских писателей/ В.Г. Одиноков. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990.-207с.
129. Одиноков, В.Г. Чтение как искусство/ В.Г. Одиноков. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изд-во, 1976. -47с.
130. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/ Под ред. чл. — корр. АН СССР Н. Ю. Шведаевой. 18-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986.- 797с.
131. Пинаев, М.Т. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Комментарий. Кн. для учителя/ М.Т. Пинаев. 2-е изд., доп. и испр. - М.:Просвещение 1988.-301 с.
132. Пинаев, М.Т. Чернышевский романист. Н. Г. Чернышевский романист и «новые люди» в литературе 60-70-х годов/ М.Т. Пинаев// История русской литературы: В 4 т. Т.З. - JL: Наука, 1982. - С. 80-120.
133. Писарев, Д.И. Сочинения в 4 т. Т. 3/ Д.И. Писарев. — М.: Госуд. изд-во худож. лит., 1956. — 569с.
134. Поспелов, Г.Н. Введение в литературоведение: Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов и пед. ин-тов/ Г. Н. Поспелов. М.: Высшая школа, 1976.- 442с.
135. Поспелов, Г.Н. История русской литературы XIX века (1840-1860-е гг.): Учебник для филол. спец. вузов/ Г.Н. Поспелов. 3-е изд., доп. - М.: Высшая школа, 1981.-480с.
136. Поспелов, Г.Н. Вопросы методологии и поэтики/ Г. Н. Поспелов. М.: Изд-во МГУ, 1983.- 336с.
137. Поспелов, Г.Н. Проблемы исторического развития литературы: Учеб. пособие для ст-тов пед. ин-тов/ Г. Н. Поспелов. М.: Просвещение, 1971.- 271с.
138. Поспелов, Г.Н. Теория литературы/ Г. Н. Поспелов. М.: Высшая школа, 1978.-351с.
139. Поспелов, Г.Н. Эпоха расцвета критического реализма: Из курса лекций по истории русской литературы 40-60-е гг. XIX в./ Г. Н. Поспелов. М.: Изд-во МГУ, 1958.- 251с.
140. Православная духовность в прошлом и настоящем: XII Рождественские православно-философские чтения. — Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2003.- 515с.
141. Принципы анализа литературного произведения: Сб. ст./ Под ред. П.А. Николаева, А. Я. Эсалнек. М.: Изд-во МГУ, 1984.- 199с.
142. Проблемы типологии русского реализма: Сб. ст./ Под ред. H.JI. Степанова и У.Р. Фохта. -М.: Наука, 1969.- 474с.
143. Пруцков, Н.И. Школа беллетристов-разночинцев 60-х годов/ Н.И. Пруцков// История русской литературы: В 4 т. Т. 3. JL: Наука, 1982.- с. 48-80.
144. Революционные демократы и литература XIX века/ Отв. ред. Г. Г. Елизаветина, А. С. Курилов. — М.: Наука, 1986.- 367с.
145. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве/ Отв. ред. Б. Ф. Егоров. Д.: Наука. Ленингр. отд., 1974.- 299с.
146. Роднянская, И.В. Художественное время и художественное пространство/ И.В. Роднянская// Литературный энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия, 1987.- с. 487-489.
147. Русская критика эпохи Чернышевского и Добролюбова: Сб. ст./ Отв. ред. А. А. Чернышев. -М.: Дет. лит., 1989,- 446с.
148. Русская литературная классика XIX века: Учебное пособие/ Под ред. А.А. Слинько и В.А. Свительского. Воронеж: Родная речь, 2003.- 426с.
149. Рымарь, Н.Т. Введение в теорию романа/ Н.Т. Рымарь. — Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1989.- 286с.
150. Рымарь, Н.Т. Поэтика романа/ Н.Т. Рымарь. Куйбышев: Изд-во Саратовского ун-та. Куйбышевский филиал, 1990.- 252с.
151. Салтыков-Щедрин, М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 9/ М.Е. Салтыков-Щедрин, М.Е. М.: Художественная литература, 1970. -647 с.
152. Самойлова, Г.М. Внефабульные связи как структурообразующее начало в русском романе второй половины XIX века: Автореф. дис. доктора филолог, наук: 10.01.01/ Г. М. Самойлова. Н. Новгород, 2000.- 37с.
153. Силина, JI.A. Типология повествовательных форм в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/ JI.A. Силина. Елец, 2001.- 18с.
154. Селезнев, Ю.И. Достоевский/ Ю.И. Селезнев. М.: Молодая гвардия, 1981.- 543с.
155. Скабичевский, A.M. Критико-биографический очерк/ A.M. Скабичевский// Полное собрание сочинений А.К. Шеллера-Михайлова. Т. 1. С.-Петербург, 1904.- С. 5-32.
156. Скабичевский, A.M. Литературные воспоминания/ A.M. Скабичевский. -М.: Аграф, 2001.- 432с.
157. Скафтымов, А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования/ А.П. Скафтымов. М.: Художественная лититература, 1972.- 543с.
158. Словарь литературоведческих терминов/ Ред.-сост. Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. М.: Просвещение, 1974. - 509 с.
159. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. — М.: Интрада ИНИОН, 1996.-319 с.
160. Соколова, М.А. «Себя должны мы прежде всего исправить.» (предисловие)/ М.А. Соколова// Шеллер-Михайлов А.К. Господа Обносковы. Над обрывом. М.: 1987. - С. 3-17.
161. Сохряков, Ю.И. Нравственные открытия русских писателей: О мировом• *значении русской литературы: Книга для учителя/ Ю.И. Сохряков. М.: Просвещение, 1990. - 206 с.
162. Старосельская, Н.Д. Роман И. А Гончарова «Обрыв»/ Н.Д. Старосельская. М.: Художественная литература, 1990. - 224 с.
163. Тамарченко, Д.Е. Из истории русского классического романа. Пушкин, Лермонтов, Гоголь/ Д.Е. Тамарченко. М. - Л.: АН СССР (Ленинградское отделение), 1961. - 167 с.
164. Ткачев, П.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 1/ П.Н. Ткачев. М.: Мысль, 1975. -901 с.
165. Томашевский, В.Б. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие/ В.Б. Томашевский. — М.: Аспект Пресс, 2001. 334 с.
166. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ: Исследования в области мифопоэтического/ В.Н Топоров. М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. - 624 с.
167. Троицкий, В.Ю. Словесность в школе: Книга для преподавателей русской филологии/ В.Ю. Троицкий. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. 423 с.
168. Утехин, Н.П. Жанры эпической прозы/ Н.П. Утехин. Л.: Наука, 1982. -189 с.
169. Утехин, Н.П. Современность классики/ Н.П. Утехин. — М.: Современник, 1986. 383 с.
170. Фатеева, Н.А. Контрапункт интертекстуальности или интертекст в мире текстов/ Н.А. Фатеева. М.: АГАР, 2000. - 280 с.
171. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра/ О.М. Фрейденберг. — М.: Лабиринт, 1997.-448 с.
172. Фридлендер, Г.М. Литература в движении времени/ Г.М. Фридлендер. -М.: Современник, 1983. 300 с.
173. Фридлендер, Г.М. Поэтика русского реализма: Очерки о русской литературе XIX века/ Г.М. Фридлендер. — JL: Наука, 1971. 292 с.
174. Фридлянд, В. В поисках истины (вступительная статья)/ В. Фридлянд// Тургенев И.С. Избранное. М.: Правда, 1983. - 608 с.
175. Хализев, В.Е. Теория литературы: Учебник для студентов вузов/ В.Е. Хализев. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высшая школа, 2002. — 437 с.
176. Хализев, В.Е., Шешунова С. В. Литературные реминисценции/ В.Е. Хализев, С.В. Шешунова// Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина». -М., 1989.-с. 44-46.
177. Храпченко, М.Б. Собрание сочинений: В 4-х тт./ М.Б. Храпченко. М.: Художественная литература, 1980, 1981.
178. Чернейко, Л.О. Способы представления пространства и времени в художественном тексте/ Л.О. Чернейко// Филологические науки. — 1994. -№2.-С. 59-61.
179. Чернец, Л.В. Литературные жанры (проблемы типологии и поэтики)/ Л.В. Чернец. М.: Издательство Московского университета, 1982. -192 с.
180. Чичерин, А.В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова/ А.В. Чичерин. — Изд. 2-е, доп. — М.:Советский писатель, 1968.
181. Энциклопедия литературных героев: Русская литература второй половины XIX века/ Под общ. ред. Е.А. Шкловского. М.: ACT: Олимп, 1997.-764 с.
182. Эсалнек, А.Я. Своеобразие романа как жанра: Спецкурс для студентов-заочников филологических факультетов государственных университетов/ А.Я. Эсалнек. М.: Издательство МГУ, 1978. - 79 с.
183. Эсалнек, А.Я. Типология романа: (Теоретический и историко-литературный аспекты)/ А.Я. Эсалнек. М.: Издательство МГУ, 1991 — 156 с.
184. Юдина, М.Б. «Пушкино-гоголевская» школа в романистике И.А.Гончарова: Автореф. дис. канд. филолог, наук: 10.01.01/ М.Б. Юдина. Тверь, 2003. - 16 с.