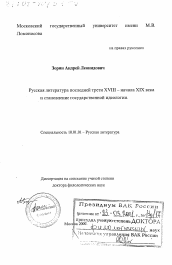автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Русская литература последней трети XVIII - начала XIX века и становление государственной идеологии
Полный текст автореферата диссертации по теме "Русская литература последней трети XVIII - начала XIX века и становление государственной идеологии"
ч;
•
/1 рэ
На правах рукописи
ЗОРИН Андрей Леонидович
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКА И СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
л
Специальность 10.01.01 — История русской литературы
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Москва 2000
Работа выполнена на кафедре истории русской литературы Российского государственного гуманитарного университета
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук доктор филологических наук доктор филологических наук
Песков А.М Живов В. М. Николаев С.И.
Ведущая организация: Томский государственный
университет
Зашита состоится _2000 года в_часов на
заседании Диссертационного совета Д.053.05.11 по русской литературе и фольклористике Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Адрес: 119899, Москва, ГСП, Воробьевы горы, МГУ, 1 корпус гуманитарных факультетов. Филологический факультет
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке МГУ
Автореферат разослан_________2000 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета кандидат филологических наук
Смирнов А.А.
Ш5(Я с <0
Общая характеристика диссертации. В настоящей работе рассматривается роль литературы в формировании государственной идеологии в последней трети XVIII — начале XIX века. Именно в эту эпоху обозначенный круг вопросов приобретает исключительное значение и для развития литературы, и для становления государственной идеологии. В екатерининскую эпоху заданный петровскими реформами процесс переосмысления судьбы Российской империи и стоящих перед нею исторических задач перестает быть делом воли и воображения самодержца или его ближайшего окружения. Формулируя собственные цели, государственная власть одновременно впервые обнаруживает заинтересованность в осознанной мобилизации вокруг этих целей образованной части дворянства.
Потенциал и пределы такого рода мобилизации обнаружились в ходе антинаполеоновских войн 1805 — 1815 годов, когда была достипгута наибольшая степень национального единства, оказавшегося, однако, весьма недолговечным. С исчезновением смертельного врага мобилизационные модели, реализованные в годы войны, утратили свою действенность, и обнажились лежавшие в их основе идеологические противоречия. Понятно, что именно в этом историческом промежутке литература в наибольшей мере могла порождать фундаментальные идеологические смыслы, значимые как для институтов государственной власти, так и для нарождавшегося общественного мнения.
Актуальность темы исследования. Проблема соотношения литературы и идеологии долгие десятилетия была монополизирована в отечественной науке партийным официозом. Соответственно, с окончанием советского периода российской истории она во многом оказалась снятой с повестки дня, как бы вычеркнутой из числа легитимных предметов научного исследования. Особенно подозрительным в этом контексте выглядит вопрос о соотношении литературного творчества и идеологической практики государственной власти: молчаливо предполагается, что сама его постановка подразумевает компрометирующую художественное творчество зависимость от тех или иных форм диктата или, по крайней мере, социального заказа. Между тем литература вовсе не только реагирует на идеологические импульсы, поступающие от власти. В не меньшей степени она сама формирует подобные
импульсы, которые усваиваются обществом, - и не в последнюю очередь, той его частью, которая принимает и реализует политические решения. Можно сказать, что идеологическое строительство есть результат диалога между «властителем» и «художником». В русской культуре с ее традиционным литературоцентризмом писатели играли здесь особенно существенную роль.
Целью работы было выявить многообразные связи, существовавшие между литературным и идеологическим развитием Российской империи в обозначенный период времени, проследить взаимообмен базовыми метафорами между художественными текстами и поэтическими документами, показать роль литературы в государственном идеологическом строительстве. В результате возникает возможность по-новому проанализировать роль и значение так называемой «официозной» литературы, привлечь внимание к творчеству писателей и произведений, ранее недооценивавшихся историко-литературной наукой.
Такая постановка вопроса определяет научную новизну работы. Вопрос о соотношении художественной практики и идеологических моделей ранее ставился по преимуществу на материале оппозиционных политических течений. Попыток проследить систему отношений литературы и идеологического строительства государственной власти на сколько-нибудь широком историко-литературном материале по существу не предпринималось. Соответственно, целый ряд значимых литературных явлений: одическое творчество В. Петрова, трагедии Г.Державина и А. Шаховского, поэмы С. Ширинского-Шихматова — не становились еще предметом детального анализа. Недостаточно изучено и интереснейшее послание В. Жуковского «Императору Александру», традиционно остающееся в тени его баллад и элегий.
Методологической и теоретической основой работы стала концепция американского антрополога Клиффорда Гирца, предложившего понимать идеологию как «культурную систему», одну из разновидностей символической деятельности человека, имеющей по преимуществу метафорическую природу. Такой подход позволяет увидеть общность стратегий, реализующихся в
идеологическом и художественном — прежде всего, литературном — творчестве. Отчасти сходную, но более радикалъно-сциентистскую трактовку идеологических явлений предложили ученые тартуско-московской семиотической школы, создавшие также целый ряд ценных исследований, выполненных на русском материале.
Практическое значение работы. Материалы диссертации могут быть использованы при изучении и преподавании истории русской литературы и общественной и политической мысли. Наблюдения и выводы диссертации могут также быть использованы в теоретико-литературных и культурологических курсах.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена на кафедрах истории русской литературы Российского государственного гуманитарного университета и Московского государственного университета. Она легла в основу спецкурсов, прочитанных в РГГУ, Гарвардском университете (США) и Центре русских исследований Института наук о человеке (Франция). Отдельные положения работы докладывались на одиннадцати конференциях в России и за рубежом.
Структура работы. Диссертация из состоит из Введения, восьми глав, Заключения и примечаний. Во «Введении» дана мотивировка темы, проанализирована теоретическая проблематика работы и предложены основные подходы. Четыре первых главы работы посвящены екатерининскому царствованию: «греческому проекту» Екатерины И, родившемуся в контексте военного противостояния России и Турции, месту Крыма в государственном самосознании России, возникновению мифа о глобальном заговоре против России, а также последним замыслам Потемкина относительно польского вопроса, непосредственно предшествовавшим второму и третьему разделу Польши. Все эти монументальные идеологические модели находили себе параллели в творчестве ведущих поэтов того времени — прежде всего,
B.П.Петрова и Г.Р.Державина, отчасти М.М.Хераскова, В.И.Майкова,
C. С. Боброва и других. Идеологические метафоры, которые выявляются в их одах, позволяют многое прояснить в сути политических концепций, которыми
руководствовались те, кто принимал политические решения — в основном, речь, конечно, идет о Екатерине и Потемкине.
В главах с пятой по восьмую рассматриваются ряд существенных идеологических конструкций александровской эпохи: осмысление событий Смутного времени как образца национальной мобилизации и основополагающего мифа российской истории; складывание представлений о нации как о едином организме и вытекающих из этих представлений мифологем измены и внутреннего врага, наиболее полно реализовавшихся в культурных механизмах опалы М. М. Сперанского; становление идеологии национально — религиозного мессианизма и утопии христианского братства монархов и народов, проявившейся в акте Священного союза. Все эти идеологические системы так или иначе связаны с противостоянием России Наполеону, поэтому естественным историческим финалом работы становится 1815 год — год завершения наполеоновских войн. Разумеется, и здесь соответствующие идеологические построения анализируются и интерпретируются на основе литературного творчества А. С. Шишкова, С. А. Ширинского-Шихматова, В. А. Жуковского и других писателей. В Заключении подводятся основные итоги работы и выявляются причины и путь перехода от идеологических систем 1760-х — 1810-х годов к доктрине «православия — самодержавия — народности», ставшей своего рода результатом полувекового идеологического брожения.
Основное содержание диссертации. Вводная часть исследования: «Литература и идеология» содержит анализ основных аспектов взаимоотношений этих двух сфер культурного творчества.
Принятая в настоящей работе трактовка идеологических явлений была предложена американским антропологом Клиффордом Гирцем в статье «Идеология как культурная система», вошедшей в его ставший классическим сборник «Интерпретация культур»1.
Гирц понимает идеологию как одну из матриц, программирующих поведенческие стратегии. Ее назначение состоит в том, что она размечает для человеческих сообществ незнакомое культурное пространство. Ее роль резко возрастает в условиях нестабильности, когда более архаичные
1 Geertz CBfiord Interpretations of Cultures. - Harper and Collins. 1973. PP. 303 -
ориентационные модели обнаруживают свою полную или частичную непригодность. Особенно важна предложенная Гирцем трактовка "образной природы" ("figurative nature") идеологического мышления. Разумеется, он был отнюдь не первым автором, обратившим внимание на перенасыщенность идеологических текстов и лозунгов разного рода тропами. Тем не менее, фигуративная часть идеологических концепций обычно воспринимается исследователями как своего рода риторическое украшение, средство пропаганды, популяризации или обмана, как более или менее эффектная упаковка для доктрины.
Гирц полностью пересматривает этот подход. Для него троп и в первую очередь, конечно, метафора составляют самое ядро идеологического мышления, ибо именно в тропе идеология осуществляет ту символическую демаркацию социальной среды, которая позволяет коллективу и его членам обжить ее.
Мысль о метафорической природе идеологии, выдвинутая Гирцем. связана с пересмотром восходящих еще к Аристотелю представлений о природе и назначении метафоры, который был начат в 1920-е годы 'Теорией символических форм" Кассирера и приобрел особый размах в последние десятилетия. В целом этот процесса состоял в преодолении идеи о производности метафорических значений по отношению к прямым — идеи, отводившей метафорическому словоупотреблению определенные языковые, жанровые и стилистические резервации.
В противоположность этому взгляду, новые теоретики видели в метафорическом смыслообразовании основу и когнитивного процесса, и практической деятельности человека. Метафора переставала быть достоянием по преимуществу поэтического языка, становясь неотъемлемым элементом как научного и правового языка, так и повседневной языковой практики. Тем не менее, утратив монополию на метафору, изящная словесность приобрела взамен как бы привилегированный исследовательский статус, поскольку она по преимуществу является областью метафоропорождения и метафоронакопления и, следовательно, может служить идеальной лабораторией для изучения механизмов производства смыслов.
Власть имущие, политические деятели, авторы программных документов, лозунгов и формул тоже являются читателями или, говоря шире.
потребителями художественных текстов,2 способными проникаться и руководствоваться их нарративными и тропологическими моделями. Именно эта проблематика была с наибольшей полнотой и блеском разработана Ю.М. Логманом и близким ему кругом ученых через анализ поэтики "литературного поведения". Конверсия идеологических конструкций, созданных изящной словесностью, в собственно идеологическую риторику, по крайней мере, не более сложная задача, чем трансформация идеологических клише в поэтическую речь.
Соответственно, идеология в принципе может появляться на свет в стихотворениях и романах, а затем воплощаться в лозунгах или политических программах. По отношению к доктринам оппозиционного характера такого рода тезис выглядит достаточно тривиальным. Аналогичная постановка вопроса по отношению к группировкам, в той или иной форме проводящим практическую политику, вполне оправданная сама по себе, все же связана с определенными трудностями. Политическое действие неминуемо наталкивается на сопротивление среды, деформирующей первоначальные идеологические установки. Несколько огрубляя, можно сказать, что идеология будет тем "литературнее", чем дальше выдвинувшее ее сообщество от реальных властных полномочий. Однако именно эта пропорция позволяет обнаружить еще некоторые измерения возможного взаимодействия между литературой и идеологическим арсеналом государственной власти.
Групповая или, тем более, государственная, идеология может существовать в этом качестве, если вокруг ее базовых метафор существует хотя бы минимальный консенсус. Процедура выработки подобного консенсуса подразумевает безусловную переводимость фундаментальных метафорических конструкций с языка программных документов, указов и постановлений на язык конкретного политического действия, а также на язык официальных ритуалов и массовых празднеств, язык организации повседневного быта и пространственной среды и т.п. Как и любой перевод, он осуществляется не без смысловых потерь, но его принципиальная корректность подтверждается Как
^Вообще литература - лишь одна из возможных сфер производства идеологических метафор. В двадцатом веке эту функцию чаще исполняют кино и различные жанры СМИ. В то же время в теоретическом плане ось идеология - литература особенно интересна, ибо обе они работают с одним и тем же материалом -письменным словом.
непосредственной интуицией членов социума, так и специально создаваемыми институтами идеологического контроля.
Разумеется, поэтический язык может конструировать необходимые метафоры в наиболее чистом виде. Но именно поэтому искусство, и в первую очередь литература, приобретают возможность служить своего рода универсальным депозитарием идеологических смыслов и мерилом их практической реализованное™. В некотором смысле идеология обладает способностью конвертироваться в столь многие и столь разнообразные проявления социального бытия, потому что она располагает золотым стандартом, сохраненным в поэтическом языке.
В первой главе работы «Греческий проект» Екатерины Ни русская ода 1760-х — 1770-х годов» рассматривается одна из самых масштабных, детализированных и амбициозных внешнеполитических идей, которые когда-либо выдвигались правителями России — замысел Екатерины расчленить Османскую империю и восстановить на ее европейских территориях греческую, императором которой должен был стать второй внук императрицы, с далеко идущими планами названный ею Константином. Исследователи этого проекта обычно ограничиваются сферой дипломатии и придворной политики, почти не принимая во внимание его культурное измерение. Между тем для оценки как источников проекта, так и его исторического значения именно это измерение может оказаться едва ли не решающим.
При обсуждении "греческого проекта" и современники, и потомки обращали обычно внимание на его центральный, наиболее ответственный и, возможно, наиболее труднодостижимый элемент — завоевание Константинополя. Однако как раз в этой части план Екатерины и Потемкина не содержал в себе решительно ничего оригинального. Планы завоевания столицы Восточной Римской империи одушевляли русских царей еще в XVII веке.
Историческая уникальность греческого проекта Екатерины в другом. Императрица как раз не собиралась ни присоединять Константинополь к Российской державе, ни переносить туда столицу. Она хотела сделать из него центр новой Греческой империи, престол которой должен был достаться Константину лишь при твердом условии, что и он сам, и его потомки навсегда
и при любых обстоятельствах отказываются от притязаний на российскую корону. Таким образом две соседние державы под скипетрами "Звезды Севера" и "Звезды Востока", Александра и Константина, должны были быть соединены своего рода «узами братской дружбы», причем Россия, разумеется, должна была исполнять в этом союзе роль «старшего брата».
Однако династическая уния, обеспечивавшая это братство, должна была быть поддержана более глубинными историческими факторами, которые бы мотивировали, претензии одного из членов российской императорской фамилии на,престол новой Греческой империи и как бы поднимали бы весь проект над сферой конъюнктурной и дипломатической игры. Без сомнения, таким фактором служила религиозная преемственность Российской империи по отношению к Константинопольской. Россия получила свою веру из греческих рук, в результате брака киевского князя и византийской царевны, и потому выступала теперь в качестве естественной, избавительницы греков от ига неверных. Это обстоятельство вносило в возникавшие между россиянами и греками отношения новый оттенок, ибо Россия оказывалась не только покровительницей Греции, но ее наследницей, или, продолжая родственную метафору, дочерью, которая должна возвратить своей старшей — и одновременно младшей — родственнице давний долг.
И здесь мы подходим к стержню всей этой идеологической конструкции. Дело в том, что в заданной греческим проектом системе координат религиозная преемственность по умолчанию приравнивалась к культурной. Между Константинополем и Афинам ставился знак равенства, а роль единственной церковной наследницы Византии по определению делала Россию и безусловно легитимной наследницей греческой античности. Смешение византийских и античных мотивов мы постоянно видим, в частности, во всей атрибутике проекта, включая торжества по случаю рождения Константина и программу его воспитания.
Этот сдвиг кардинально менял представления об исторической роли и предназначении России. Если традиционно считалось, что факел просвещения перешел из Греции в Рим, оттуда был подхвачен Западной Европой и из ее рук был принят Россией, то теперь Россия оказывалась связана с Грецией напрямую и не нуждалась в посредниках.
Такая позиция очевидным образом приводила к мысли о культурном приоритете России в Европе и позволяла ставить вопрос о приоритетах политических. По мысли Екатерины, во главе политического устройства Европы должны были стоять две империи — венская, наследовавшая римской, и петербургская, наследовавшая константинопольской.
Трудно представить себе фигуру, более подходившую для вынашивания и осуществления всех этих гиперболических замыслов, чем Потемкин. Визионер и утопист с чертами административной гениальности, сочетавший в себе экзальтированную набожность, богословскую эрудицию с преклонением перед классической античностью и страстью к Греции и грекам, он был тем самым человеком, которого могла одушевить задача гигантского геополитического разворота России на юг. От балтийского ареала с преимущественной ориентацией на протестантско - германский мир, куда направил державу Петр 1, Россию предстояло повернуть к Черному и Средиземному морям, к Северному Причерноморью и Балканам, населенным единоверными греками, южными славянами, молдаванами и валахами, — к территориям, объединенным некогда Византийским скипетром, а еще раньше державой Александра Македонского.
Личность Потемкина обнаруживается во всей этой схеме с безусловной отчетливостью. Тем интересней, что ее основные концептуальные звенья были выработаны в предшествующее пятилетие, в ходе русско-турецкой войны 1769-1774 гг., до политического возвышения светлейшего князя.
Еще В. О. Ключевский указывал на то, что греческий проект Екатерины был в значительной степени вдохновлен письмами Вольтера.5 Действительно, Вольтер в своих письмах к Екатерине времен русско-турецкой войны 17681774 гг. постоянно обращается к греческой теме и неизменно подталкивает Екатерину к завоеванию Константинополя и возрождению греческого государства и просвещения. Признанный лидер европейского классицизма, он видел в вытеснении турков из Европы предпосылку ее культурного возрождения. "Северная Семирамида", одновременно его благодетельница и ученица, должна была стать орудием провидения, распространяющим просвещение на штыках своих солдат.
^См., например, Ключевский В.О. О русской истории. - М.: ' Просвещение , 1993. С. 509.
Влияние Вольтера на оформление некоторых элементов греческого проекта могло быть существенным, но во всяком случае оно носило крайне ограниченный характер. У Вольтера Екатерина могла почерпнуть видение освобожденной Греции, как царства возрожденной античности, своего рода подстановку Афин на место Константинополя. Однако несущие звенья всей конструкции проекта: идея сложной исторической преемственности Греции и России, связь между церковной и культурной преемственностью, утопия братской унии двух империй на базе единой религиозно-культурной идентичности, - очевидным образом были совершенно чужды французскому философу. Екатерина и Потемкин должны были искать вдохновения в домашних источниках.
Осенью 1768 года Турция объявила России войну. Начало военных действий было для императрицы и ее ближайших приближенных отчасти неожиданным и, безусловно, нежелательным. Неудивительно, что их идейное обеспечение несколько запоздало и первым делом Екатерина схватилась за опробованную столетиями религиозную карту. Подписанный 18 ноября 1768 г. манифест "О начатии войны с Оттоманскою Портою" не содержит совсем никаких неоклассических мотивов. Впрочем, манифест был обращен ко всем слоям населения империи большинство которого не было бы в состоянии оценить классические аллюзии. Но М. Херасков, С. Домашнев и другие авторы од на этот случай, предназначенных куда более узкой аудитории, также фиксируют свое внимание на религиозной проблематике и даже противопоставляют суетные и бессмысленные подвиги античных героев новому походу за веру.
Однако в написанной полугодом позже оде Петрова «На взятие Хотина» уже возникают, поначалу на заднем плане, несколько иные акценты. Доведя до эмоционального предела традиционную библейскую риторику, он выдвигает и целый комплекс новых мотивов: Константинополь, и Софийский храм как цель войны, и возвращение Россией Византии некогда принятой от нее благодати, и обретение освобожденной страной себя в российском даре. Но самые главные смысловые новации Петров приберегает для последней строфы, где ода, до предела переполненная религиозной символикой и атрибутикой, разрешается античными мотивами. Конечным итогом вмешательства божьей десницы в ход событий становится вольность Греции и
гимны нового Пиндара. В следующей оде Петрова "На взятие Яс", написанной осенью того же 1769 года, древнегреческий колорит еще усиливается.
В своих одах второй половины 1769 года поэт отчасти уловил, а отчасти предугадал и предвосхитил тот имевший поистине историческое значение поворот, который суждено было пережить официальной интерпретации целей и смысла войны. Без всякого сомнения, поворот этот был связан с морейской экспедицией Алексея Орлова, которая должна была отправиться в тыл турок и поднять в Средиземноморье восстание проживавших там греков.
На протяжении почти полустолетия русская культура, усвоив европейские нормы, упорно примеряла на себя античные одежды, сравнивала своих героев с древними, измеряла свои достижения степенью соответствия греческим и римским образцам. Слова Спарта, Афины, Аркадия не обозначали в этом языке никакой географической реальности, служа лишь отражением абсолютного совершенства. Теперь именно в эту никогда не существовавшую страну, прямо в золотой век, в обитель богов и героев отправилась российская эскадра. Участники этой экспедиции, и прежде всего, конечно, ее вожди, самим сопряжением своих имен с этой мифологической топонимикой становились подобны древним обитателям этих мест и, в сущности, превращались в античных героев.
Первым энергию оживания школьной мифологии и превращения ее в политическую реальность почувствовал Петров, начавший насыщать свои оды эллинскими ассоциациями еще до появления русской эскадры в Средиземном море. Высадка десанта на побережье вызвала у него взлет поэтического воображения. Его ода "На победы в Морее" столь же переполнена античной атрибутикой, сколь хотинская ода библейской, и столь же эмоционально перенапряжена.
Музыка греческой топонимики творит в этой оде "дивные премены". Спартанцы под российскими знаменами вновь становятся спартанцами. Греция оживает, ибо в "прибывших россах живы" спартанские герои во главе с Леонидом — Орловым. Русские на этой священной земле превращаются в греков, чтобы, наконец, восстановить Грецию. Екатерина не только вполне традиционно именуется в этой оде Палладой или Минервой, она впрямую становится одной из олимпийцев, образ которой должен быть объектом почитания в возрожденном античном храме.
Петров выразил намечавшийся сдвиг несколько раньше и мощнее других. Но в одах на победу, одержанную Алексеем Орловым в июле 1770 года в Чесменской бухте, распространение этих мотивов приобретает эпидемический характер. Они возникают и у Майкова, и у Домашней, и у Козельского, и у Хераскова, то есть у поэтов, годом-полутора ранее гчхугивопоставлявших подвиги российских героев баснословным преданиям древнос.^
Понятно, что оды писались более или менее по горячим следам невиданной победы, но тот же комплекс мотивов проявляется и в вышедших через два года более масштабных произведениях, посвященных тому же событию: поэме Хераскова "Чесмесский бой" и поэтической драме Павла Потемкина "Россы в Архипелаге."
Идеологическая основа для греческого проекта была, по существу, создана. При этом важно иметь в виду, что Павел Потемкин был двоюродным братом и близким сотрудником будущего фаворита, а Петров его давним и близким другом. Зная литературные интересы Потемкина, представляется совершенно естественным предположить, что он должен был бьггь внимательным читателем произведений, созданных близкими ему людьми и посвященных волновавшим его событиям. Именно ему предстояло превратить систему поэтических метафор в развернутую политическую программу.
Вторая глава « Ода В. П. Петрова "На заключение с Оттоманскою Портою мира " и возникновение мифологии мирового заговора» посвящена анализу одного произведения. Даже в перенасыщенном политической проблематикой творчестве Петрова ода 1775 года "На заключение <...> мира" занимает особое место. Воззрения автора не только воплощены здесь в системе тропов или риторических фигур, но и изложены в качестве более или менее последовательной доктрины. Причем доктрине этой, кажется, впервые развернутой Петровым, было суждено пережить породившие ее политические обстоятельства и теоретические дискуссии и на долгое время войти в государственный быт России.
Кучук-Кайнардакийский мир, которым в 1774 году окончилась русско-турецкая война, был весьма благоприятен для России. Тем не менее, Екатерине не удалось достигнуть всех целей, которые она и ее сподвижники ставили перед собой в наиболее успешные периоды военной кампании.
Прежде всего, Греция по-прежнему оставалась под турецким владычеством. Кроме того, уже в ходе этой войны амбициозные планы императрицы натолкнулись на упорное противодействие многих европейских держав, не только не желавших поддерживать христианскую Россию против мусульманской Турции, но и более или менее открыто принимавших сторону ее извечного противника.
Такого рода коллизия требовала каких-то серьезных идеологических объяснений. Одна из первых попыток дать подобное объяснение и была предпринята тем же В. Петровым в его написанной в 1775 году оде. Если другие русские одописцы, приветствуя заключение мира, в основном оставались в пределах метафорических схем, найденных им в одах 1769 и 1770 годов, то сам Петров стремился сделать следующий шаг и осмыслить новую ситуацию и в целом политическое устройство Европы.
«Ода Ее Императорскому Величеству Екатерине II на заключение с Оттоманской Портой мира» стала итогом многолетнего пребывания Петрова в Англии. Для человека, наделенного интересом к политическим проблемам, Лондон представлял собой единственную в своем роде школу. Свободная пресса, отчеты о парламентских дебатах, открытая борьба между правительством и оппозицией давали совершенно иной опыт причастности к большой политике, чем тот, который Петров мог вынести из своей близости к двору, положения чтеца Екатерины II и дружбы с Потемкиным.
■ -г
Как и в своей оде на объявление войны, Петров винит в военном конфликте закулисные интрига' французской дипломатии, с завистью относящейся к российской мощи и стремящейся загребать жар чужими руками. Однако по прошествии шести лет поэт стремится дать политике Франции более глубокое теоретическое обоснование - теперь он видит ее корни в господствующей в европейской политической мысли доктрине баланса сил. Теоретики дипломатии XVIII века были убеждены, что в основе системы международных отношений лежит равновесие между державами, не позволяющее ни одной из них претендовать на мировое господство.
Обращение к доктрине баланса сил позволило Петрову отойти от исключительной сосредоточенности на французских интригах и увидеть в них проявление общих закономерностей европейской политики. Более того, весь Старый свет предстает в оде как единый политический и культурный мир,
наследующий великим империям древности и наделенный тем же агрессивно-экспансионистским духом.
Петров отмечает многоликость и переменчивость европейского духа, его 1ч->четеевскую страсть к опытам и изобретениям, пафос обогащения, тягу к глобальным .^морским завоеваниям, облекающих современных монархов "в мочь" римских императоров. Причем обо всем этом поэт пишет с характерной смесью восхищения, ужаса и морального осуждения, заставляющей вспомнить описания европейского гения, которые будут много позднее выхолить из-под пера русских славянофилов.
В последней трети века основной сферой приложения доктрины баланса сил в европейской и особенно французской политике становится сдерживание России. После раздела Польши и успехов в войне с турками рост российской мощи и влияния все больше воспринимается в качестве основной угрозы равновесию в Европе и традиционно сложившемуся соотношению сил. Отсюда и стремление поэта подвергнуть теорию равновесия критике, опираясь, прежде вссго, на проекты установления в Европе "вечного мира", который должен был прийти на смену балансу, основанному на страхе, зависти и подозрительности.
Подобные замыслы, восходящие к идеям "христианской республики", предложенной в начале XVII века герцогом С юл л и французскому королю Генриху IV, и развитым в концепции европейской конфедерации, изложенной в 1713 году аббатом Сен-Пьером, приобрели особую популярность после публикации в 1761 году "Сокращения проекта Вечного мира", написанного Руссо. Именно это краткое изложение замыслов Сен-Пьера стало основным источником многих положений оды Петрова.
По Руссо и Петрову, все европейские державы образуют между собой своего рода систему, основанную на "политическом и гражданском союзе", существовавшим между различными частями Римской империи и поддержанную единством европейского духа. Система баланса сил, по словам Руссо, хотя и неразрушима, но крайне опасна. Равновесие борьбы и страха часто служит источником войны, ибо различные государства склонны подозревать друг друга в опасных намерениях. Логика поддержания баланса сил оказывается логикой войны и подстрекательства, логикой оправдания насилия. Петров, как и Руссо, глубоко убежден в ее вредоносности и
неприемлемости для устройства Европы. При этом, если Руссо, по следам Сен-Пьера, демонстрирует моральную и политическую неприемлемость доктрины баланса сил, чтобы противопоставить ей проект конфедеративного устройства Европы, то интерес Петрова прежде всего сосредоточен на тех, кто, руководствуясь этой доктриной, стремится не допустить Россию в систему европейских государств.
Источник этих антирусских тенденций в европейской политике Петров увидел в деятельности так называемого «Королевского секрета» Людовика XV — особой системы его дипломатии, по которой посвященные сотрудники посольств Франции в разных странах получали тайные инструкции, часто противоречащие официальным указаниям, поступавшим от министра. Главным и почти единственным предметом тайной дипломатии было укрепление профранцузской партии и, прежде всего, борьба -с русским влиянием в Польше. К началу 1770-х годов сведения о деятельности «Секрета» начали просачиваться в дипломатические круги и могли быть известны Петрову, тесно общавшемуся с сотрудниками российского посольства в Лондоне. Неудивительно, что дипломатическая причуда Людовика XV приняла в сознании русского поэта гиперболические масштабы.
Мы можем составить набор признаков, которыми Петров наделяет участников тайного круга, упорно и давно интригующего против России. Это маги, волхвы, "творящие велики чудеса.", кудесники, изобретающие "огневые машины". Это авантюристы — "счастия ловцы". Это шарлатаны, меняющие свой облик и намерения, "пременой лиц и дум Протеи". Это охваченные жаждой наживы "куплю деюши пловцы". Это, наконец, "сердец ... ловцы", вовлекающие других в свои сети. Если свести всс эти характеристики воедино, из них складывается мифологический образ масона, распространенный в полемической литературе тех лет. Десятилетием позже, создавая свои антимасонские комедии, Екатерина только повторит в "Обманщике" и "Шамане сибирском" петровские характеристики.
Англия, где Петров создавал свою оду, была родиной и столицей европейского масонства, накопившей ко времени пребывания там русского одописца огромный объем масонской апологетики и антимасонской полемики, в которой масонов обвиняли и в черной маши, и в тайных политических умыслах, и в вульгарном корыстолюбии. В царствование
Екатерины масонство, к немалому беспокойству императрицы, широко распространилось и в России. При этом среди русских масонов числились политические противники покровителя Петрова Потемкина — прежде всего Панин, и литературные противники самого Петрова, прежде всего Сумароков, Майков и Новиков. Однако, в отличие от Англии и Франции, Россия не имела традиции антимасонской пропаганды. Похоже, что Петров был первым российским литератором, усмотревшим в распространении масонства угрозу государственным интересам России.
Третья глава «Крымский миф и русская поэзия 1780-х — 1790-х годов» посвящена истории освоения русской литературой крымской тематики. Ход военных действий, мирные переговоры и дипломатическая борьба в Европе показали Екатерине и ее ближайшим сотрудникам, что греческий проект в нельзя осуществить без ряда промежуточных этапов. Безусловно, самым важным из шагов, которые предстояло предпринять, было присоединение Крыма.
Крым был присоединен к России после сложных политических маневров в апреле 1783г. Приобретение столь важной провинции без единого выстрела свидетельствовало в глазах русского общественного мнения о мощи России лучше, чем любые победы, и одновременно как бы символически указывало на органичность этого расширения границ империи.
Помимо своего выигрышного стратегического положения, Крым обладал для России громадным символическим капиталом. Он мог репрезентировать сразу и христианскую Византию, и классическую Элладу. Прежде всего, это была территория, колонизованная в древности древней Грецией и богатая античными памятниками. С приобретением Крыма Россия получала как бы свою долю античного наследства, дававшего ей право стоять в ряду цивилизованных европейских народов. С другой стороны, именно с берегов Черного моря брало начало русское христианство. В Херсонесе Таврическом некогда принял крещение и вступил в брак с греческой царевной Анной князь Владимир, положив начало тому преемству, которое лежало в идеологической основе греческого проекта.
Эта геополитическая метафора отчетливо реализована Держвиным в «Оде на приобретение Крыма». Русские приходят в провинцию, некогда
принадлежавшую Греции, вновь сообщают ей ее греческий облик и заново обретают свою веру и историю, отчасти превращаясь в эллинов. При этом и сами греки, освобождаясь от рабства, вновь становятся собой под российской эгидой. Тема возрождения греков и греческого духа в связи с завоевательными планами России достаточно широко распространена еще в оде времен первой русско-турецкой войны, но Державин со свойственным ему гиперболическим размахом доводит ситуацию до предела: Минерва - Екатерина делает греков не только из рабов героями, но из скотов - людьми, ее мирный подвиг становится исполнением Пифагорейских таинств, а возвращенный к своему природному естеству Гомер, наконец, может воспевать не баснословные предания троянских походов, но истинные свершения российской Афины.
Идея, что расширение Российской империи на юг есть исполнение сокровенных пророчеств Гомера не была изобретением Державина. Связь турецкой кампании 1769-1774г. и российской экспансии на юг с троянской войной становилась в эти годы общим местом. В эпических поэмах Хераскова в центре фабулы, которая как и полагается эпической фабуле, должна была составить основу национального мифа, становится осада города, таящего заветную красавицу. Причем, если в " Росс и аде" (1779г) таким городом оказывается осажденная Иваном Грозным Казань, то во второй поэме, писавшейся в первой половине 1780-х годов, Херасков находит более адекватную точку этого гсо-политико-эротического тяготения российской судьбы - Таврический Херсонес, где Владимир должен обрести и будущее блаженство России в христианской религии, и собственное блаженство в греческой княжне.
В "Оде на приобретение Крыма" Державин обращается к исключительно редкому у него белому стиху, отчетливо связывая эту новацию с античным колоритом. В стремлении эллинизировать русский стих Державин не был одинок. Еще раньше, с 1775 года, Петров экспериментирует с формами пиндарической оды, посвящая свои опыты Потемкину, роль которого в греческом проекте была достаточно хорошо известна, по крайней мере, самому поэту. Его ода Потемкину 1781 года выходит в двуязычном издании с переводом en regard на греческий язык, сделанным Г. Балдани, а в оде 1782 года он, кажется, впервые на русской почве пытается точно воссоздать форму древнегреческой хоровой лирики со строфами, антистрофами и эподами.
В центре внимания Петрова этническая пестрота Потемкинских владений, где находят приют "даже чуждые народы от дальних света стран". Стремление Потемкина заселить вверенную ему Новороссию выходцами из разных краев становится в этой оде символом грядущего единения народов в новых провинциях Российской империи, где Вавилонский грех оказывается преодолен и все народы соединяются, замыкая под российской эгидой исторический круг всемирной цивилизации. Крым, вместивший в свою историю легендарных скифов, сарматов, греков, генуэзцев, монголов, татар и, наконец, восстановивиший свою российскую и христианскую природу, становится прообразом грядущего земного рая.
С изменением в восьмидесятые годы политической обстановки перспективы скорой реализации греческого проекта становятся все более туманными и отодвигаются в неопределенное будущее. Соответственно, крымская тема перестает быть побочной при константинопольской и обретает все большую самостоятельность. Символической демонстрацией избранного курса должна была стать поездка Екатерины в Крым в первой половине 1787 года4
Маршрут и хронология этого путешествия были разработаны с исключительной—тщательностью, Екатерина должна была выехать из Петербурга сразу после новогодних праздников, проехать по зимним губерниям Великороссии, провести конец зимы и первую половину весны в Киеве, в землях во главе которых стоял герой первой русско-турецкой войны фельдмаршал Румянцев, прибыть в потемкинские владения в Новороссии в начале мая и последние его две недели провести в Крыму. Движение высочайшей свиты на юг совпадало с весенним оживлением природы. Можно проследить, как во всех письмах и высказываниях императрицы во время путешествия устойчиво нарастает райская топика.
Райские мотивы вообще являются непременным атрибутом имперских утопий, но, конечно, природа Новороссии и особенно Крыма буквально напрашивалась на такое осмысление. В эти месяцы Екатерина постоянно противопоставляет ложный петербургский рай настоящему крымскому. Даже
4 Начало изучению этой екатерининского путешествия как своего рода символического текста было положено статьей А. М. Панченко «Потемкинские деревни как культурный миф» ¡^Русская литература конца XVIII - начала XIX века в общественно-культурном контексте, (сб. XVIII век, вып.14) - Л., 1983;
стремительный рост каменных строений и разнообразие населяющих край племен тоже прочитывается здесь как плод мощных производительных сил местной природы, созидающей и растения, и народы в невероятном изобилии и разнообразии.
8 июня, уже по пути обратно, Екатерина выразила высочайшее одобрение трудам Потемкина и присвоила ему почетный титул князя Таврического. По-видимому, вопрос о будущей геополитической ориентации России был для нее в основном ясен. Это понимали и современники.
Своего рода итогом путешествия стало празднование 25-летия вступления Екатерины на русский престол 28 июня в Москве. Как и четвертью века раньше, в подготовке идеологически значимого торжества принимая участие М. М. Херасков, написавший план представления "Щастливая Москва". Согласно этому либретто, перед публикой появлялись четыре гения, представлявших четыре стороны света, и каждый говорил о том, чем он славен в Российской империи. Последним выходил "полуденный гений", торжественно провозглашавший, что вмещает в своих «полуденных владениях» все, чем те могут похвалиться порознь и, что всего паче, в его правление вновь вступило целое «царство, млеко к мед точащее».
Надо вспомнить, с какой устойчивостью и частотой Россия на протяжении всего столетия называлась "Севером" и "полнощной державой", а турки -"сынами полудня", чтобы оценить радикальность этой риторики. Появление в пределах Империи Тавриды, "царства, млеко и мед точащего," обещало в корне изменить состав национального самосознания и культурную географию России. Однако пссм ¿тим переменам не суждено было реализоваться в полной мере. Вторая русско-турецкая война, начавшаяся через два месяца после возвращения Екатерины, задержала освоение южных губерний, а смерть Потемкина в 1791 году нанесла ее планам непоправимый урон. В 1796 г. умерла и сама импертрида, и все южные проекты оказались навсегда похороненными, оставшись, однако, в русской культуре, как замысел, как упущенная возможность, как подспудная, но оттого еще более сильная сфера тяготения.
В 1798 году, уже после смерти Екатерины, вышла описательная поэма С. С. Боброва 'Таврида", по большей части посвященная описанию крымской природы. Но, как мы уже видели, всякий рассказ о таврической флоре был
полон в тс годы напряженного политического смысла. Описанный Бобровым райский сад имеет свою историю, и Бобров рассказывает об Ифигении, страдавшей от грубости нравов Сарматов и Скифов, о просвещении, принесенном на полуостров греками, о крещении Владимира и о мусульманском завоевании Крыма. По Боброву, это завоевание приводит не только к политической, но и, так сказать, к биологической деградации.
Только возвращение полуострова под эгоду христианских монархов России может привести к возрождению крымского рая. Таврида не просто входит в состав Российской империи, она становится высшим перлом европейской цивилизации и с ее приобретением история завершает свой крут, и начинается золотой век.
Бобров говорит о грядущем расцвете Крыма как об исполнении предсказания Петра, сказавшего, что науки, перешедшие из Греции в Италию и далее распространившиеся по Европе, «продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое - в Грецию."5 Однако Бобров вносит в эти прорицания существенные коррективы. Музам незачем покидать Россию и возвращаться к себе в Грецию, ибо русские в некотором, прежде всего религиозном, смысле и есть греки, а свою Грецию они уже обрели в Тавриде. В этой перспективе уже нет смысла и воевать за Константинополь, ибо идеальным воплощением Константинополя становится возрожденный Таврический Херсонес.
В четвертой главе «Последний проект Потемкина в интерпретации Г.Р. Державина и В. П. Петрова» рассматриваются идеологические модели последних лет царствования Екатерины, когда по словам С. М. Соловьева, "восточный вопрос терял на время свое значение, на первом плане стоял вопрос польский."6 Во второй половине восьмидесятых годов Польша, казалось бы, полностью устраненная с европейской сцены разделом и внутренними раздорами, стала неожиданно вновь обретать политическое бытие. Российской дипломатии предстояло выработать политический курс, требовавший фундаментальной идеологической переориентации.
^Вебер К. Записки о Петре Великом и об его преобразованиях.//
РА, 1872, № 6. Стлб. 1074-1075.
6СоловьевС.М. Падение Польши. - М-, 1863. С. 251.
Новые ориентиры для российской политики были намечены Потемкиным. «Приватизация» государственного торжества позволяла Потемкину утвердить в сознании императрицы и всего высшего петербургского общества собственную интерпретацию не только измаильского триумфа, но и российской политики в целом. Именно празднество позволяло снять с его проектов налет сиюминутной дипломатической или придворной конъюнктуры, обнаружить их фундаментальное идеологическое измерение, придать его видению государственных задач России зримое и наглядное воплощение. Учитывая последовавшую менее чем через полгода кончину светлейшего, можно сказать, что торжества 28 апреля стали его политическим завещанием.
Возвышение Потемкина в середине 1770-х годов было, в частности, связано с предложенной им вниманию императрицы "восточной системой", на основе которой впоследствии сформировался греческий проект Екатерины II. Для того, чтобы столь же сильно увлечь императрицу своими новыми замыслами, ему надо было предложить ее вниманию идеи, качественно отличные от старого проекта, но обладающие по отношению к нему определенной преемственностью.
Утрата светлейшим значительной доли своего влияния на императрицу и его внезапная смерть, по-видимому, воспрепятствовали официализации и окончательному оформлению его замыслов. Они, однако, отразились в творчестве Державина и Петрова первой половины 1790-х годов7
В оде "На взятие Измаила" Державин, обращается к Европейским странам, пытавшимся заступиться за Турцию, с увещеваниями, полностью лежащими в русле давних мечтаний Екатерины о восстановленной Греции, которая вступит в обновленную христианскую республику. "На взятие Измаила" завершается апофеозом всеобщего мира, где победоносная Россия займет достойное ее место.
Получив заказ описать потемкинский праздник, Державин в основном интерпретировал его в том же ключе. Мифология возрожденной Греции была в то же время и мифологией земного Эдема, который Потемкин стремился воссоздать еще в своих таврических и новороссийских владениях. Теперь ему
?0 символизме российских государственных праздников см. Wortman Richard. Scenarios of Power. Myth and Ceremony in Russian Monarchy. - Princeton University Press, Princeton New Jersey. 1994.
предстояло воспроизвести эту условно - райскую Грецию в Таврическом дворце.
Южные растения, декорированные в зимнем саду, как бы свидетельствовали, что благодатный край, производящий эти плоды, также принадлежит пространству империи. Невероятное число зеркал позволяло не только скрыть от взгляда технические приспособления, но и создавало иллюзию умножения пространства.
Захваченный хорошо знакомым ему кругом классических ассоциаций, Державин затрагивает другие символические пласты празднества гораздо менее подробно и детально. Между тем они задают всему действу совершенно иную смысловую динамику. Наряду с классическими мотивами, значительную роль в программе праздника играла народная, и, прежде всего, малороссийская тематика. Специально обученные танцовщики исполняли украинские танцы, звучали песни на украинском языке, гостям во время пира прислуживали "преогромные гайдуки", одетые "в польское или черкесское" платье. Как и персонажи других потемкинских маскарадов, эти гайдуки вводят нас в самую суть занимавшей светлейшего политической проблематики.
В 1790 г. Потемкин добивался от Екатерины звания гетмана казацких войск Екатеринославской губернии, планируя стать гетманом восточной Польши, населенной в значительной степени православным украинским населением. Получив это звание, он полагал важным для себя часто появляться в немедленно пошитом им гетманском костюме, в котором и остался в памяти многих современников и потомков.
Выходом из политического кризиса в отношениях с Польшей Потемкин считал гетманство на территории украинских воеводств Польши и ряда юго-западных губерний Российской империи, уже вверенных его управлению. В сложной унии Польши и России центральное место и в географическом, и в политическом отношении должно было занимать подчиненное светлейшему малороссийское казачество. Предлагавшаяся конструкция напоминала ту, которая должна была возникнуть в результате осуществления греческого проекта, где между возрожденной Греческой и Российской империями предусматривалось создание королевства Дакия, одно время тоже предназначавшегося Потемкину. Теперь он выступал с новой инициативой, в которой ему предстояло играть еще более значимую роль.
Если основой греческого проекта, или "восточной системы, было религиозное единство России и Греции, а также дунайских княжеств, из которых предполагалось составить Дакию, то новый замысел (по аналогии с предыдущими его можно назвать "западной системой") выдвигал на первый план славянское братство. Его живым воплощением и была сама фигура светлейшего князя, объединявшего в себе польского магната, малороссийского гетмана и ближайшего сподвижника российской государыни.
На протяжении всей карьеры Потемкина бардом его побед, замыслов и празднеств неизменно был Петров. На этот раз светлейший обратился к Державину. Однако Державин, значительно превосходивший Петрова степенью общего признания и мощью поэтического дара, не обладал ни образованием, ни самостоятельностью и глубиной политического мышления, отличавшими его предшественника. А самое главное, за его спиной не было десятилетий, проведенных в тесном общении с Потемкиным.
Неудивительно, что наиболее полное отражение поздних замыслов Потемкина можно найти не столько в державинском "Описании...", еще всецело ориентированном на привычный для автора греческий проект, сколько в одах Петрова, написанных в последние годы жизни светлейшего князя и после его смерти. Ода Петрова "На взятие Очакова"..представляет собой монолог аллегорического Днепра, торжествующего освобождение своего устья от турецкого владычества.
Речь здесь идет об переходе под власть России устья Днепра, ранее принадлежавшего туркам. Со взятием Очакова, стоявшего в днепровском лимане, процесс этот был завершен. Однако Днепр долгое время служил для России границей, или, по выражению Петрова, "постыдной межой" не только с Турцией, но и с Польшей. Окончательное превращение Днепра во внутреннюю российскую реку Петров воспевает уже в 1793 году в оде "На присоединение польских областей к России", написанной после второго раздела Польши, который поэт толкует как исполнение заветных чаяний своего покойного друга.
Подобно очаковской, эта ода строится как апофеоз Днепра, празднующего свое полное освобождение. Именно Днепр, объединяющий великороссов, малороссов и поляков, призван в риторике Петрова символизировать
Российскую империю и потому может пророчествовать о грядущем славянском братстве, в котором России суждено играть ведущую роль. В этой панславистской утопии грядущего единения славян вокруг России особое место отводится Польше, вошедшей в состав российской империи ранее других единокровных народов.
Реальность второго и тем более третьего разделов никак не соотносилась с этими мечтаниями. Ода Петрова, написанная на третий раздел, уже не почти содержит прекраснодушных надежд на славянское братство. Окончательное уничтожение Польши истолковывается здесь как необходимость покончить с влиянием революционной Франции, угрожающим всему миру. Петров уже писал о тайном заговоре французской дипломатии, пытавшейся турецкими руками ослабить Россию. Закулисные заговорщики были изображены там как маги, в тишине вынашивающие и осуществляющие свои тайные заговоры. Двадцатью годами позже Петров еще усиливает прежние схемы, но роль проводников французских замыслов теперь играют не турки, а поляки.
Идеологическая интуиция снова не подвела стареющего поэта. Оставленному Петровым метафорическому инвентарю предстояло быть активно востребованным российскими политиками и публицистами уже в XIX столетии.
Этот процесс рассматривается в пятой главе «События Смутного времени в русской литературе 1806-1807гг.*. Исторические сюжеты, связанные с окончанием Смутного времени: ополчение Минина и Пожарского, освобождение Москвы и избрание на царство Михаила Федоровича Романова, - появившиеся в поле общественного сознания в пору разделов Польши, занимают доминирующее положение в национальном историческом пантеоне в течение полугора лет, отделяющих Аустерлицкий разгром от Тильзитского мира. В 1806 году было написано напечатанное двумя годами позднее "историческое представление" Державина "Пожарский", в 1807 одна задругой появляются поэмы С. Глинки "Пожарский и Минин" и С. Ширинского-Шихматова "Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия", трагедия М. Крюковского "Пожарский. В 1807 году был объявлен конкурс на памятник Минину и Пожарскому, итогом которого стал знаменитый памятник Мартоса. Перечень этот можно продолжить.
Конечно, эти героические страницы русской истории привлекали писателей и раньше. И все же именно в 1806-1807 году освобождение России от поляков и воцарение династии Романовых начинают восприниматься как ключевое событие народной истории. На протяжении всего восемнадцатого столетия подобная роль неизменно отводилась петровскому царствованию.
В первой половине 1830-х годов поход Минина и Пожарского на Москву и Земский собор 1613 года были окончательно канонизированы как мифологическое возникновение российской государственности. Преемственность новой государственной идеологии по отношению к разработкам 1806 годов была зафиксирована тем, что вновь выстроенный Александрийский театр открылся в 1832 году постановкой "Пожарского" М. Крюковского. Лишь затем идеологическую эстафету у старой трагедии приняли "Жизнь за царя" и "Рука Всевышнего Отечество спасла". В основе новой официальной трактовки Смутного времени лежала историческая параллель, эксплицированная в названиях двух первых романов М. Загоскина — "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" и "Рославлев, или Русские в 1812 году". Особо значимой делала эту параллель связь между июльской революцией 1830 г. во Франции и вспыхнувшим в ноябре того же года польским восстанием. Тем интереснее, что интерпретативные модели, приобретшие в 1830-е годы официальный статус, были в основном разработаны еще до наполеоновского вторжения в Россию.
Существенно, что практически все авторы перечисленных произведений были в так или, ицаче связаны с кругом А. С. Шишкова. Старый Державин и молодой Шихматов были ведущими поэтами этого круга, С. Глинка был близок к нему в идейном плане, а Крюковский был выдвинут Шишковым в качестве противовеса В. Озерову.
В сознании русского общества между Польшей и Францией существовала метонимическая связь, основанная на их географическом положении относительно России, религиозной общности, а также факторах историко-политическош характера. Франция наиболее активно противодействовала русской политике в Польше, а варшавские возмущения 1791 и 1794 годов воспринимались в России как распространение французской революционной заразы. В идеологическом обосновании антинаполеоновской кампании 18061807 годов огромную роль сыграла православная церковь. В знаменитом
объявлении Синода от 30 ноября 1806г., читавшемся во всех церквях, Наполеон обвинялся в отпадении от Христианства, идолопоклонстве, стремлении к "ниспровержению Церкви Христовой", а начинавшаяся кампания приобретала характер религиозной войны "против врага Церкви и Отечества."
В обстановке предвоенного возбуждения поляки все больше воспринимались как своего рода пятая колонна внутри империи. Наряду со слухами о скором освобождении крепостных, в обществе циркулировали слухи о восстановлении Польши. Слухи эти подлиты вались ликованием, с которым был встречен Наполеон в Варшаве, пронаполеоновскими прокламациями польских патриотов, и, главное, ропотом в западных губерниях, лишь недавно отошедших к России после разделов Польши. Особую тревогу общества вызвало то, что одной из заметных фигур в ближайшем окружении Александра продолжал оставаться князь Адам Чарторижский, лишь недавно оставивший пост министра иностранных дел.
История освобождения Москвы в 1612 году как нельзя лучше отвечала схемам идеологического строительства, которые выдвигала ситуация тех лет. Прежде всего, она давала разгромленной в Аустерлицком сражении России необходимую историческую перспективу. Некогда униженная и почти покоренная поляками, она теперь господствовала над враждебным народом. С противопоставления былых несчастий России ее нынешнему величию начинается поэма Шихматова.
Вся первая (из трех) песня поэмы С. Шихматова "Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия", посвящена описанию молитвы заточенного в Чудовом монастыре патриарха Гермогена, которая чудесным образом долетает до Нижнего Новгорода, где побуждает Минина собирать ополчение. В пьесах Державина и Крюковского исход осады Москвы в кульминационный момент решается воззванием патриарха к воинам. Немалую роль в обеих пьесах, особенно, у Державина, играют обращения "келаря Троицкой Лавры" Аврамия Палицына. С чтения Мининым письма Палицына начинается и поэма Глинки. Именно слово духовных пастырей пробуждает народ подняться во имя своего освобождения, ибо война, на которую поднимается народ, должна была в первую очередь вестись за веру.
Уже сами заглавия, которые дали своим поэмам Шихматов и Глинка, указывали на важнейшие исторические мифологемы, востребованные текущей политической ситуацией. Формула "Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия" эмблематизировала объединение всех сословий во имя высокой цели, а формула "Пожарский и Минин, или Пожертвования россиян" — энтузиастический характер этого объединения, тот жертвенный порыв, которого требовал от подданных высочайший манифест.
Этот общенародный порыв самым непосредственным образом связан с базовой метафорой жертвы на алтарь отечества, нашедшей свое идеальное воплощение в хрестоматийном призыве Минина к нижегородцам отдать последнее на освобождение Москвы. Пожертвование самым дорогим и заветным ради общего дела имело не только прагматический смысл, но и символизировало добровольный отказ от частного, своего, освобождение себя от всего, что не принадлежит единому народному телу.
Однако этот тип национальной мобилизации немыслим без мифологем заговора и измены. Представление о народе как едином организме, единой воле, в которую сливаются множество личных воль, предполагает предварительное очищение от скверны и заразы, без которого невозможны ни великий акт общего самоотречения, ни победа в эсхатологической схватке со злом.
Весьма показателен следующий квазиисторический эпизод. Итогом и смысловой кульминацией описываемых событий служит для авторов, пишущих о Смутном времени, избрание на царство Михаила Федоровича, положившее начало династии Романовых. При этом практически всегда инициаторам этого избрания выступает Пожарский, перед этим трогательно и величественно отклоняющий поднесенный ему венец.
Шихматов в своей поэме стремился достаточно строго следовать канве исторических событий. Державин и Крюковский, в соответствии с законами драматических жанров, вносили в свои пьесы много вымышленных происшествий, но и для них известное историческое правдоподобие сохраняло значение. Державин к тому же снабдил свое "героическое представление" предисловием, в котором указал, что было им выдумано, а что заимствовано из источников, и решительно включил эгтизод с поднесением короны князю Пожарскому в перечень исторически достоверных происшествий. Между тем
ни опубликованные к тому времени документы, ни известные рукописи, ни исторические труды не содержат решительно ничего подобного.
Особого эмоционального и концептуального накала достигает соответствующий эпизод у Шихматова. Поэт ставит своего героя перед выбором между абсолютным моральным триумфом и столь же абсолютной катастрофой, между раем и адом. Вождь, воздвигший "земной Эдем" для своего народа, окажется, прими он трон, приравнен к "хищнику", рвущемуся к власти чрез пагубы и крамолы и обреченному на низвержение в тартар. Этический максимализм такого масштаба и напряжения становится понятен, если принять во внимание, что финальный апофеоз Пожарского проецировался Шихматовым и другими писателями того времени на судьбу Наполеона.
Генералу Бонапарту удалось остановить революционный хаос, усмирить гражданскую рознь и поднять Францию на невиданную степень могущества. На этом фоне императорская корона могла восприниматься как награда за очевидные и небывалые заслуги перед отечеством. Однако именно здесь и таилась вся бездна его морального падения Напротив того, решение Пожарского устраниться от верховной власти, передав престол законному владельцу, становится его апофеозом.
Шихматов сравнивает голос народа, зовущего Пожарского на царство, с "шумом волн спокойных". Это и есть руссоистская "общая воля", столь близкая литераторам национально-консервативной ориентации. Только на этот раз она ошибается, ибо не опирается на божье благословение и национальную традицию. "Первый из достойных" не может наследовать престол. Избрание Михаила Романова нагружается в литературе тех лет таким провиденциальным значением еще и потому, что именно это наследие должно было, с точки зрения авторов шишковского круга, в конечном счете обеспечить Александру, несмотря на его человеческие слабости и опасные заблуждения, победу над Наполеоном.
Война с Наполеоном 1806-1807 годов вызвала резкую активизацию национально - консервативной оппозиции. Ее идеологи почувствовали, что ситуация национальной мобилизации создает исключительно благоприятные возможности для перехода в политическое наступление. В это время начинаются регулярные литературные чтения у Шишкова и Державина, через
несколько лет перерастающие в "Беседу любителей российского слова". В написанных в эти месяцы произведениях писателям этого круга удается предложить целостный набор идеологических метафор, разработать новую мифологию происхождения российской государственности, нащупать исторические аналогии для происходящих событий, поменять расположение фигур в национальном пантеоне. Можно сказать, что к середине 1807 года контуры новой государственной идеологии были в основном намечены.
Однако развитие событий принесло Шишкову, Державину и их сторонникам горькие разочарования. Вместо очищения от чуждой скверны и эсхатологической схватки со злом последовали Тильзитский мир, возвышение Сперанского и новый виток реформаторского активизма. Тем не менее, идеологические разработки, не пригодившиеся власти в эти годы, вновь были востребованы ею в 1812 году, когда в преддверии решающих битв с французским императором Шишков был назначен государственным секретарем, а Ростопчин — московский губернатором.
В шестой главе «Опала М. М. Сперанского и мифологии измены в общественном и литературном сознании ¡809-1812 гг.» рассматривается одна из важных составляющих идеологии национальной мобилизации — представление о предательстве в высших эшелонах власти. Материал ом. для такого анализа становится литературная и общественная реакция на возвышение М. М. Сперанского и его сенсационную отставку, состоявшуюся 17 марта 1812 года. Ближайший сотрудник и "правая рука" императора, на протяжении нескольких лет второе лицо в государстве, был в тот же вечер отправлен с полицией в Нижний Новгород. Русская история богата случаями внезапных падений всесильных фаворитов, тем не менее, опала Сперанского произвела оглушительное впечатление на современников.
Важно отметить, что во многих рассказах о случившемся Александр сам предпочитал изображать себя жертвой обстоятельств. Конечно, вся инициатива в удалении Сперанского полностью принадлежала ему самому. Однако некоторая доля истины в государевых жалобах на "общественное мнение" все же была. ,
Отставка Сперанского и назначение на его место Шишкова были одним из тех символических жестов, на которые Александр всегда обладал
исключительным чутьем. Эти кадровые решения обозначали окончание Тильзитской эпохи, когда фигура ненавистного дворянству поповича эмблематизировала не только пробонапартистский политический курс, но и готовность самодержца править, не считаясь ни с каким недовольством. Теперь, в преддверии решающего столкновения со смертельным противником, император как бы поворачивался лицом к своим подданным.
По словам одного из современников, Сперанский был «назначен неминуемо быть жертвою, которая под предлогом измены и питаемой к нему ненависти, должна объединить все сословия и обратить в настоящей войне всех к патриотизму»8 Выразительно очерченная здесь смысловая констелляция, "жертва", "измена", "всеобщая ненависть", "объединение народа", "патриотизм", "национальная пойиа", и т.п. - безусловно, окрашивала весь ход событий.
Представления о том, что дьигателем исторических событий является тайный заговор могущественных сил, уходл-г корнями в толщу человеческой истории, в восемнадцатом столетии эти объяснительные практики приобрели широкую популярность-9 Материализованным проявлением закулисных интриг сил зла служили здесь масонские ложи, получившие уже в первой половине восемнадцатого столетия широкое распространение сначала в Британии, а потом и по всей Европе.
Сильнейшее воздействие на облик европейского масонства оказали движения оккультного и мистического характера: розенкрейцерство, сосредоточенное на алхимических и парамедицинских исследованиях, и мартинизм, философское учение о "регенерации" - воссоединении души посвященного с миром духов, которому она прежде принадлежала. С другой стороны, свою роль в развитии лож сыграла деятельность ордена иллюминатов, тайного общества, основанного в 1776 году в Баварии профессором Ингольштадтского университета Адамом Вейсгауптом. Иллюминаты ставили своей задачей пропаганду радикальных политических реформ, отчасти уравнительно-социалистического толка. Поначалу орден не был связан с масонством, но в начале 1780-х годов его лидеры начали вступать в масонские ложи, стремясь использовать их возможности и популярность для распространения своих идей.
& Русская старина. 1883, № 3. С. 377
9См. Roberts J.M. The Mythology of the Secret Societies. - Lnd., 1972.
После разгрома ордена в 1786 году Вейсгаупт и иллюминаты начинают служить в европейском общественном мнении эмблематическим обозначением всемирного заговора. Многообразное, внутренне конфликтное, исполненное непримиримых противоречий явление, которым было масонство в конце восемнадцатого века, превратилось для многих сторонних наблюдателей в зловещий монолит, в котором политический радикализм и оккультные увлечения оказались частью единого плана, а эгалитаризм и иерархичность дополнили друг друга в представлениях о глубоко законспирированном штабе, действующем через многочисленных и часто непосвященных адептов.
С началом Французской революции все эти мифологемы обрели универсальное признание. Молниеносное крушение тысячелетней монархини стремительное распространение революционной лавины за пределы Франции, казалось, подтверждали уже высказывавшиеся гипотезы о деятельности могущественных конспираторов. В конце века в свет выходит труд, в котором эти представления получили полное и систематическое изложение: "Памятные записки к истории якобинства" аббата О. Баррюэля. Перед глазами читателя этого труда возникала единая., картина чудовищной деятельности антихристианской, антигосударственной и; антиобщественной секты, с доисторических времен объединявшей всезс< врагов порядка от адептов оккультных наук до просветителей XVIII- века. Французская революция оказывалась в этой системе взглядов, с одной стороны, кульминацией разрушительного процесса, а с другой - ступенью на пути заговорщиков к мировому господству.
История складывания образа масона в России во многом соответствовала европейской модели. Однако в российской интерпретации масонская мифология почти сразу же сливается с традиционными представлениям о тайном заговоре против России, который плетут за ее пределами. С началом возникновения русских лож появляются значительное число текстов, в которых масон представлен, с одной стороны, слугой сатаны, занимающимся черной магией, а с другой — неисправимым галломаном, следующим предписаниям, поступающим мз враждебной Франции.
Возрождение русского масонства в первые годы царствования Александра вызвало и возрождение традиционных фобий. В преддверии надвигавшейся
войны, 13 января 1807 года, был создан Комитет охранения общей безопасности, которому предписывалось бороться с «рассеянным во всех землях остаткам тайных обществ под названием Иллюминатов, Мартинистов», которым покровительствует «коварное правительство Франции»"10
Обстоятельства возвышения Сперанского превратили его в своего рода символ непопулярного профранцузского курса. Обвинения в "измене государству и иллюминатизме" преследовали всю его на протяжении всей его деятельности. Не была забыта и традиционная польская составляющая. После Тильзита Чарторижский, главный агент польского влияния при дворе Александра, уже не играл существенной роли в русской политике, однако его мифологическая функция была передана Сперанскому. О том, что государственный секретарь был подкуплен Наполеоном предать ему Россию «иол обещание учредить ему корону польскую»', говорил, в частности, Шишков.
Конечно, сын провинциального православного священника Сперанский никак -е мог рассматриваться в качестве кандидатуры на польский трон, но это обстоя-пьство не смущало ни самого Шишкова, всецело захваченного логикой мифа, н, вероятно, его собеседников. Оказался задействован даже такой, казалось бы, с^сем не едущий к делу элемент мифа, как магия и чернокнижие. Образ измеьника у подножия престола, готовящего своему отечеству неслыханные бедс-щия, - посланника темных сил, чародея, французского шпиона, рассчитывающего на польскую корону, обретал завершенность.
Свою опалу Сперанский считал результатом интриг некоего "секретного комитета", душой которого, по его мнению, была великая княгиня Екатерина Павловна. Такое понимание механики событий было продиктовано теми же базовыми идеологемами заговора и тайного общества, которыми руководствовались и политические противники Сперанского. В то же время великая княгиня действительно не скрывала своей неприязни к государственному секретарю. Твердая оппозиция Екатерины Павловны по отношению как к Тильзитскому курсу, так и к реформаторским планам, связанным с именем Сперанского, была достаточно широко известна и делала ее необыкновенно популярной.
10111ильдер Н. К. Император Александр I. СПб., 1897. Т. II. С.365.
В общественном сознании тех лет личность великой княгини была подвергнута столь же интенсивной мифологизации, что и фигура государственного секретаря. Красивая и решительная сестра государя, символически носящая имя своей великой бабки и самоотверженно сражающаяся за интересы России, оказывалась противопоставлена опасному интригану и заговорщику, выполняющему близ трона повеления злейшего врага своей родины.
Многие трагедии, написанные в 1808- 1808гг., воспроизводят одну и ту же коллизию. Государство стоит перед лицом столкновения с неизмеримо сильнейшим неприятелем, чей надменный повелитель предлагает постыдный мир. В этой ситуации отрицательные персонажи, исходя из очевидного неравенства сил, предлагают пойти на унижение, в то время как благородные герои требуют принять бой и в конце концов, вопреки вероятности, торжествуют. Эту схему воспроизводят, скажем, "Михаил, князь Черниговский" С. Н. Глинки (1808), "Сульеты, или Спартанцы осьмнадцатого столетия" Л. Н. Неваховича (1809), "Дебора" АЛ. Шаховского (1809) и ряд других пьес. Причем, если в более ранних трагедиях Глинки и Державина главным злодеем оказывается Батый, а русским князьям, поначалу готовым к позорной капитуляции, в финале открывается путь к раскаянию и искуплению, то в пьесах Неваховича и Шаховского, написанных уже после возвышения Сперанского, повелитель врагов отодвигается за сцену, а на первый план выходит фигура предателя, из мстительного честолюбия жаждущего погубить родину.
И Хабер в "Деборе", и Паласка в "Сульетах" являются не просто малодушными проводниками враждебной воли, но главными двигателями зловещей интриги, затеянной из ненависти к собственной стране и ее царям и имеющей целью достижение личной власти.
Оба изменника оказываются волею судьбы в роли главных царских советников. Оба они вступают в тайные переговоры с послами злейшего врага. Хабер, и Паласка в равной мере презирают народ и обычаи родной страны. В обеих трагедиях решающую роль в конечной победе над страшным противником играет женщина, не только вдыхающая решимость в своего храброго, но сомневающегося супруга, но и появляющаяся сама в критический момент на поле боя. Трудно не усмотреть в выдвижении фигур
Деборы и Амасеки на первый план отражения той провиденциальной роли, которую придавали литераторы этого круга Екатерине Павловне.
Прототипическая основа образов обоих злодеев тоже выглядит в достаточной степени очевидной. И все же было бы опрометчиво утверждать, что авторы трагедий прямо выдвигают в адрес нового фаворита обвинения в измене. Время таких обвинений было еще впереди. Трагедии 1808-1809 годов стали одной из фундаментальных манифестаций мифа о заговоре, примененного к конкретным политическим обстоятельствам и государственным деятелям того времени. При этом базовые мифологемы общественного сознания не только своеобразно отражали исторические коллизии, но и предсказывали, а возможно и формировали их. Так образ женщины-воительницы, наследницы Екатерины Великой, скорее всего, стимулировал ту неистовую активность, которую развила великая княгиня в 1812 году по формированию ополчения.
В трагедиях Шаховского и Неваховича злодеям жанровым каноном предопределено самоубийство. Хабер закалывается, однако затем под ним разверзается бездна и он проваливается в ад. У Неваховича Паласка бросается вниз с обрыва. Земля не принимает предателя, и он в буквальном смысле исчезает с ее лица, прежде чем торжествующий народ может объединиться, празднуя победу. Именно в этом ключе было воспринято большинством современников изгнание Сперанского.
Седьмая глава «Характер и цели войны 1812-1814 годов в интерпретации А. С. Шишкова и митрополита Филарета* посвящена дискуссии, развернувшейся вокруг трактовки характера войны 1812—1814 годов и целей, которые преследовала в ней Россия.
Отправив в отставку Сперанского, Александр привлек к должности государственного секретаря огромное общественное внимание. Следующим важным символическим шагом должно было стать назначение преемника опальному фавориту. 22 марта 1812 года Александр вызвал к себе Шишкова. Накануне неизбежной войны Александр стремился указать русскому обществу на смену идеологических ориентиров, продемонстрировать, что готов теперь опереться на те общественные группы и тот круг идей, которые уже на протяжении целого десятилетия представлял Шишков.
Первый, пробный манифест был написан Шишковым за один вечер. Невзирая на недостаток опыта в составлении подобных документов, он сумел успешно справиться с новой задачей, поскольку в его распоряжении были идеологические и риторические модели, разрабатывавшиеся им и его единомышленниками с 1806 года.
Впрочем, в официальных извещениях о сдаче Москвы и об уходе из нее неприятеля прямых аналогий с событиями 1612 года не проводится, хотя эта параллель отчетливо присутствовала в сознании современников. Она прозвучала уже в "Солдатской песне" Ивана Кованько, напечатанной в первом номере журнала "Сын Отечества" и приобретшей чрезвычайную популярность.
Вместе с тем, описание неистовств французской армии в занятом городе совершенно отчетливо соотносилось в манифестах с формулами, созданными в свое время для рассказов об ужасах польской оккупации. Не исключено, что именно эта историческая параллель побудила Шишкова настаивать на том, что московский пожар, как и за двести лет до эгого, был делом рук неприятеля. Нравственная отверженность польских и французских интервентов предопределяла их кощунственную ненависть к столице старинного русского благочестия.
В манифестах Шишкова особую значимость приобретает мотив разделения противоборствующих сторон непреодолимым барьером. Образ стены, которую необходимо выстроить между добром и злом, определял и его политические представления. В своих "Записках" он с большой силой выразил свои сомнения относительно необходимости европейского похода. А мысль о переносе войны непосредственно на территорию врага вызвала у него столь резкое неприятие, что он решился обратиться к непосредственно императору. 6 ноября 1813 года Шишков написал Александру почти истерическое письмо, умоляя его не переходить Рейн и не продолжать войну во Франции. Месяцем раньше Шишков закончил свой лейпцигский манифест словами: "Мы на берегу Рейна и Европа освобождена". Очевидным образом, проклятая богом Франция не входила для него в состав Европы и не нуждалась в освобождении. Ее вполне можно было и оставить под владычеством Наполеона.
Давно отмеченной особенностью публицистики и словесности военных лет был неистовый накал антинаполеоновской риторики. По словам А. В. Предтеченского, "не было, кажется, ни одной поэмы, ни одной оды, ни
одного прозаического произведения, в котором был забыт Наполеон, и, уж конечно, в них его вспоминали недобрым словом. Такие эпитеты, как "Атгила девятогонадесять века", "хищник", "изверг", "чудовище", "гнуснейший лицемер и обманщик", "мстительный и кровожадный", "Кащей бессмертный", "Змей Горыныч", "наивеличайший убийца", "всемирный бич", "ужас вочеловеченный", "ад во плоти", "людоед" и множество других в таком же роде обильно уснащали произведения поэтов и прозаиков, откликавшихся на события 1812-1814 годов."11
На этом фоне особенно примечательна сдержанность, с которой говорит о французском императоре Шишков. В манифестах 1812 года он крайне редко упоминает собственно Наполеона, предпочитая собирательные формулы "враг", "неприятель", обозначающие столько же главу Франции, сколь и его войско, и державу. Его интересовал не столько Наполеон, сколько французы в целом. Уже в 1814 году, когда русские войска находились во Франции, Шишков, крайне раздраженный снисходительным тоном обращения командующего союзными войсками Шварценберга к французам, написал собственный проект обращения, в котором мечтал об «истреблении» французов «с лица земли» и упрекал их в том, что они «избирали себе владыками» Маратов, Робеспьеров и Наполеона. Сформулированная здесь мысль об избрании французами революционных вождей и, прежде всего, Наполеона исключительно важна. Она повторяется у Шишкова несколько раз, в том числе и в опубликованных манифестах.
В этой перспективе излюбленная значительной частью российских и европейских публицистов идея об узурпации Наполеоном французского престола отпадает сама собой. Французский император оказывается столь же несомненно избран своим народом, как некогда русский народ призвал на трон благословенную династию Романовых. Нация, принадлежащая божественному порядку, единой волей избирает на престол помазанника, полагая начало великой династии, нация, живущая по законам дьявола, ставит "над собой царем, или, справедливее, сказать атаманом, рожденного в Корсике простолюдина, превосходящего всех <...> бесчестием, коварством и зшобою".
1 ' Предтеченский А.В. Отражение войн 1812-1814 годов в сознании современников. // Исторические записки, 1950. Т. 31. С. 224.
Именно поэтому русской армии ни в коем случае не следовало, по мнению Шишкова, вступать во Францию. Войну с Наполеоном можно было и прекратить, но метафизическая "вражда между безбожием и благочестием, между пороком и добродетелью",12 все равно не должна была и не могла быть прекращена. Но борьбу эту необходимо было вести прежде всего внутри России, искореняя оттуда глубоко проникшую французскую заразу.
Подобная изоляционистская идеология была приемлема далеко не для всего русского общества, и, прежде всего, она была неприемлема для самого императора, для которого освобождение России от захватчиков было по существу лишь необходимым этапом реализации куда более масштабного замысла. Менее всего он готов был удовольствоваться национальной войной в пределах государственных границ. РрЧЬ шла о всемирно-исторической и даже эсхатологической схватке, которая должна была полностью изменить все устройство мира.
Официально Шишков и Ростопчин были отстранены 30 августа 1814 г., но попытки вырвать из их рук монополию на официальное освещение хода, причин и задач войны начались гораздо раньше - в последние месяцы 1812 года. Первоначально усилия этого рода были связаны с переносом войны за пределы России и необходимостью организовать антинаполеоновскую пропаганду, рассчитанную на европейских и, прежде всего, немецких читателей,13 но параллельно исподволь менялся и идеологический продукт, рассчитанный на внутреннее употребление. Существенной вехой в этих изменениях стала параллельная публикация в "Сыне отечества" и "Чтениях в Беседе любителей российского слова" "Рассуждения о нравственных причинах неимоверных успехов наших в войне с Французами 1812 года", принадлежавшего перу архимандрита Филарета.
Филарет повторил немало риторических ходов, опробованных в шишковских манифестах. Так, он полностью воспроизвел характерную метафорику литераторов шишковского круга относительно нравственной заразы, которую несли с собой прибывавшие в Россию французы. Столь же знакомо читателям манифестов было и провиденциалистское истолкование
'-ШишковЛ.С. Записки, мнения и переписка. - Берлин, 1870. Т. I. С. 271, 270, 441 - 442.
. Сироткин В. Г. Наполеоновская война перьев против России. // Новая и новейшая история. 1981. № 3.
происходивших событий, убежденность в том, что европейская катастрофа была лишь исполнением неисповедимою Божьего замысла, первоначально скрытого от взоров смертных.
В то же время целый ряд мыслей, высказанных Филаретом, решительно отделяли его позицию от официоза шишковского толка. И наиболее глубоко это различие проявляется там, где речь идет о месте, которое занимает Россия в мире и Европе и о ее провиденциальном предназначении. "Что есть государство? — спрашивал Филарет. — Некоторый участок во всеобщем владычестве Вседержителя, отделенный по наружности, но невидимою властию сопряженный с единством всецелого."14 Тем самым отвергалось, пожалуй, центральное для миропонимания, выраженного в манифестах Шишкова, представление о принципиальной обособленности национального тела, которое необходимо подкрепить стеной, разделяющей свой и чужие народы. "Огделенность" любого государства оказывается внешним атрибутом политической реальности, лишь слегка драпирующим внутреннее единство Господнего миропорядка.
Другое определение, которое дает государству Филарет, подчеркивает сознательный моральный выбор подданных, принимающих на себя соответствующие гражданские обязательства. Важно, что предложенное Филаретом истолкование государства носит универсалистский характер.
Именно нравственное участие подданных в "союзе любви" с государем, их приверженность единому нравственному закону позволила им сохранить народное единство и в годы войны. При этом единство это обеспечивалось не столько органической крепостью народного тела, сколько свободным моральным выбором подданных российского императора, включая и крепостных крестьян.
В риторике Шишкова освободительная кампания России в Европе дополняла и оттеняла главную задачу войны — избавление России от врага и утверждение ее безопасности. В концепции Филарета эти две задачи меняются местами. Изгнание французов из России служит первым шагом к реализации ее всемирно-исторической миссии — утверждению христианского порядка во всей Европе.
^Собрание образцовых русских сочинений в прозе. СПб., 1822. Ч. II.
С.177.
Этот христианский универсализм, основанный на ощущении особой провиденциальной миссии России и ее императора, призван был заменить шишковский изоляционизм в качестве государственной идеологии империи. Несомненно, дух филаретовского "Рассуждения..." соответствовал замыслам императора. 25 декабря 1812 года вышел указ о начале строительства в Москве Храма Христа Спасителя, само посвящение которого Христу свидетельствовало о надконфессиональном характере замысла. Именно Филарет становится автором торжественного молебна, исполняемого в праздник "избавления Церкви и державы Российския от нашествия Галлов и с ними двунадесяти языков", который указом от 25 декабря 1812 года было повелено отмечать в день рождества Христова. Как отметил Г. Флоровский, "это было молебствие о спасении всего мира."15 Новый политический курс Александра I получил идеологическое и ритуальное оформление.
Новый курс потребовал и новых бардов. Как и во многих других случаях, о которых мы писали в настоящей работе, фундаментальные метафоры, лежавшие в основе идеологии Священного союза, появились в литературе едва ли не прежде, чем в политических документах. Поэтом, выразившим новые веяния с наибольшей , силой и отчетливостью, безусловно, был В.А. Жуковский. Этот круг вопросов и рассмотрен в восьмой главе Послание к Императору Александру" В. А. Жуковского и идеология Священного союз.».
Время войны с Наполеоном и первые послевоенные годы обозначили для Жуковского резкое изменение его общественного статуса. С публикацией в декабрьском номере "Вестника Европы" за 1812 год "Певца во стане русских воинов" его известность в литературных кругах превращается в национальную славу, вслед за которой приходит и официальное признание. Уже в феврале 1813 г. "Певец..." получает одобрение при дворе вдовствующей императрицы Марии Федоровны, откуда, в отсутствие находившегося при армии да и вообще мало интересовавшегося отечественной словесностью Александра I, осуществлялось идеологическое руководство литературным процессом. После появления послания «Императору Александру» официализация Жуковского достигает своего логического предела. Он становится государственным
'^Флоровский Г. Пути русского богословия. - Париж, 1981, С. 538
поэтом, последним в истории Российской империи принятым в равной мере и властью, и образованным обществом.
Признание приходит к Жуковскому на фоне полного крушения его надежд наличное счастье. Политические бури и личная драма сливаются в эти годы в его творчестве, взаимно окрашивая друг друга. По-видимому, именно немыслимая для традиционной государственно-батальной поэзии персональность тона и обеспечила "Певцу..." его оглушительный успех.
Трактовки, которые дает Жуковский и историческим катаклизмам, и личным бедам, в целом сходны и идеально отражаются в излюбленной им формулировке «доверенность к провидению». Такие проввденциалистские конструкции легко укладывались в общую концепцию происходивших военных действий, выдвигавшихся официальной публицистикой: бедствия и военные неудачи, включая сдачу Москвы, есть лишь часть неисповедимого замысла, на время сокрытого от глаз смертных, но, несомненно, в конечном счете направленного к вящей славе Российской империи. "Певец..." писался, когда эти пророчества были еще во многом поэтическими упованиями, а печатался, когда они начали сбываться
Безусловная передача себя в руки провидения предусматривала и отказ от личной воли и собственных желаний. Единственным делом, достойным человека, было отрешиться от представления, что он способен и обязан как-то влиять на свою жизнь и происходящие события, и с изначальным приятием встретить любое проявление высшей воли.
Именно "совершенное предание себя в волю Божью" становится центральной чертой в том изображении, которое получает в послании "Императору Александру" его адресат. Все появления государя в тексте послания отмечены описаниями молебнов и соответствующими риторическими формулами, выражающими высочайшую степень смирения героя перед промыслом, заслуживающего особого восхищения в носителе столь необъятной власти.
Надо сказать, что акцент на смирении и покорности провидению, достигший в послании Жуковского своего апофеоза, вполне соответствовал всей линии официальной апологетической публицистики и, в конечном счете, восходил к самому императору. Александр стремился не только продемонстрировать самоотречение в деле исполнения Божественного
замысла, но h беспрестанно пытался освоить "технологию" этого самоотречения. На протяжении всей жизни император искал духовных наставников, окружал себя мистиками и визионерами, помогавшими ему достигать необходимого состояния духа.
Вскоре после взятия Парижа, 10 июля 1814 года, состоялась его встреча со знаменитейшим европейским мистиком Юнгом-Штиллингом- Александр обсудил с Юнгом-Штиллингом религиозную ситуацию в России, положение христиан в Оттоманской империи, а также вопрос о том, какая из христианских конфессий более всего соответствует духу истинного христианства. Однако более всего император стремился узнать у своего собеседника, в чем это истинное христианство состоит. По словам Юнга-Штилдинга, он сказал Александру, что главное это "совершенная отрешенность (abandon parfait), постоянная сосредоточенность (recueillement continuel), и сердечная молитва (oraison de coeur),"16 . ..... .
Разумеется, Жуковский в 1814 году ничего це.зндл об этом разговоре. Но в своем послании он точно воплотил христианский идеал императора. Александр предстал под его пером именно таким, каким рисовал идеального христианина Юнг-Штиллинг и каким сам государь хотел себя видеть: совершенно отрешившимся от мирских устремлений, постоянно сосредоточенным на постижении божественного предначертания и обращающимся к создателю со словами сердечной молитвы.
Говоря о религиозном духе, которым проникнуто послание, необходимо обратить внимание на то, что религиозность и автора, и его героя совершенно особого типа. Александр изображен здесь беседующим с богом как бы помимо духовенства. Даже в неоднократных описаниях церковных церемоний поэт ни разу не упоминает ни одного духовного лица, каждый раз выбирая, возможно не вполне осознанно, такие грамматические конструкции, чтобы создать ощущение, что священный ритуал исполняется сам собой, царь общается с богом напрямую и здесь нет места для посредников. Сама эта концепция основывалась на целом ряде биографических, идеологических и исторических предпосылок.
И без того скептическое отношение поэта к церковной иерархии в эти годы дополнительно осложнялось тем, что, по его мнению, именно ложно
16 Ley Francis Alexandre I et sa Sainte-Alliance. Paris, Fischbacher, 1975.
P. 88
понимаемые церковные установления стояли на его пути к счастью. Исходя из своих религиозных убеждений, Е.А. Протасова не давала согласия на брак Жуковского, приходившегося ей единокровным братом, со своей дочерью.
Церковному формализму Жуковский противопоставлял опыт живого и личного переживания веры, подсказывавший ему, что их взаимные чувства с Машей предначертаны промыслом. Невозможность соединения ни в коей мере не делала для обоих влюбленных существование их небесного союза менее реальным. Даже смерть Маши мало что изменила в этом особом психологическом состоянии, обогатив Жуковского "товариществом с существом небесным", когда самая мысль о потерянной возлюбленной становится "религией".
По словам автора одной из лучших книг о мистических корнях Священного союза Э. Мюленбека, "в среде немецких сектантов существовало обыкновение <...> заключать мистические браки. Два человека духовно соединялись для совместных молитв. <...> Порою в такой союз могли вступать люди, уже состоящие в браке или лица одного пола. У некоторых было по несколько духовных мужей или жен. Другие придавали этим земным обручениям особое значение, рассматривая их как преддверие брака в ином мире."17
Близость душевной драмы русского поэта к этому типу психологического и мистического опыта совершенно очевидна.18 В кругу сходных идеологических, этических и нравственных представлений находился в эти годы и император.
Духовный опыт Александра этих лет - это, прежде всего, постоянный поиск мистических партнеров, выстраивание сложной системы духовных союзов. Император заключал мистический альянс (engagement, дословно "помолвку") с обер-прокурором А. Н. Голицыным и известным масоном Р.А. Кошелевым. Другой "мистический тринитарный пакт"19 существовал между Александром, Юнгом-Штиллингом и фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны Роксандрой Стурдзой. Подобное определение применимо и к самому акту Священного союза.
Государи, подписавшие этот акт, обязались руководствоваться в своей политике заповедями христианства, "которые отнюдь не ограничиваясь
17MuhIenbeck Е. Etude sur les origines de la Sainte Alliance.- Paris et
Strasbourg, 1887. P. 154
' ^См >,Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 129 Ley Francis Alexandre I et sa Sainte-Alliance. P. 89
приложением их единственно к частной жизни, долженствуют, напротив того, управлять волей царей и водительствовать всеми их деяниями20.
Этот союз христианских царей, в котором русский царь был первым среди равных, должен был служить итоговой реализацией надежд европейских утопистов на вечный мир. Идея христианской республики, или европейской федерации, Сюлли и Генриха IV, аббата Сен-Пьера и Руссо обретала плоть, и именно России суждено было стать ее основой.
Послание Жуковского написано более чем за девять месяцев до заключения Священного союза. Однако общие концептуальные и метафорические схемы, реализованные в этом акте и последующей политике императора, здесь уже вполне намечены. Прежде всего, обращают на себя внимание внутренние пропорции текста. Из 486 строк послания менее 10%, 40 с небольшим строк, посвящены двенадцатому году, и лишь одна из них - Бородинскому сражению. Зато только принятию Александром решения перейти Неман и продолжить войну в Европе в послании посвящено около тридцати строк, причем именно здесь Александр приобретает и право на имя благословенного и божественную природу.
Послание венчается огромным, занимающим более четверти текста описанием мистического обручения царя и народа перед лицом вседержителя. Владыка мира, Александр, клянется поставить "свой трон" "алтарем любви" к своему народу. В свою очередь, народ "подъемлет руку" к "священной руке" монарха. Только правление божества над миром может быть святым "зерцалом" правления Александра, всецело устремленного к иному миру и вечному блаженству. Брак идеального царя с идеальным народом может вполне осуществиться там же, где и брак Жуковского и Маши Протасовой — на небесах.
Успех Жуковского недолго был всеобщим и безоговорочным. Уже 23 сентября 1823 года состоялась премьера "Липецких вод" Шаховского, где автор послания "Императору Александру" был подвергнут жестоким насмешкам. А уже в следующем году Жуковский подвергается нападкам с другого общественного фланга — от Катенина и Грибоедова. Эта историко-литературная коллизия была впервые осмыслена и проанализирована Ю. Тыняновым в его классической работе "Архаисты и Пушкин."
20Внешняя политика России . - М., 1972. T. VIII. - С. 518
В интерпретации Тынянова, совпадение позиции литераторов, далеких по своим политическим позициям, связано с автономностью литературного и языкового развития от идеологических и социальных факторов. Механизмы литературных схождений и идейных расхождений как бы находятся в разных областях, и зоны их действия не перекрывают друг друга. Между тем, по крайней мере, в данном случае в обращении к "имманентности литературного ряда" нет никакой необходимости.
Популярность Александра I, достигшая во второй половине 1814 года заоблачных высот, пошла на спад очень быстро и резко. В самых разных слоях общества политика Священного союза в том понимании, которое придавал ей император, воспринималась как фактический отказ от защиты национальных интересов России. И недовольство это в равной мере исходило из круга Шишкова, оттесненного от идейного руководства страной, к которому его призвали в самую трудную для России минуту, и из среды молодых вольнодумцев, привезших из Германии не видения будущего христианского царства, но модные идеи национального возрождения. Космополитический мистицизм и сентиментальное визионерство как самого Александра, так и прославленного певца его царствования, находили все меньше поклонников, а противостояние им могло все теснее объединять людей самых различных взглядов. Недаром Пушкин, писавший в 1815 году на Шишкова оскорбительные эпиграммы, приветствовал в 1824 его назначение министром просвещения на место Голицына. Глубоко символично, что именно в этом году в поэтическом творчестве Жуковского начинается длительный перерыв.
Логика дальнейшей эволюции взаимоотношений литературы и государственной идеологии намечена в «Заключении». Последовательный отказ Александра ог идеологии национально — культурного изоляционизма в 1814 году, от греческого проекта в 1821 и от мессианской утопии Священного союза в 1824 создал для нового николаевского царствования ситуацию идеологического вакуума. Своего рода завершением более чем полувековых идеологических исканий стало утверждение доктрины «православия — самодержавия - народности», впервые сформулированной в 1832 году С.С. Уваровым.
В рамках триады православие и самодержавие определялись как, соответственно, национальная церковь и национальная модель государственного устройства. Между тем народность понималась здесь преимущественно как субъективно — психологическая категория, основанная на тех же православии и самодержавии. Русским человеком в этой системе взглядов признавался только тот, кто любит свою церковь и своего государя. Историческая значимость уваровской триады состояла в том, что краеугольными камнями русской народности объявлялись именно те институты, которые в Европе идея народности призвана была разрушить -господствующая церковь и имперский абсолютизм.
Пожалуй, впервые российское самодержавие приняло на вооружение консервативную модель, при которой ответственность за преобразования как бы перекладывалась с власти на движение истории, а на долю правительства оставалась функция поддержания необходимой устойчивости государственного здания и сохранения фундаментальных основ политического порядка. Именно этот исторический компромисс, обозначившийся в новой доктрине, нашел свое выражение в таких образцах официальной литературы этой эпохи как романы Загоскина «Юрий Милославский» (1829) и «Рославлев» (1831) или пьеса Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834),
По теме диссертации опубликованы работы:
1. Идеология "православия-самодержавия-народности" и ее немецкие источники // В раздумьях о России. - М.: "Археографический проект", 1996. -
0,7 п. л.
2. Ж-Ж. Руссо и национальная утопия старших архаистов // Новое литературное обозрение. - 1996. - № 20. - 0, 75 п. л.
3. Стихотворение Г.Р. Державина "Рождение красоты" и его прототипическая основа // Седьмые тыняновские чтения. - Рига; Москва, 1995- 1996.-0, 5 п. л.
4. К предыстории одной глобальной концепции. (Ода В.П. Петрова "На заключение мира с Портою Оттоманскою" и европейская политика 1770-х годов) // Новое литературное обозрение. -1997. - № 23. - 1,75 п. л.
5. Русская ода конца 1760-х - начала 1770-х годов, Вольтер и "греческий проект" Екатерины II // Новое литературное обозрение. - 1997. - № 24. -1,7 п. л.
6. Идеология "православия - самодержавия - народности": опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. - 1997. - № 26. - 2, 3 п.л.
7. Идеология и семиотика в интерпретации Клиффорда Гирца // Новое литературное обозрение. - 1998. - N» 29. - О, 8 п.л.
8. Крым в истории русского самосознания // Новое литературное обозрение. -1998. - № 31. -1,8 п. л.
9. Послание "Императору Александру" В.А. Жуковского и идеология Священного Союза// Новое литературное обозрение. - 1998. - № 32.-1,6 п. л.
10. Sergei Uvarovs Verbindungen zu Deutschland. // Deutsche und Deutschland aus Russicher Sicht. B. III. - Mwichen, 1998. -2, 0 п. л.
11. The Ideology of "Orthodoxy-Autocracy-Nationality": an Overview//
II Mondo slavoTra Rivoluzione ed evoluzione. Milano, Franco Angelí, 1999. - 0,75 п.л.
12. Бескровная победа князя Пожарского // Новое литературное обозрение. - 1999. № 38.-2,2. п.л.
13. Враг народа (Культурные механизмы отставки М.М. Сперанского) // Новое литературное обозрение. - 2000. - Nä 41. - 3,0 п. л.
14. Последний проект Потемкина // Новое литературное обозрение. - 2000. -№43.-1,9 п. л.
15. Кормя двуглавого орла. (Русская литература последней трети XVIII — начала XIX века и становление государственной идеологии) — М.: Изд-во "НЛО" (в печати). - 22 п. л.
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Зорин, Андрей Леонидович
Введение. Литература и идеология
Глава первая. «Греческий проект» Екатерины II и русская ода
1760-х- 1770-х годов.
Глава вторая. Ода В.П. Петрова "На заключение с Оттоманскою
Портою мира" и возникновение мифологии мирового заговора.
Глава третья. Крымский миф и русская поэзия 1780-х - 1790- х годов.
Глава четвертая. Последний проект Потемкина в интерпретации
Г.Р. Державина и В.П. Петрова.
Глава пятая. События Смутного времени в русской литературе
1806-1807гг.
Глава шестая. Опала М.М. Сперанского и мифология измены в общественном и литературном сознании 1809 - 1812гг.
Глава седьмая. Характер и цели войны 1812-1814 годов в интерпретации
A.C. Шишкова и митрополита Филарета.
Глава восьмая. Послание «Императору Александру» В. А. Жуковского и идеология Священного союза.
Введение диссертации2000 год, автореферат по филологии, Зорин, Андрей Леонидович
Литература и идеология 1
Проблема соотношения литературы и идеологии долгие десятилетия была монополизирована в отечественной науке партийным официозом, соответственно с окончанием советского периода российской истории она во многом оказалась снятой с повестки дня, как бы вычеркнутой из числа легитимных предметов научного исследования. Особенно подозрительным в этом контексте выглядит вопрос о соотношении литературного творчества и идеологической практики государственной власти - молчаливо предполагается, что сама его постановка подразумевает компрометирующую художественное творчество зависимость от тех или иных форм диктата или, по крайней мере, социального заказа.
Между тем литература отнюдь не только реагирует на идеологические импульсы, поступающие от власти, по крайней мере, в не меньшей степени она сама формирует подобные импульсы, которые усваиваются обществом, и не в последнюю очередь, той его частью, которая принимает и реализует политические решения. Можно сказать, что идеологическое строительство есть результат диалога между «властителем» и «художником». В русской культуре с ее традиционным литературоцентризмом писатели играли здесь особенно существенную роль.
Именно в последней трети ХУШ - начале XIX века обозначенный круг вопросов приобретает исключительное значение и для развития литературы и для становления государственной идеологии. В екатерининскую эпоху заданный петровскими реформами процесс переосмысления судьбы Российской империи и стоящих перед нею исторических задач перестает быть делом воли и воображения самодержца или его ближайшего окружения. Формулируя собственные цели, государственная власть одновременно впервые обнаруживает заинтересованность в осознанной мобилизации вокруг этих целей всего общества, состоявшего в ту пору из образованной части дворянства.
Потенциал и пределы такого рода мобилизации обнаружились в ходе антинаполеоновских войн 1805 - 1815 годов, в ходе которых была достигнута наибольшая степень национального единства, оказавшегося, однако, в высшей степени недолговечным. Мобилизационные модели, реализованные в годы войны, утратили свою действенность с исчезновением смертельного врага, обнажив лежавшие в их основе идеологические противоречия. Понятно, что именно в этом историческом промежутке литература в наибольшей мере могла порождать фундаментальные идеологические смыслы, значимые как для институтов государственной власти, так и для нарождающегося общественного мнения.
Тема этой диссертации - взаимоотношения государственной литературы и государственной идеологии. Оппозиционные и неофициальные писатели и идеологические модели остаются за пределами нашего рассмотрения. Единственное исключение сделано для идеологии народного тела и народной войны, выдвинутой в 1806—1807 гг. оппозиционно настроенными литераторами, группировавшимися вокруг адмирала A.C. Шишкова, но официализованной перед войной 1812 г. после его назначения на пост государственного секретаря.
Разумеется, в рамках одного исследования невозможно осветить все вопросы, связанные с ролью литературы в государственном идеологическом строительстве за столь обширный исторический период. Поэтому в центре нашего внимания оказалась по преимуществу литературная подоснова внешней политики Российской империи: войн, мирных договоров, завоевательных проектов. Особенно тесно связанная с областью национального самосознания и государственной мифологии, внешнеполитическая сфера наиболее удобна для выявления и анализа базовых идеологем, проявляющихся как в художественных произведениях, так и в практической политике.
Четыре первых главы работы посвящены екатерининскому царствованию: «греческому проекту» Екатерины II, родившемуся в контексте военного противостояния России и Турции, месту Крыма в государственном самосознании России, возникновению мифа о глобальном заговоре против России, а также последним замыслам Потемкина относительно польского вопроса, непосредственно предшествовавших второму и третьему разделу. Все эти монументальные идеологические модели находили себе параллели в творчестве ведущих поэтов того времени - прежде всего, В. П. Петрова и Г.Р. Державина, отчасти М.М. Хераскова, В.И. Майкова, С.С. Боброва и других. Идеологические метафоры, которые выявляются в их одах позволяют многое прояснить в сути политических концепций, которыми руководствовались те, кто принимал политические решения - в основном, речь, конечно, идет о Екатерине и Потемкине.
В главах с пятой по восьмую рассматриваются ряд существенных идеологических конструкций александровской эпохи: осмысление событий смутного времени как образца национальной мобилизации и основополагающего мифа российской истории, складывание представлений о нации как о едином организме и вытекающих из этих представлений мифологем измены и внутреннего врага, наиболее полно реализовавшихся в культурных механизмах опалы М.М. Сперанского, становление идеологии национально - религиозного мессианизма и утопии христианского братства монархов и народов, проявившейся в акте Священного союза. Все эти идеологические системы так или иначе связаны с противостоянием России Наполеону, поэтому естественным историческим финалом работы становится 1815 год - год завершения наполеоновских войн. Разумеется, и здесь соответствующие идеологические построения анализируются и интерпретируются на основе литературного творчества A.C. Шишкова, С.А. Ширинского - Шихматова, В.А. Жуковского и других писателей.
Соответственно, за пределами работы осталась активная преобразовательная деятельность Екатерины II и Александра I — реформаторские проекты Сперанского рассматриваются здесь лишь как вспомогательный материал для уяснения идеологических концепций его политических противников. Что касается уваровской триады, то она была создана после окончания периода войн и мятежей и в расчете на длительный период мирного развития империи, но и ее центральной задачей было определение позиции России по отношению к европейской цивилизации.
По другой причине за пределами исследования осталось царствование Павла I. Император, чрезвычайно склонный к идеологическому творчеству, менял свои ориентиры настолько стремительно, что никакого продуктивного диалога с общественным мнением и художественной практикой не могло возникнуть. Тем самым, не появлялось и устойчивых моделей, значимых для последующих эпох.
Из-за чрезвычайной широты и разнородности рассматриваемого материала мы решили отказаться от традиционной обзорной главы. Исследований, охватывающих проблематику настоящей работы в целом, не существует, а по отдельным вопросам их написано столь много, что даже краткий обзор потребовал бы не одной монографии. Поэтому краткая историография тех или иных проблем дается по мере необходимости в соответствующих разделах работы.
В главах с пятой по восьмую рассматриваются ряд существенных идеологических конструкций александровской эпохи: осмыслению событий смутного времени как образца национальной мобилизации и основополагающего мифа российской истории, складывание представлений о нации как о едином организме и вытекающих из этих представлений мифологем измены и внутреннего врага, наиболее полно, реализовавшихся в культурных механизмах опалы М.М. Сперанского, становление идеологии национально - религиозного мессианизма и утопии христианского братства монархов и народов, проявившейся в акте Священного союза. Все эти идеологические системы так или иначе связаны с противостоянием России Наполеону, поэтому естественным историческим финалом работы становится 1815 год - год завершения наполеоновских войн. Разумеется, и здесь соответствующие идеологические построения анализируются и интерпретируются на основе литературного творчества A.C. Шишкова, С.А. Ширинского - Шихматова, В.А. Жуковского и других писателей.
Соответственно, за пределами работы осталась активная преобразовательная деятельность Екатерины II и Александра I — реформаторские проекты Сперанского рассматриваются здесь лишь как вспомогательный материал для уяснения идеологических концепций его политических противников. Что касается уваровской триады, то она была создана после окончания периода войн и мятежей и в расчете на длительный период мирного развития империи, но и ее центральной задачей было определение позиции России по отношению к европейской цивилизации.
По другой причине за пределами исследования осталось царствование Павла I. Император, чрезвычайно склонный к идеологическому творчеству, менял свои ориентиры настолько стремительно, что никакого продуктивного диалога с общественным мнением и художественной практикой не могло возникнуть. Тем самым, не появлялось и устойчивых моделей, значимых для последующих эпох.
Из-за чрезвычайной широты и разнородности рассматриваемого материала мы решили отказаться от традиционной обзорной главы. Исследований, охватывающих проблематику настоящей работы в целом, не существует, а по отдельным вопросам их написано столь много, что даже краткий обзор потребовал бы не одной монографии. Поэтому краткая историография тех или иных проблем дается по мере необходимости в соответствующих разделах работы. д) систематически искажаемая коммуникация; е) то, что позволяет субъекту принять определенную точку зрения; ж) мыслительные формы, мотивированные социальными интересами; з) конструирование идентичности; и) социально необходимые заблуждения; к) сочетание дискурса и власти; л) среда, в которой социально активные субъекты осмысляют мир; м) набор убеждений, программирующих социальное действие; н) семиотическое замыкание; о) необходимая среда, в которой индивиды проживают свои отношения с социальными структурами; п) процесс, благодаря которому социальные отношения предстают в качестве естественной реальности"
Иглтон 1991, 1—2)
Значительное большинство приведенных формулировок прямо или опосредованно связаны с "Немецкой идеологией" Маркса и Энгельса с ее представлением об идеологии как о "камере-обскуре", где "люди и их отношения оказываются поставленными на голову", а "господствующие мысли суть не что иное как идеальное выражение господствующих материальных отношений, <.> следовательно это — выражение тех отношений, которые и делают один этот класс господствующим" (Маркс и Энгельс III, 25, 45—46). Такой характер выборки отражает не только партийные пристрастия Т. Иглтона, но и вполне реальную научную ситуацию. Идеологическая проблематика наиболее активно осваивалась либо в рамках марксистской традиции, либо, в крайнем случае, в ходе ее преодоления.
Трактовка идеологии как «камеры-обскуры» оставляла открытым вопрос о теоретическом статусе самого марксизма. Одно из возможных решений было отчасти намечено марксистами начала XX в., и в том числе Лениным, развернуто Г. Лукачем в книге "История и классовое сознание" (1922) и, несмотря на свирепую критику этого труда в партийной печати, принято советской официальной философией. Активизируя Йгегельянский субстрат марксизма, Лукач усматривал в истории классового сознания своего рода материалистическую аналогию самопознанию абсолютного духа. Поскольку классовые интересы пролетариата совпадают с логикой исторического процесса, противоречие между наукой и идеологией оказывается диалектически снятым и пролетарская идеология совпадаете объективной истиной (см.: Лукач 1971).
Другой подход, напротив, рассматривает идеологию как скомпрометированное, "ложное", по выражению Энгельса, сознание (Маркс и Энгельс XXXIX, 82; ср.: Манхейм 1994, 66—69), противопоставляя ему научную марксистскую социологию. Внутри марксистской традиции наиболее радикальным сторонником подобных взглядов был французский философ JL Альтюссер, видевший в идеологии праформу субъективности, которая может быть устранена из мышления только объективностью научного анализа (см.: Альтюссер 1971; ср.: Рикер 1984, 120—132; Иглтон 1991, 137—154). С другой стороны, К. Манхейм направил критический подход, выработанный марксизмом, на его собственные гносеологические предпосылки.
Для марксистского учения, — пишет Манхейм, — очевидно, что за каждой теорией стоят аспекты ведения, присущего определенным коллективам. Этот феномен — мышление, обусловленное социальными, жизненными интересами, — Маркс называет идеологией.
Здесь, как это часто случается в ходе политической борьбы, сделано весьма важное открытие, которое <.> должно быть доведено до своего логического конца. <.> Прежде всего легко убедиться в том, что мыслитель социалистическо-коммунистического направления усматривает элементы идеологии лишь в политическом мышлении противника, его же собственное мышление представляется ему свободным от каких-либо проявлений идеологии. С социологической точки зрения нет оснований не распространять на марксизм сделанное им самим открытие
Манхейм 1994, 108).
Манхейм различал "частичную" идеологию как собственно содержательную, программную часть высказываний политического противника и "тотальную" идеологию, обнимающую все его мировоззрение, включая категориальный аппарат. Соответственно, по отношению к первой, указание на социальную обусловленность носит оценочный и при том разоблачительный характер, в то время как по отношению к второй оно является регулярной научной процедурой:
Понятие частичной идеологии исходит из того, что тот или иной интерес служит причиной лжи и сокрытия истины, понятие тотальной идеологии основано на мнении, что определенному социальному положению соответствуют определенные точки зрения, методы наблюдения, аспекты. Здесь также часто применяется анализ интересов, но не для выявления каузальных детерминант, а для характеристики структуры социального бытия
Там же, 58).
Анализ идеологических практик в их социальной обусловленности и вне каких-либо сиюминутных политических оценок должен был составить предмет социологии знания — специальной исторической дисциплины, разработанной Манхеймом. Однако сколь бы богат и разработан ни был набор средств антиидеологической гигиены, находящийся в распоряжении исследователя, роковой вопрос об обусловленности самого социолога и его анализа не может быть снят с повестки дня.
С неотвратимой логикой бумеранга полемический прием, выработанный постмарксистской социологической мыслью для критики своих учителей, подкапывает ее собственные основания. В послевоенные годы неизбывный вопрос "А ты-то сам кто такой?" чаще как раз выслушивали от своих левых оппонентов социологи и политологи либерального толка, связывавшие понятие идеологии с тоталитарными доктринами коммунистическо-нацистского типа и склонные рассматривать свои собственные построения как деидеологизированные и основанные то ли на универсальных ценностях, то ли на положениях позитивной науки1.
1 Манхейм разграничивал идеологию, легитимирующую существующий общественный порядок с помощью трансцедентных ему ценностей, и утопию, взрывающую этот порядок на основе ценностей того же рода и апеллирующую к иному социальному устройству. П. Рикер, принявший это разграничение на основе совсем иной философской традиции,
Весь комплекс марксистских и постмарксистских подходов к идеологии был проанализирован и оспорен американским антропологом Клиффордом Гирцем в статье "Идеология как культурная система", вошедшей в появившийся в 1973 г. сборник его статей "Интерпретация культур" (Гирц 1973, 193—233; Гирц 1998). Разнородные взгляды своих оппонентов Гирц объединил под единой шапкой "теория интереса": "Принципы теории интереса известны слишком хорошо, чтобы их перечислять, развитые до совершенства марксистской традицией, сегодня они составляют стандартное интеллектуальное снаряжение среднего человека, который заранее уверен, что в любых политических рассуждениях важно только то, на чью мельницу они льют воду" (Гирц 1998, 13).
Подобное здравомыслие обывателя, в конечном счете, составляет и силу и слабость "теории интереса". По словам Гирца, батальное изображение общества как поля битвы, где под видом столкновения принципов происходит столкновение интересов, отвлекает наше внимание от той роли, которую идеологии играют в определении (или в затуманивании) социальных категорий, в подтверждении (или в расшатывании) социальных ожиданий, в закреплении (или в подрыве) социальных норм, в усилении (или в ослаблении) общественного консенсуса, в смягчении (или в обострении) общественных напряжений. <.> Накал теории интереса <.> только оборотная сторона ее узости
Там же, 13—14)
Постмарксистский здравый смысл" "теории интереса" удовлетворяет Гирца столь же мало, сколь и постфрейдистские клише "теории напряжений", как он называет гипотезы, согласно которым в идеологии находят свой выход социальные напряжения разбалансированного общества2. По мнению Гирца, "и теория интереса, и теория полагал, что именно сознательное принятие утопии создает рефлективно чистую позицию для критики идеологии (см.: Рикер 1984, 172). Мы будем рассматривать "утопическое", по -Манхейму и Рикеру, мышление как одну из разновидностей идеологического.
2 Во 60-е гг. Л. Альтюссер сделал попытку внести в марксистский подход к идеологии теоретические разработки Фрейда и Лакана. Согласно его концепции, служа основным средством воспроизводства существующих производственных отношений, идеология как напряжений от анализа источников переходят сразу к анализу последствий, не исследуя сколько-нибудь серьезно идеологию как систему взаимодействующих символов, как структуру взаимовлияющих смыслов" (Гирц 1998, 17). Недоступную традиционным теоретическим моделям лакуну Гирц попытался заполнить тем, что сам он назвал "семиотическим подходом к культуре" (Гирц 1973, 5, 24—30). 3
Самые знаменитые работы Гирца писались в те самые годы, когда в СССР оформлялась так называемая тартуско-московская школа, ныне ставшая и неоспоримым каноном, и золотым веком русской гуманитарии. К 1973 г., когда вышел сборник "Интерпретация культур", где в качестве первой главы была впервые опубликована статья "Насыщенное описание. К интерпретативной теории культуры", содержавшая обобщенное изложение теоретических основ антропологии Гирца, в Тарту вышли уже шесть выпусков "Трудов по знаковым системам".
Не исключено, что ранние публикации заметного, хотя в ту пору и не слишком именитого, американского антрополога были в поле зрения советских семиотиков. Тем не менее, ни о каком серьезном влиянии говорить не приходится. Гирцевская и, условно говоря, лотмановская модели семиотики культуры были созданы независимо друг от друга и с опорой на различные научные традиции. Тем интересней обнаруживаемые ими схождения и расхождения.
Антиструктуралистская ориентация "Интерпретации культур" вполне прозрачна и отчетливо декларирована. В книгу вошла рецензия на классические труды- Леви-Стросса, написанная Гирцем в 1967 г., вполне уважительная, но резко полемическая. "Бинарная оппозиция — эта диалектическая бездна между плюсом и минусом, которую компьютерная технология превратила в lingua franca современной науки, — формирует основу и мышления дикаря, и языка. Именно она превращает их в варианты одного и того же явления — коммуникативной системы", — суммировал Гирц методологию Леви-Стросса (Там же, 354). Панлигвистичность структуралистской этнографии, ее устремленность к инвариантам и глубинным структурам вызывают у него устойчивое неприятие. Обращая против своего оппонента его же собственное научное оружие, Гирц усмотрел в явление трансисторична и находится в сфере "общественного подсознания" (см.: Альтюссер 1971). Развитие этой традиции см.: Джеймесон 1981; Жижек 1999. антропологии Леви-Стросса лишь вариантную реализацию единой глубинной структуры — "универсального рационализма французского Просвещения".
Подобно Руссо, Леви-Стросс ищет не людей, которые его вовсе не волнуют, — замечает рецензент, — но Человека, которым он всецело поглощен" (Там же, 356). Сам Гирц категорически отказывается от поиска универсалий, заменяя выявление глубинных структур "насыщенным описанием" ("thick description"). Понимая человека как "культурный артефакт" (Там же, 51), он в основном избегает генерализующих употреблений термина культура, предпочитая или использовать это слово во множественном числе, или предварять его артиклем. Каждая из исследуемых им культур обладает собственным антропологическим измерением.
По словам Гирца, последовательность не может быть мерой состоятельности культурного описания. Культурные системы должны обладать минимальной степенью последовательности, иначе бы мы не называли их системами, и, как показывает наблюдение, они обычно предлагают нам в этом отношении много больше минимума. Нет, однако, ничего более последовательного, чем бред параноика, или повествование мошенника. Сила нашей интерпретации не может основываться, как слишком часто полагают, на тщательности, с которой подогнаны друг к другу детали или на уверенности, с которой они выдвигаются
Там же, 17—18). •
Подход этот, разумеется, чрезвычайно далек от сциентистского оптимизма тартуских и московских семиотиков, для которых Леви-Стросс, по крайней мере в области методологии, неизменно оставался незыблемым авторитетом, а чаяние итогового научного синтеза было своего рода символом веры. Важно, что и в целом философская антропология французского Просвещения и, прежде всего Руссо, была исключительно значима для Лотмана, всю жизнь изучавшего наследие этой эпохи. В то время как семиотика Гирца была заострена против структурализма, исследования тартусско-московской школы неизменно назывались структурно-семиотическими.
Подобно Руссо, Леви-Стросс ищет не людей, которые его вовсе не волнуют, — замечает рецензент, — но Человека, которым он всецело поглощен" (Там же, 356). Сам Гирц категорически отказывается от поиска универсалий, заменяя выявление глубинных структур "насыщенным описанием" ("thick description"). Понимая человека как "культурный артефакт" (Там же, 51), он в основном избегает генерализующих употреблений термина культура, предпочитая или использовать это слово во множественном числе, или предварять его артиклем. Каждая из исследуемых им культур обладает собственным антропологическим измерением.
По словам Гирца, последовательность не может быть мерой состоятельности культурного описания. Культурные системы должны обладать минимальной степенью последовательности, иначе бы мы не называли их системами, и, как показывает наблюдение, они обычно предлагают нам в этом отношении много больше минимума. Нет, однако, ничего более последовательного, чем бред параноика, или повествование мошенника. Сила нашей интерпретации не может основываться, как слишком часто полагают, на тщательности, с которой подогнаны друг к другу детали или на уверенности, с которой они выдвигаются
Там же, 17—18).
Подход этот, разумеется, чрезвычайно далек от сциентистского оптимизма тартуских и московских семиотиков, для которых Леви-Стросс, по крайней мере в области методологии, неизменно оставался незыблемым авторитетом, а чаяние итогового научного синтеза было своего рода символом веры. Важно, что и в целом философская антропология французского Просвещения и, прежде всего Руссо, была исключительно значима для Лотмана, всю жизнь изучавшего наследие этой эпохи. В то время как семиотика Гирца была заострена против структурализма, исследования тартусско-московской школы неизменно назывались структурно-семиотическими.
Впрочем, противопоставление двух семиотических теорий требует ряда более или менее существенных оговорок. Прежде всего, интеллектуальный континуум, заявленный словосочетанием "структурно-семиотический", все же в неявном виде включает в себя представление о двух полюсах метода. Эволюцию самого Лотмана от "Лекций по структуральной поэтике" до учения о семиосфере и увлечения философскими идеями И. Пригожина можно, несколько огрубляя, рассматривать как движение от одного полюса к другому. При этом идеологическое давление, постоянно оказывавшееся на школу, налагало существенные ограничения на возможности открытой внутрицеховой полемики, в частности на любую эксплицитную критику собственных взглядов предшествующего периода. Тем не менее, явные следы такого рода полемики можно увидеть во многих положениях позднего Лотмана, включая важный для него тезис о принципиальной несводимости сложных знаковых систем к констелляциям и развертываниям систем более низкого уровня.
В своем преодолении структурализма Гирц обращается к категориальному аппарату герменевтики — свой подход к культуре он сам называет то "семиотическим", то "интерпретативным". "Весь смысл семиотического подхода к культуре, — утверждает он, — <.> состоит в том, чтобы помочь нам приобрести доступ к категориям миропонимания изучаемых нами людей и сделать нас способными в широком смысле этого слова вести с ними разговор (converse)" (Там же, 24). В своей более поздней книге Гирц даже охарактеризовал термин "интерпретативный" как эвфемизм слова "герменевтический" (Гирц 1993, 21). Недаром работы Гирца нашли столь горячую поддержку у одного из столпов герменевтики Поля Рикера, увидевшего в гирцевском понимании идеологии развитие собственных взглядов, выраженных лучше, чем у него самого (Рикер 1984, 181). Для отечественных семиотиков во многом аналогичную роль играла лежащая в том же философском русле теория диалога М.М. Бахтина (см.: Иванов 1973; ср.: Гржибек 1995; Бетеа 1996 и др.).
Однако критика чрезмерных генерализаций и сциентистских утопий не приводит Гирца к отказу от самого принципа научности. Он настаивает на том, что концептуальная структура культурной интерпретации должна в той же мере подлежать эксплицитно формулируемым процедурам критической оценки, как параметры биологических наблюдений или физических экспериментов: "Меня никогда не впечатлял тот довод, что, поскольку полная объективность в таких вопросах невозможна (что, конечно, так и есть), можно позволить себе дать волю собственным пристрастиям. Как заметил Роберт Солоу, с тем же успехом можно утверждать, что, поскольку полностью асептическая среда недостижима, можно делать хирургические операции в сточной канаве", — пишет Гирц на последней странице своего теоретического введения в сборник (Гирц 1973, 30).
В целом понимание культуры, предложенное Гирцем, оказывается достаточно близким формулировкам и определениям, которые в изобилии рассыпаны на страницах тартуских сборников. Два центральных принципа интерпретативной теории состоят, по его собственным словам, в том, что, во-первых, культуру "лучше рассматривать не как комплекс конкретных поведенческих моделей: обычаев, традиций, сочетаний привычек, <.> а как набор механизмов контроля: планов, рецептов, правил, инструкций (того, что компьютерные инженеры называют программами) по управлению поведением. Во-вторых, человек является животным, полностью зависимым от таких экстрагенетических, нетелесных механизмов контроля, культурных программ, регламентирующих его поведение" (Там же, 44). Нет смысла приводить параллельные цитаты из Лотмана — они слишком многочисленны и хорошо известны.
Многие работы Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и других авторов того же круга связаны с анализом семиотических механизмов, организующих те или иные идеологические системы и регулирующих поведенческие стратегии их приверженцев. Иногда такой анализ выдвигался в качестве эксплицитной задачи (см. напр.: Лотман и Успенский 1993), чаще осуществлялся с помощью обходного терминологического инструментария. В то же время московско-тартуская школа в основном уклонялась от теоретического осмысления идеологии как системы культурных норм и регуляторов. Едва ли дело здесь только в факторах цензурного или автоцензурного характера. Само слово «идеология» в советских условиях столь безысходно принадлежало языку партийной пропаганды, что научная рефлексия над этой темой была, по-видимому, даже психологически затруднительной.
Западные исследователи, конечно, находились совсем в ином положении. И все же инерция философской традиции была и здесь достаточно мощной. Возможно, Гирцу удалось взорвать ее благодаря совершенно уникальному сочетанию его собственного исследовательского опыта и той культурно-политической реальности, которая побудила его обратиться к этой проблематике. 4
Именно выход в 1973 г. сборника "Интерпретация культур" принес автору широчайшую известность. Однако сама статья "Идеология как культурная система» была впервые напечатана девятью годами раньше, в 1964 г., и стала одним из самых ярких откликов на почти завершившийся к тому времени процесс деколонизации, образование шестидесяти шести (цифра принадлежит самому Гирцу) новых государств, вынужденных практически наново выстраивать системы своей национально-государственной самоидентификации.
Волна идеологического творчества, охватившего третий мир, по своему размаху едва ли не превзошла все, что видела Европа в аналогичные периоды своей истории — соответственно, после Великой французской революции и первой мировой войны. Антрополог, изучавший традиционные культуры в столь далеко отстоящих друг от друга странах, как Индонезия и Марокко, оказался в состоянии понять логику этой ферментации, увидеть в бурном расцвете идеологического мышления специфическую и неотъемлемую составляющую модернизационного процесса:
В сообществах, твердо стоящих на золотом фундаменте Эдмунда Берка «из древних мнений и жизненных правил», у идеологии роль маргинальная. В таких — подлинно традиционных — политических системах участники действуют (говоря еще одним выражением Берка) как люди с естественными чувствами, и в их суждениях и деятельности ими руководят, и эмоционально и интеллектуально, непроверенные предрассудки, избавляющие их "в решительную минуту от колебаний, скепсиса, недоумений, неуверенности". Но когда, как в революционной Франции, которую обличал Берк, или в зашатавшейся Англии, откуда он, величайший, наверное, идеолог своей нации, изрекал свои обличения, эти чтимые мнения и жизненные правила ставятся под сомнение, тогда-то — чтобы их либо оживить, либо чем-то заменить — людей и охватывает тоска по систематическим идеологическим формулировкам. <.> И действительно: впервые идеологии в собственном смысле слова возникают и завоевывают господство именно в тот момент, когда политическая система начинает освобождаться от непосредственной власти унаследованной традиции, от прямого и детального управления религиозных и философских канонов, с одной стороны, и от принимаемых на веру предписаний традиционного морализма с другой
Гирц 1998, 24—25).
Позиция включенного наблюдателя, присутствующего при радикальной мутации изучаемого объекта, в сочетании с опытом человека западной цивилизации, которая почти два столетия существует в условиях ожесточенной конкуренции различных идеологических моделей, помогла Гирцу предложить новое понимание генезиса идеологии и ее природы. Подходы историка культуры и полевого этнографа совпали, а идеология оказалась вписана в ряд других фундаментальных механизмов социокультурной интеграции. В том же сборнике, что и статья об идеологии, была помещена работа Гирца "Религия как культурная система". В другой его итоговый сборник "Местное знание" ("Local Knowledge", 1983) вошли статьи "Здравый смысл как культурная система" и "Искусство как культурная система".
В основе марксистского, неомарксистского, постмарксистского, как, впрочем, и антимарксистского, понимания идеологии лежит более или менее артикулированное со-противопоставление идеологического и научного мышления. Науке предписывается обосновывать (кажется, только в официальной советской философии) или разоблачать (почти всегда) претензии идеологии на право быть истолкователем прошлого, настоящего и будущего, сверять ее предпосылки и выводы с собственными данными, а также обнаруживать ее всюду, где она может скрыться, поскольку идеология имеет обыкновение выдавать себя за науку, искусство или здравый смысл. Гирц решительно разводит научный и идеологический тип интеллектуального творчества: "Идеолог точно также не является плохим социологом, как социолог — плохим идеологом. Наука и идеология работают — или, по крайней мере, должны работать — по совершенно разным направлениям, настолько разным, что оценивать деятельность одной по задачам другой — дело очень неблагодарное и сбивающее с толку" (Гирц 1998, 33).
Суть и специфика идеологии как одной из матриц, программирующих поведенческие стратегии, состоит, по Гирцу, в том, что она размечает для человеческих сообществ незнакомое культурное пространство Ее роль резко возрастает в условиях нестабильности, когда более архаичные ориентационные модели обнаруживают свою полную или частичную непригодность. "И образность языка идеологий и горячность, с какой, однажды принятые, они берутся под защиту, вызваны тем, что идеология пытается придать смысл непостижимым без нее социальным ситуациям, выстроить их так, чтобы внутри них стало возможно целесообразное действие" (Там же, 25).
Трактовка "образной природы" (''figurative nature") идеологического мышления, предложенная Гирцем, особенно важна. Разумеется, он был отнюдь не первым автором, обратившим внимание на перенасыщенность идеологических текстов и лозунгов разного рода тропами. Вообще говоря, не заметить этого совершенно невозможно. Даже марксизм, почти монополизировавший обсуждение проблем идеологии, по существу начался с упоминания о бродячем призраке. Тем не менее, фигуративная часть идеологических концепций обычно воспринимается исследователями как своего рода риторическое украшение, средство пропаганды, популяризации или обмана, как более или менее эффектная упаковка для доктрины.
Гирц полностью пересматривает этот подход. Для него троп и в первую очередь, метафора составляют самое ядро идеологического мышления, ибо в тропе идеология осуществляет ту символическую демаркацию социальной среды, которая позволяет коллективу и его членам обжить ее. 5
Мысль о метафорической природе идеологии связана с пересмотром восходящих еще к Аристотелю представлений о природе и назначении метафоры, который был начат в 1920-е гг. "Теорией символических форм" Э. Кассирера и приобрел особый размах в последние десятилетия. Если огрублять суть этого процесса, то он состоял в преодолении идеи производности метафорических значений по отношению к прямым, идеи, отводившей метафорическому словоупотреблению определенные языковые, жанровые и стилистические резервации. "На протяжении истории риторики метафора рассматривалась как нечто вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов; как нечто уместное лишь в некоторых случаях и требующее особого искусства и осторожности. Короче говоря, к метафоре относились как к украшению и безделушке, как к некоторому дополнительному механизму языка, но не как к его основной форме", — писал в 1950 г. влиятельный американский философ и лингвист А. Ричарде (1990, 45).
Новые теоретики видели в метафорическом смыслообразовании основу и когнитивного процесса, и практической деятельности человека. На первичности метафоры в языке настаивал в книге с характерным названием "Власть метафоры" П. Рикер (1977; ср.:
Лакофф и Джонсон 1980; Лакофф и Джонсон 1987; Лакофф и Джонсон 1990). Соответственно, метафора переставала быть достоянием по преимуществу поэтического языка, становясь неотъемлемым элементом как научного и правового дискурса, так и повседневной языковой практики. Тем не менее, утратив монополию на метафору, изящная словесность приобрела взамен привилегированный исследовательский статус, поскольку она является областью и метафоропорождения, и метафоронакопления par excellence и, следовательно, может служить идеальной лабораторией для изучения механизмов производства смыслов.
Гирц в своей статье лишь наметил это направление возможных исследований в области изучения идеологий, ссылаясь на книгу популярного в 60-е гг. теоретика литературы Кеннета Берка "Философия литературных форм". Однако вопрос о применимости поэтологических теорий для анализа идеологии — лишь одна из проблем, возникающих в этой связи. Не меньше перспектив сулит применение идей, выдвинутых Гирцем, к сакраментальной теме взаимоотношений идеологии и литературы.
Марксистская эстетика и литературоведение традиционно придавали этим взаимоотношениям решающее значение. Стоит привести четкое изложение позиций двух авторитетных представителей этой традиции в современной западной мысли, сделанное У. М. Тоддом III в недавней книге, посвященной связям русского романа второй четверти XIX в. с идеологией и институтами дворянского общества той поры:
В этих исследованиях идеология <.> включается в "опыт", в "здравый смысл", в понятие вкуса, а речь — во все акты, обладающие значением. Художественная литература перерабатывает идеологию, которая проникает в текст посредством языка, и, по Машери, перековывает ее в новую, неидеологизированную (но и не научную в марксистском понимании) форму посредством техники обособления, окарикатуривания и аллегории, а также проявляя в ней скрытые лакуны и противоречия. Иглтон, однако, оспаривает такое явное предпочтение литературной формы, потому что оно заставляет пренебрегать устойчивым единством идеологии и еще потому, что для Иглтона идеология не только мистифицирует или затемняет историю. По его определению, литературная форма — не уход от "позора чистой идеологии", а возведение идеологического во вторую степень; она делает для идеологии то, что идеология делает для истории (преподносит как бы данной от века, природной)
Тодд 1996, 20).
При всем различии двух изложенных концепций, идеология оказывается в них обеих преднайденной, в то время как литература может ее преодолевать, деформировать, натурализовать, воплощать, популяризировать и проч. Не подлежит сомнению, что такого рода отношения между идеологией и искусством встречаются нередко, и все же, если понимать идеологию как систему метафор, это будет лишь один из возможных вариантов.
Прежде всего, достаточно широко распространено и строго противоположное соотношение. Идеология в принципе может появляться на свет в стихотворениях и романах, а затем воплощаться в лозунгах или политических программах. Власть имущие, политические деятели, авторы программных текстов и формул — вообще все, кто составляет, по выражению Альтюссера, "идеологический аппарат" (Альтюссер 1971), тоже являются читателями или, говоря шире, потребителями текстов, способными проникаться и руководствоваться их нарративными и тропологическими моделями. Именно эта проблематика была с наибольшей полнотой и блеском разработана Ю.М. Лотманом и близким ему кругом ученых через анализ поэтики "литературного поведения". Конверсия идеологических конструкций, созданных изящной словесностью, в собственно идеологическую риторику, по крайней мере, не более сложная задача, чем трансформация идеологических клише в поэтическую речь.
По отношению к доктринам и деятелям, представляющим политическую оппозицию, такого рода подход не выглядит особенно неожиданным: формулировки типа "идеи декабризма родились под влиянием свободолюбивых произведений Грибоедова и Пушкина" знакомы нам со школьной скамьи. Аналогичная постановка вопроса по отношению к группировкам, в той или иной форме проводящим практическую политику все же будет сталкиваться с определенными трудностями. Политическое действие неминуемо наталкивается на сопротивление среды, деформирующей первоначальные идеологические установки, которые вынужденно подвергаются адаптации. Несколько огрубляя, можно сказать, что идеология будет тем "литературней", чем дальше выдвинувшее ее сообщество от реальных властных полномочий. Однако именно эта пропорция позволяет обнаружить еще некоторые измерения возможного взаимодействия между литературой и идеологическим арсеналом государственной власти.
Групповая или тем более государственная идеология может существовать в этом качестве, если вокруг ее базовых метафор существует хотя бы минимальный консенсус. При развитом аппарате полицейского и идеологического насилия его может вполне успешно заменять инсценировка консенсуса, но для наших рассуждений это не имеет существенного значения. Процедура выработки подобного консенсуса подразумевает безусловную переводимость фундаментальных метафорических конструкций с языка программных документов, указов и постановлений на язык конкретного политического действия, а также на язык официальных ритуалов и массовых празднеств, язык организации повседневного быта и пространственной среды и т.п. Как и любой перевод, он осуществляется не без смысловых потерь, но его принципиальная корректность подтверждается как непосредственной интуицией членов социума, так и специально создаваемыми институтами идеологического контроля.
Конечно, литература — лишь одна из возможных сфер производства идеологических метафор. Исторически эту роль с успехом играли также театр, архитектура, организация придворных, государственных и религиозных празднеств и ритуалов, церковное красноречие и многие другие области человеческой деятельности. В XX в. такую функцию чаще исполняют кино, реклама и различные жанры СМИ. В то же время в теоретическом плане ось «идеология — литература» особенно интересна, ибо обе они работают с идентичным материалом — письменным словом.
Поэтический язык может конструировать необходимые метафоры в наиболее чистом виде. Именно поэтому искусство, и в первую очередь литература, -приобретают возможность служить своего рода универсальным депозитарием идеологических смыслов и мерилом их практической реализованное™. В некотором смысле идеология обладает способностью конвертироваться в столь многие и столь разнообразные проявления социального бытия, потому что она располагает золотым стандартом, сохраненным в поэтическом языке.
Впрочем, идеологическое творчество, действительно, представляет собой процесс коллективный, хотя и, вопреки устойчивым марксистским штампам, отнюдь не т анонимный3. Не так важно, кто именно — писатель, философ, церковный проповедник, политик, журналист, историк, а может быть, архитектор или церемонимейстер — начинает его. Конкретный расклад ролей здесь может быть совершенно различным. Существенно, что в ходе оформления идеологических конструкций их различные версии подгоняются друг под друга, проходят через фильтры взаимных дополнений, искажений и истолкований. И если практическая политика проверяет поэзию на осуществимость, то поэзия политику -— на емкость и выразительность соответствующих метафор.
3 Ср. формулу Л. Альтюссера: "Человеческие общества выделяют [secrete] идеологию, как элемент или атмосферу, необходимую для их дыхания и существования» (Альтюссер 1969, 232).
Заключение научной работыдиссертация на тему "Русская литература последней трети XVIII - начала XIX века и становление государственной идеологии"
Заключение.
Первоначально заключение Священного союза с его идеалом христианского братства народов было с огромным подъемом воспринято сторонниками освобождения Греции, увидевшим в новом договоре один из шагов к реализации греческого проекта (Эдлинг 1999, 203 - 204, 215 -216). Однако с началом войны греков за освобождение мифология всемирного заговора, заложенная в основание идеологической конструкции Священного союза, вступила в непримиримое противоречие с этими чаяниями.
Получив известие о восстании Ипсиланти, Александр 24 февраля 1821 года, когда практически вся Россия требовала от него вмешательства в турецко-греческий конфликт, писал из Лайбаха А.Н. Голицыну: "Нет никаких сомнений, что побуждение к этому возмущению было дано тем же самым центральным распорядительным комитетом ("comité central directeur") из Парижа с намерением устроить диверсию в пользу Неаполя (там в это время происходила революция - А.З.) и помешать нам разрушить одну из этих синагог Сатаны, устроенную с единственной целью проповедовать и распространять свое антихристианское учение. Ипсиланти сам пишет в письме, обращенном ко мне, что принадлежит к секретному обществу, основанному для освобождения и возрождения Греции. Но все эти тайные общества примыкают к парижскому центральному комитету. Революция в Пьемонте имеет ту же цель - устроить еще один очаг, чтобы проповедовать ту же доктрину и парализовать воздействие христианских начал, исповедуемых Священным Союзом" (Николай Михайлович I, 558).
Десятью днями ранее он, ссылаясь на "надежные доказательства", находящиеся в его распоряжении, убеждал того же адресата, что существует общая конспирация" "революционных либералов, радикальных уравнителей и карбонариев", которые "сообщаются и согласуются друг с другом", и конспирация эта основана "на так называемой философии Вольтера и ему подобных" (Там же, 546). Много поздней такой ярый сторонник греческой независимости и вмешательства России в греческие дела, как А.С. Стурдза, писал, что июльская революция 1830 года во Франции подтвердила правоту императора. (См.: Стурдза 1864, 98 - 99).
Логическим итогом нарастания такого рода настроений стало безусловное запрещение в 1822 году каких бы то ни было тайных обществ и, прежде всего, разумеется, масонских лож, в которых император увидел одно из возможных проявлений этой общей конспирации. Однако к 1824 году иссякают и надежды императора на своих европейских союзников и его упования на то, что братство христианских государей окажется способно противостоять мировому злу. Отставка А. Н. Голицына,фактическая приостановка деятельности Библейского общества, приближение Фотия и повторное возвышение Шишкова свидетельствовали о полной смене идеологических ориентиров (См.: Пыпин 2000). При этом контуры нового курса так и не успели определиться из-за внезапной смерти императора.
Таким образом, последовательный отказ Александра от идеологии национально -культурного изоляционизма в 1814 году, от греческого проекта в 1821 и от мессианской утопии Священного союза в 1824 создал для нового николаевского царствования ситуацию идеологического вакуума.
Между тем начало 1830-х гг. стало временем перелома во внешней и внутренней политике Российской империи. Адрианопольский мир с Турцией 1829г. положил конец, по крайней мере на длительное время, стремлению России к доминированию на православном востоке и к объединению единоверных народов под своей эгидой. При этом, если Николай Павлович как и его старший брат, уже давно отказался от грандиозных замыслов своей бабки (см. например., Линкольн 1989, 118; Арш 1976, 236 -238 и др.), то образованное русское общество еще жило сознанием предначертанной России исторической миссии восстановления Греции. Оно восприняло объявление войны Турции Николаем I как возобновление великой битвы за Константинополь (см.: Проусис 1994, Фадеев 1958). Теперь же, если славянский вопрос еще оставался в повестке дня, хотя и перешел на время из сферы реальной политики в область умозрительных прожектов, то греческий был закрыт окончательно. Новая независимая Греция бесповоротно выпала, особенно после убийства в 1831г. И.Каподистриа, первого греческого президента и бывшего статс-секретаря Российской империи, из сферы российского влияния.
В то время на востоке русское самодержавие окончательно отказалось от экспансионистских планов, то на западе ему пришлось также отказаться (до 1848 года) от агрессивного отстаивания своего политического кредо и вооруженной защиты существующих монархических режимов. Польское восстание вынудило Николая полностью отвергнуть какие бы то ни было намерения вмешаться в европейские события и признать новый статус-кво.
Тем самым была идеологически дезавуирована, по крайней мере до 1848 года, интервенционистская часть наследия Священного Союза. В повой европейской системе, сложившейся после событий июля 1830 года, русская политика становится более оборонительной, рассчитанной скорее на противодействие распространению в России чуждых влияний, чем на утверждение собственных принципов за пределами империи. Вместе с тем этот умеренный изоляционизм, взявший верх во внешней политике Николая I, отнюдь не был связан с намерением сосредоточиться на проведении давно ожидавшихся внутренних реформ. Напротив, под воздействием все того же комплекса исторических событий: июльской революции во Франции, польского восстания, холерных бунтов лета 1831 года, - император отбрасывает преобразовательные планы своего первого пятилетия, когда он "оживил" Россию "войной, надеждами, трудами". Даже в высшей степени осторожные предложения "Комиссии 6 декабря", как раз завершившей свою работу, оказываются, по сути дела, похоронены, (см.: Линколн 1989, 92-98, Кизеветгер 1912,419-502).
Существенно, однако, что отказ от проведения реформ отнюдь не означал, что император разуверился в их необходимости. Именно в начале тридцатых годов николаевская политика приобретает тот свой классический облик, сущность которого самодержец афористически выразил в 1842 году, когда, тормозя еще один проект весьма осторожных реформ, заявил: "Нет сомнения, крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ошутительпейшее и очевидное, по прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным" (Мироиенко 1990, 187). Формула эта обладает, разумеется, неограниченной продуктивностью и может быть приложена ко многим сторонам государственного быта России: очевидное политическое зло не может быть исправлено из опасения потрясти самые основы существования державы. Николай предпочел довериться рекомендациям своего старшего брата цесаревича Константина Павловича, писавшего ему, что "древность есть надежнейшая ограда государственных уставов", и советовавшего отдать преобразования "на суд времени" (СбРИО, ХС, 77).
Необходимые перемены отодвигались в неопределенное будущее, но их надежность и основательность обеспечивались самим ходом вещей. Тем самым ответственность за преобразования как бы перекладывалась с власти на движение истории, а на долю правительства оставалась чисто консервативная функция поддержания необходимой устойчивости государственного здания и сохранения фундаментальных основ политического порядка. Осуществляя такой стратегический поворот в политике, император должен был ощущать потребность в идеологической системе, которая предлагала бы ему довериться постепенному и, так сказать, органическому развитию, происходящему исподволь, но под контролем правительства. Именно такой системой стала доктрина «православия - самодержавия - народности», впервые сформулированная в 1832 году С.С. Уваровым. Удачно названная А.Н. Пыпиным "теорией официальной народности" (Пыпин 1890, 380), эта доктрина на протяжении долгих десятилетий оставалась государственной идеологией Российской империи.
Надо сказать, что круг источников, на основании которых обычно реконструируется содержание триады, в достаточной мере ограничен. Приняв на вооружение ту или иную идеологическую доктрину, любая государственная власть обычно довольно скупо разъясняет ее содержание, предпочитая истолкованиям многочисленные определения тавтологического характера. Такая стратегия оставляет власти достаточную свободу маневра, позволяет ей, не связывая себя чрезмерно жесткими рамками, сохранить за собой полный контроль в решении вопроса, насколько те или иные проявления общественной жизни укладываются в задашшые параметры. Кроме того, в отличие от оппозиции власть как бы и не нуждается в подробной теоретической экспликации своих принципов, поскольку имеет возможность, по крайней мере в идеале, реализовать их в практической политике.
Соответственно, применительно к идеологии "самодержавия-православия-народности" наибольшей объяснительной силой должен был бы обладать документ, предшествующий ее высочайшей апробации, где ее создатель еще стоял бы перед необходимостью защищать и отстаивать свои взгляды. Поэтому в основе нашего анализа лежит меморандум, наравленный Уваровым Николаю I в марте 1832 года. Его текст был опубликовнан нами по черновику, хранящемуся в архиве Уварова в отделе письменных источником Государственного исторического музея (см.: Уваров 1997).1
Это самое раннее из всех известных упоминаний о триаде. Незадолго до этого Уваров был назначен товарищем министра Народного просвещения и получил поручение проинспектировать Московский университет. Учитывая преклонный возраст и слабое здоровье министра, графа Ливена, такое поручение безусловно свидетельствовало о высочайшем намерении передать Уварову, в случае успешного
1 Ср. также опубикованный М.М. Шевченко доклад, поданный императору полутора годами позже (Уваров 1995). выполнения возложенной на него миссии, министерское кресло (см.: Рождественский 1902, 170-223).
О таком одобрении говорит не только судьба самой триады. Некоторые, в том числе наиболее ответственные фрагменты текста Уваров позднее дословно или почти дословно повторил через десять лет - в отчете "Десятилетие Министерства народного просвещения.". Соображения, высказанные в письме государю, приобрели статус официальной государственной доктрины - очевидно, что Уваров верно понял сокровенные чаяния императора и тонко уловил текущие потребности государственной политики.
Уваров, как он писал позднее, рассчитывал бороться "против влияния так называемых Европейских идей (курсивы здесь и далее принадлежат цитируемым авторам - А.З.)" не с помощью репрессий, но, внушая юношеству "наклонность к другим понятиям, к другим занятиям и началам, умножая, где только можно, число умственных плотин" (Уваров 1867, 517), которые бы направили энергию умов молодого поколения в русло, нужное правительству. В меморандуме он обосновывает свои надежды на осуществимость подобных намерений тем, что религиозные, политические и нравственные идеалы, распространения которых желает верховная власть, и сами по себе еще сохранили силу в России, хотя они "на протяжении тридцати лет принуждены были противостоять людям и событиям." (Уваров 1997, 95. Дальнейшие цитаты по этому изданию приводятся без ссылок).
Уваровская хронология в высшей степени примечательна. Упоминание о тридцати годах в 1832г. недвусмысленно отсылало к первым годам александровского царствования, которое таким образом отвергалось от начала и до конца - со всеми его надеждами, разочарованиями, победами, неудачами и преобразовательными попытками, в которых, кстати говоря, сам Уваров принял посильное участие. Для характеристики политического стиля Александра I и его приближенных Уваров находит формулу "административный сен-симонизм", поистине достойную того, чтобы войти в учебники.
Это определение указывает не столько на проективный размах нововведений александровской эпохи - по этой части одобренные Николаем замыслы самого Уварова могли бы затмить любое начинание предшествующего царствования - сколько на их утопический азарт, тот кабинетный активизм, который основывается на убежденности, что любая проблема жизни государства поддается решению с помощью отвлеченных схем, бумажных проектов и бюрократических мероприятий. С этой точки зрения аракчеевские военные поселения действительно мало чем отличались от фаланстеров Сен-Симона.
Связывая отвергаемый им стиль государственной политики и тип государственного деятеля с именем прославленного утописта, одного из последних наследников теоретического рационализма ХУШ века, Уваров как бы дает попять, что сам он намерен следовать совершенно иной интеллектуальной традиции.
На связь уваровской триады с политической теорией немецкого романтизма впервые обратил внимание еще более семидесяти лет тому назад Г. Шпет, указавший в самой общей форме на зависимость Уварова от идей романтиков и сопоставивший их, в достаточной степени наугад, с "государственным учением" немецкого историка Х.Лудена (Шпет 1989, 245-246; ср.: Луден 1811). В кругу источников уваровской доктрины, охватывающем широкий спектр европейской антиреволюционной философии, от Жозефа де Местра до Берка и Карамзина, политическое учение немецких романтиков играет безусловно ведущую роль.
По-видимому, основным источником, по которому Уваров знакомился с этим учением, были книги и лекции Фридриха Шлегеля. Уваров находился в одно время со Шлегелем в Вене. Там он познакомился с его братом Августом Шлегелем, сопровождавшим мадам де Сталь и выполнявшим роль основного консультанта ее книги "О Германии".2
Уваров находился в Вене с 1807 до середины 1809 года. Шлсгель приехал туда в июне 1808. Между тем вторая половина 1808 - начало 1809 годов были в истории Австрии совершенно особым временем. Атмосфера этих месяцев всецело определялась ожиданием неминуемого военного столкновения с Наполеоном. Надо сказать, что антинаполеоновская коалиция, сложившаяся в ту пору в Вене, причудливо объединяла едва ли не противоложные силы - осколки французского Ancien Régime, аристократическую эмиграцию и молодых немецких националистов. Впоследствии Уваров сам писал о том, что "этот крестовый поход объединил все незвисимые салоны и все народы, не втянутые в орбиту Великого капитана" и что тогдашних союзников не объединял "никакой общий символ веры, кроме свержения имперской тирании" (Уваров 1846, 96-97). пятнадцатью годами позже, в 1823 году, Авг. Шлегель писал Уварову, ставшему к тому времени президентом императорской академии наук: "Ваше превосходительство соблаговолили некогда ободрить мои ученые опыты вниманием, которым вы удостоили их в Вене, когда я имел честь пользоваться Вашим знакомством" (ОПИ ГИМ, ф. 17, on. 1, е.х. 86, л. 293).
Шлегель по самому складу выработанной им к тому времени философской системы был естественным лидером этого странного альянса. Вызванный в Вену лидером военной партии при автрийском дворе графом Стадионом, он с началом военных действий получил должность Придворного секретаря и был прикомандирован к штабу армии, где издавал газету "Österreichische Zeitung" и писал прокламации, в которых убеждал всех немцев, что Австрия ведет войну за немецкое дело и только благодаря Австрии Германия может обрести независимость и свободу (см.: Лэнгсам 1936, 40-64).
В основе политических взглядов Шлегеля тех лет лежала концепция народа как целостной личности, единство которой основано на кровном родстве и закреплено общностью обычаев и языка. Эта собирательная личность и должна была в идеале образовывать государство (см.: Шлегель 1846, 357 -358).
Совершенно очевидна зависимость этих идей от философии Гердера, с одной стороны, и Руссо и идеологов французской революции, - с другой. Однако, в отличие от Гердера, Шлегель переносит акцент в понимании "народа" с культурно-духовных факторов на политические. Напротив того, от французских мыслителей Шлегель отличается тем, что видит в Nation не участников общественного договора, но продукт органического развития. Соответственно и государство он понимает естественно-исторически, как непосредственное выражение народной истории. Своего рода идеал национального государства Шлегель видел в средневековой сословной монархии, где единство народного организма обеспечивалось его разделением на корпорации. Соответственно, национальное возрождение и объединение Германии должно было, по его мнению, происходить вокруг Австрии, в наибольшей степени сохранившей средневековые государственные институты: древнюю аристократию, династию Габсбургов и католическую церковь.
Уникальность позиции Шлегеля определялась тем, что в ту пору идея национального государства была отчетливым достоянием либеральной мысли, которой она служила своего рода боевым лозунгом для разрушения или более или менее глубокого реформирования сословно-династических режимов, господствующих в Европе. Понимание нации как основы государственного строительства помогало выдвигать требования стирания сословных перегородок, оформления институтов народного представительства и т.п. Один из самых заметных реформаторов тех лет, выдающийся прусский государственный деятель барон Штейн в конце 1812 года писал:
В это мгновение великих изменений мне совершенно безразличны все династии. Мое желание состоит в том, чтобы Германия стала великой и сильной и вновь обрела свою самостоятельность, независимость и народность (Nationalität)" (Штейн 1961, 818).
Дальнейший ход европейской истории, революции и потрясения конца 1810-х -1820-х годов, интервенции Священного Союза свидетельствовали, что принципы легитимизма и народности вступают между собой во все более непримиримый конфликт. Революции 1830 года во Франции и Бельгии окончательно заставили сторонников старого порядка занять глухую оборону. В этой ситуации единственной надеждой сторонников исторического компромисса оставалась Россия.
В известном смысле Россия могла показаться даже более подходящим местом для реализации национально-имперской утопии, чем Германия. Она уже обладала государственным единством, к тому же центр господствующей церкви находился внутри империи, что избавляло приверженца идеи национальной религии от затруднений, с которыми встретился Шлегель. Правда, идея народности еще не получила в России своего определения и развития, но именно это обстоятельство и надлежало исправить с помощью налаживаемой системы образования.
Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности" (ЖМПП 1834, I, IL ), - писал Уваров в циркуляре, разосланном по учебным округам 21 марта 1833 года в связи со своим вступлением в должность. Православие, естественно, открывает этот перечень. В своем меморандуме на высочайшее имя он так же неизбежно начинает характеристику своей триады с разговора о ее религиозной составляющей: "Без народной религии народ как и частный человек обречены на гибель, лишить его своей веры - это значит исторгнуть его сердце, его кровь, его внутренности, это значит поместить его на низшую ступень нравственного и физического порядка, это значит его предать. Даже народная гордость восстает против подобной мысли, человек, преданный своему отечеству столь же мало согласится на утрату одного из догматов господствующей церкви, сколько и на похищение одного перла из венца Мопомаха."
Этот пассаж, видимо, показался Уварову настолько удачным, что oft почти без изменений включил его через одиннадцать лет в отчет о деятельности Министерства под его руководством (Уваров 1864, 32). Но самые сильные выражения, употребленные здесь автором, в сущности, не могут скрыть его очевидного конфессионального индефферентизма. Не смотря на всю свою риторическую эмфазу, Уваров заведомо не упоминает о божественной природе православия. Оно значимо для него не в силу своей истинности, но в силу своей традиционности. В высшей степени характерное сравнение с "венцом Мономаха" ясно свидетельствует о, возможно полуподсознательном, стремлении легитимировать церковь через символику государственной власти и народной истории.
Обращение к французскому подлиннику дает еще более выразительную картину. Дело в том, что православие здесь вообще ни разу не упомянуто. Французский язык предоставлял в распоряжение автора по меньшей мере три способа обозначить свою религию и свою церковь: orthodoxie (православие), église grecque (греческая церковь), chrétiennité orientale (восточное христианство). Между тем Уваров устойчиво выбирает формулы: Religion national (национальная религия) и église dominante (господствующая церковь). Именно словосочетание "национальная религия" появляется при самом перечислении триады. Более или менее ясно, что Уварову безразлично, о какой именно вере и какой церкви идет речь, если они укоренены в истории народа и политической структуре государства.
Едва ли, однако, стоит предполагать, что православию как религиозному принципу отводилась в рамках триады функциональная роль, поскольку оно было подчинено принципу государственному - самодержавию. 11а самом деле и самодержавие здесь толкуется в значительной степени сходным образом.
Еще в 1814 году в брошюре "Александр и Бонапарт" Уваров выражал несбывшуюся надежду на то, что на могиле Наполеона короли и народы совершат "взаимное пожертвование самодержавием и народной анархией" (Уваров 1814, 14). В 1818 году в своей знаменитой речи в торжественном собрании петербургского педагогического института, вызвавшей значительный общественный резонанс (см.: Пугачев 1967, 43 - 44), он назвал политическую свободу "последним и прекраснейшим даром Бога" (Уваров 1818, 41). Но все эти высказывания были сделаны в пору уваровского либерализма. Желчный Греч даже написал, что за эту речь Уваров "впоследствии сам себя посадил бы в крепость" (Греч 1930, 365). Однако и теперь в совсем иную эпоху уваровская апология самодержавия отдает характерной неуверенностью:
Мощь самодержавной власти представляет необходимое условие существования Империи в ее настоящем виде. Пусть политические мечтатели (я не говорю о заклятых врагах порядка), сбитые с толку ложными понятиями, выдумывают себе идеальное положение вещей, поражаются видимости, воспламеняются от теорий, одушевляются словами, мы можем им ответить, что они не знают страны, заблуждаются относительно ее положения, ее нужд, ее желаний <.> Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены" (Ср.: Уваров " 1995,71).
В этом письме Уваров не просто обращался на высочайшее имя. Он писал монарху, глубоко верившему в свое Божье помазание. И все же он ни слова не говорит ни о провиденциальной природе русского самодержавия, ни о его безотносительных достоинствах. Самодержавие, по Уварову, лишь "необходимое условие существования Империи" да еще именно "в ее настоящем виде" - формула, по крайней мере не исключающая возможности того, что когда-нибудь в будущем самодержавный монарх уже не будет необходим России. Императорская власть легитимирована здесь не божественной санкцией, но "положением", "нуждами" и "желаниями" страны, то есть представляет собой по преимуществу "русскую власть", так же как и православие интерпретируется, прежде всего как русская вера. Тем самым два первых члена триады выступают в качестве своего рода атрибутов национального бытия и национальной истории и оказываются укоренены в третьем - пресловутой народности.
Если самодержавие является по Уварову "консервативным принципом", то народность не предполагает ни "движения назад", ни "неподвижности"', "государственный состав может и должен развиваться подобно человеческому телу" и именно принцип народности обеспечивает непрерывность этого развития, позволяя в то же время сохранить в неизменности "главные черты", присущие национальной личности. Ответственность же за поддержание и распространение этого принципа лежит на правительстве и "в особенности" на созданной им системе народного образования.
Такого рода органицистские метафоры были нащупаны Уваровым еще в речи 1818 года: "Теория правительства в сем случае походит на теорию воспитания. Не то достойно похвалы, которому удалось увековечить младенчество физическое или моральное, то премудро, которое смягчило переходы от одного возраста к другому и, повинуясь закону необходимости возрастало и зрело вместе с народом или с человеком" (Уваров 1818, 52). Теперь он попытался наполнить эту схему конкретным содержанием.
Развитие русской народности неминуемо должно было придать в более или менее отдаленном будущем нужные формы государственным ииститутам, а соответствующие правительственные органы и, прежде всего, Министерство народного просвещения под бдительным руководством новоназначенного министра должны были осуществлять контроль за правильностью направления этой эволюции.
Надо сказать, что Уваров вполне отдавал себе отчет в тех сложностях, с которыми связано введение столь современной и обоюдоострой категории, как народность, в основу государственной идеологии империи. Свидетель национальных революций в Европе, он признавал, что исторически принципы самодержавия и народности могли противоречить друг другу, но полагал, что "каковы бы пи были столкновения (altercations), которые им довелось пережить, оба они живут общей жизнью и могут еще вступить в союз и победить вместе". В своем меморандуме он предпрнял попытку наметить для России стратегию этой будущей победы.
Чтобы точнее понять суть уваровского подхода и самой категории народности, и к проблеме русской национальной самобытности, полезно еще раз напомнить определение, которое давал нации Ф.Шлегель именно в ту пору, когда под его непосредственным влиянием складывались основы политической концепции Уварова. В "Философских лекциях 1804 - 1806" годов, книге, дающей наиболее полное и развернутое изложение системы взглядов Шлегеля тех лет, говорится: "Понятие нации подразумевает, что все ее члены составляют единую личность. Чтобы это стало возможным, все они должны иметь общее происхождение. Чем древнее, чище и менее смешана с другими раса, тем больше будет у нее общих обычаев. А чем больше таких обычаев и чем больше приверженности к ним она проявляет, тем в большей степени из этой расы образуется нация. В этой связи величайшую важность имеет язык, ибо он служит безусловным доказательством общего происхождения и скрепляет нацию самыми живыми и естественными узами. Наряду с общностью обычаев, язык является сильнейшей и надежнейшей гарантией того, что нация проживет многие века в нерушимом единстве." (Шлегель 1846, 357 -358).
Существенно, что Шлегель разделяет этнос ("расу") как естественную общность и "нацию", возникающую на основе этноса как образование политическое. Нет необходимости пояснять, что постулируемое им единство немецкой нации должно было лежать в основании идеальной Германской империи будущего. Единственная попытка приступить к практическим шагам по воздвижению такой империи, вдохновленная
Шлегелем в в 1809г., окончилась сокрушительным поражением (см. анализ политической философии Ф.Шлегеля в Майиеке 1970).
Совершенно понятно, что Российская империя находилась в качественно иной ситуации. Прежде всего, она была не плодом воображения романтического философа, но политической реальностью, включавшей в себя многочисленные этнические и религиозные меньшинства. В отчете о десятилетии своей деятельности Уваров специально пишет о политике, которую необходимо проводить по отношению к различным инородческим и иноверческим группам (см.: Уваров 1864, 35 - 70; анализ политики Уварова по отношению к полякам, балтийским немцам, евреям и народам Востока России см.: Виттекер 1999, 215 - 240). Однако национальными и конфессиональными проблемами дело не ограничивалось. Категория народности в ее традиционном романтическом понимании не могла быть применена и к собственно великоросской части империи.
Дело в том, что социальная и культурная грань, разделявшая высшее и низшее сословие, была по существу непреодолимой. Говорить о существовании между, скажем, дворянством и крестьянством каких бы то ни было общих обычаев очевидным образом не приходилось. С языком дело обстояло не более благополучно - достаточно сказать, что сам документ, утверждавший народность в качестве краеугольного камня русской государственности, был написан по-фраицузски. Что до происхождения, то подавляющая часть древнего русского дворянства возводила свои генеалогии к германским, литовским или татарским родам. Разумеется, в такого рода генеалогических амбициях нет решительно ничего необычного - в традиционных обществах элита часто настаивает на своем иноземном происхождении, чтобы мотивировать иной, сравнительно с большинством, образ жизни. Так, например, во Франции идеолог дворянских привилегий А. де Буланвийе настивал на германском происхождении французской аристократии, а его радикальный третьесословный оппонент аббат Сийес предлагал аристократам на этом основании убираться в тевтонские леса (см.: Гринфельд 1992,170- 172).
Однако повсеместно идеи национального единства были направлены на подрыв сословных перегородок, разрывающих целостность народного организма. В конечном счете речь шла о трансформации традиционных имперских структур в институты национального государства. Именно в этом ключе понимали народность в декабристских и околодекабристских кругах во второй половине 1810-х - начале 1820-х годов и в славянофильской среде в 1830-е - 1850-е годы вплоть до эпохи великих реформ. (См.: Сыроечковский 1954; Егоров 1991; Цимбаев 1986). Однако Уваров выдвигает тот же лозунг, чтобы на неопределенное время законсервировать существующее положение вещей. Понятно, что подобная перемена задачи требовала глубокого переосмысления самой категории народности. В меморандуме такое переосмысление осуществлено с незаурядной изобретательностью и даже своебразным изяществом.
Не имея возможности основать свое понимание народности на объективных факторах, Уваров решительно смещает центр тяжести на субъективные. Его аргументация полностью основана на сфере исторических эмоций и национальной психологии. "Она (Россия - А.З.) еще храпит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные - единственный залог ее блаженства, останки своей народности, драгоценные и последние гарантии своей политической будущности". По словам автора меморандума, "несколько лет специальных занятий" (исходя из известных фактов биографии Уварова, трудно сказать, в чем именно эти занятия заключались) позволяют ему "утверждать, что три великих рычага религии, самодержавия и народности составляют еще заветное достояние нашего отечества." Тем самым в основе народности оказываются убеждения. Проще говоря, русский человек -это тот, кто верит в свою церковь и своего государя.
Определив православие и самодержавие через народность, Уваров теперь определяет народность через православие и самодержавие. Действительно, если русским может быть только член господствующей церкви ("национальной религии"), то исключенными из народного тела оказываются старообрядцы и сектанты в низших слоях общества и обращенные католики, деисты и скептики - в высших. Точно так же, если народность необходимо предполагает приверженность самодержавию, любым конституционалистам и паче того республиканцам автоматически отказывается в праве быть русскими. Более того, по сути дела, за властью остается право определять, какие именно институты национальной жизни будут вменены подданным империи в качестве предметов для обязательного почитания.
Характеризуя кризис, охвативший, по его мнению, Европу после июльской революции, Уваров спешит оговориться, что Россия пока избегла подобного упадка. Но самый оборот: "n'a pas arrivée à ce point de dégradation" (дословно: "не прибыла к тому же пункту упадка") свидетельстует, что он прозревал для нее аналогичное направление движения. Исполнено пессимизма и ощущения хрупкости государственного бытия России и уже приводившееся здесь предположение Уварова, что в условиях преобразований империя не способна будет продержаться и двух недель. Создается ощущение, что, считая европейский путь развития гибельным для страны, Уваров попросту не видел другого. В конце 1810-х годах он полагал, что спасти Россию от "европейской заразы" должно изучение Востока. Теперь он предлагает воздвигать "умственные плотины", способные изменить естественное течение мысли, из штудий в области русской истории. Примерно через восемь меяцев после написания меморандума в отчете о ревизии Московского университета Уваров сумел выдвинуть, по существу только одно предложение позитивного характера - "внушить молодым людям охоту ближе заниматься историей отечественной, обратив<;больше внимания на узнание нашей народности во всех ея различных видах <.> Не подлежит сомнению, - развивал он свою мысль, - что таковое направление к трудам, постоянным, основательным, безвредным, служило бы некоторою опорою против влияния так называемых Европейских идей" (Уваров 1867,517).
История оказывается единственным вместилищем народности и последней альтернативой европеизации. Прошлое в некотором смысле было призвано заменить для империи опасное и неопределенное будущее. Однако, и в этом была заключена интеллектуальная драма русского государственного национализма, сама категория "национальности" или "народности" была выработана западноевропейской общественной мыслью (nationalité, Volkstum) для легитимации нового социального ■I порядка, шедшего на смену традиционным конфессионально - династическим принципам государственного устройства. Историческая значимость уваровской триады состояла в том, что краеугольными камнями русской народности объявлялись именно те институты, которые народность призвана была разрушить - господствуящая церковь и имперский абсолютизм. Выполняя политический заказ российской монархии, Уваров попытался совместить требования времени и консервацию существующего порядка, но его европейское воспитание оказалось сильней усвоенного традиционализма, и народность подчинила себе и православие, и самодержавие, превратив их в этнографически-орнаментальный элемент национальной истории.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: АГС — Архив государственного совета ВПР — Внешняя политика России ИВ — Исторический вестник
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения НЛО — Новое литературное обозрение
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи РА — Русский архив
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы РАН
Пушкинского дома) PC — Русская старина
СбРИО — Сборник императорского русского исторического общества СКРК — Сводный каталог русской книги гражданской печати
ЧОИДР — Чтения в императорском обществе истории и древностей российских
SGECRN — Study Group on Eighteenth Century Russia Newsletter. SEER — Slavonic and East European Review
Список научной литературыЗорин, Андрей Леонидович, диссертация по теме "Русская литература"
1. Аверинцев 1980 — Аверинцев С.С. Волхвы // Мифы народов мира: Энциклопедия.
2. Альтшуллер 1975 — Альтшуллер М.Г. Крылов в литературных объединениях 1800—1810-х годов // И.А. Крылов: Проблемы творчества. J1., 1975.
3. Альтшуллер 1984 — Альтшуллер М. Предтечи славянофильства в русской литературе. (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor,1984.
4. Альтюссер 1969 — Althusser L. For Marx. Hammondsworth, 1969.
5. Альтюссер 1971 — Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses // Althusser L. Lenin and Philosophy. London, 1971.
6. Андерсон 1989 — Anderson M.S. The Rise of Modern Diplomacy. 1450—1919. London, 1989.
7. Андреев 1869 — Андреев В. Приглашение Ж.-Ж.Руссо графом Орловым в Россию //РА. 1869. №3.
8. Арзамас I — Арзамас. Сб.: В 2 кн. Кн.1 / Под общей ред. В.Э. Вацуро и A.J1. Осповата. М.,1994.
9. Арндт 1814 — Арндт И.-М. Краткая и справедливая повесть о пагубных Наполеона Бонапарта помыслах. СПб., 1814.
10. Арнет 1869 — Arned А. von. Joseph II und Katarina von Russland. Ihr Briefwechsel. Wien, 1869.
11. Арнет III — Arned A. von. Maria Theresia und Joseph II. Bd. III. Wien, 1868.
12. Арно 1992 — Arnaud C. Cham fori. A biography. Chicago; London, 1992.
13. Арш 1976 — Арш Г.Jl. И.Каподистриа и греческое национально-освободительное движение 1809—1822 гг. М.,1976.
14. Баадер 1987 — Baader F. X. Über das die französischen Revolution herbeigefilrte Bedürfnis einer neuen und innigeren Verbindung der Religion mit der Politik // Baader F. X. von. Sämtliche Werke. Bd. VI. Aalen, 1987.
15. Бакунина 1885 — Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной // PC. 1885. №9.
16. Бакунина 1967 — Bakounine Т. Repertoire bibliographique des franc-macons russes (XVIII et XIX siecles). Paris,1967.
17. Баррюэль I-IV — Barruel A. Memoires pour servir a I'Histoire du Jacobinisme. T.I-IV. Londres, 1797-1798.
18. Баррюэль 1806/1808 I-VI — Баррюэль О. Записки о якобинцах, открывающие все противухристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы. T.I-VI. М., 1806-1808.
19. Баррюэль 1805/1809 I-XII — Баррюэль О. Волтерианцы, или История о якобинцах.
20. I-XII. М„ 1805-1809. Барсков 1915 — Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. 1780— 1792. Пг., 1915.
21. Барсуков 1873 — Барсуков А. Князь Григорий Григорьевич Орлов. (1734—1783) // РА. 1873. Кн. I.
22. Бартенев 1886 — Рассказы князя А.Н.Голицына, записанные Ю.Н.Бартеневым // РА. 1886. Кн.2.
23. Бартон 1969 — Barton P.F. I.A. Fessier: vom Barockkatolizismus zur
24. Erweckungsbewegung. Wien, 1969. Баталден 1982 — Batalden S.-K. Catherine II's Greek prelate: Eugenious Voulgaris in
25. Bertier de Sauvigny. Paris, 1972. Берштейн 1992 — Bershtein E. The Solemn Ode in the Age of Catherine: Its poetics and Social Function // Poetics of the Text. Essays to Celebrate Twenty Years of the Neo-Formalist Circle. Amsterdam; Atlatnta,1992.
26. Бестужев-Рюмин 1859 — Бестужев-Рюмин А.Д. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году / Сообщ. В. Чарыковым // ЧОИДР. 1859. Кн.II. Отд.У.
27. Лиро-эпическое песнотворение. Николаев, 1798. Бобров 1806 — Бобров С.С. Патриоты и герои везде, всегда и во всяком // Лицей. 1806. 4.2. №3.
28. Богданович 1869 — Богданович М.И. История царствования императора
29. Брольи I-II — Broglie A. The King's Secret: Being The Secret Correspondance of Louis XV with his Diplomatic Agents from 1752 to 1774. Vol. I—II. London; Paris; N.Y., 1870.
30. Брэ 1902 — Петербург в конце XVIII и в начале XIX века. (По бумагам графа
31. Франца-Габриэля де Брэ) // PC. 1902. № 4. Булгаков 1792 — Булгаков Я.И. Записки о нынешнем возмущении Польши. СПб., 1792.
32. Булгаков 1867 — Выдержки из записок Александра Яковлевича Булгакова /
33. Сообщ. Н.С. Киселев // РА. 1867. Бусанов 1992 — Бусанов A.B. Русская история в памяти крестьян XIX века инациональное самосознание. М., 1992. Бутарик I — Boutaric М.Е. Correspondance secrete medites de Louis XV. Vol. I. Paris, 1866.
34. Бутурлин 1901 — Записки М.Д.Бутурлина//PA. 1901. №11.
35. Бычков 1902 — Ссылка Сперанского в 1812 году. (Из бумаг академика А.Ф.
36. Варнгаген фон Энзе 1859 — Фарнгаген фон Энзё. Воспоминания // Московскиеведомости. 1859. № 234. Вебер 1872 — Вебер К. Записки о Петре Великом и об его преобразованиях // РА. 1872. №6.
37. Вебстер 1921 — Webster N.H. World Revolution: The Plot against Civilization. London, 1921.
38. Верещагин 1775 — Верещагин И.А. Ода на торжество заключенного мира, между
39. Россиею и Оттоманскою Портою. М.,1775. Вернадский 1999 — Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II / 2-е изд, испр. и расшир.; под ред. М.В. Рейзина и А.И. Серкова. СПб.,1999.
40. Веселовский 1904 — Веселовский А.Н. В.А.Жуковский. Поэзия чувства исердечного воображения». СПб., 1904 Виатт I—II — Viatte A. Les sourses occultes du Romantisme. T.I-II. Paris, 1979. Вигель II, IV —Записки Ф.Ф.Вигеля. 4.I-VII. M.,1891
41. Вилбергер 1979 — Wilberger С.H. Voltaire's Russia: Window to the East // Studies on
42. Voltaire and Eighteenth Century. 1979. Vol. 164. Вильсон 1964 — Wilson L.A. A Mythical Image. N.Y.,1964.
43. Виницкий 1998 — Виницкий И.Ю. Нечто о приведениях. Истории о русской литературной мифологии XIX века. М.,1998. = Учен. Зап. Московского культурологического лицея. 1998. №3/4 (6/7). Виноградов 2000 — Век Екатерины II: Дела балканские / Отв. ред. В.II.
44. Виноградов. М., 2000. Винрод, б.д. — Winrod G. Adam Weishaupt: A Human Devil. Hollywood, s.a. Висковатов 1883 — Висковатов П.А. Василий Андреевич Жуковский. Столетняя годовщина дня рождения//PC. 1883. № I.
45. Виттекер 1978 — Whittaker С.Н. The Ideology of Sergei Uvarov: An Interpretative Essay //Russian Review. 1978. Vol.37. №2.
46. Ври де Ганзбург 1941 — Vries de Gunsburg I. de. Catherine Pavlovna, Grande
47. Александра I // ЖМНП. 1875. Кн.Ш. Гардзонио 1994 — Гардзонио С. Автографы поэтов-шишковистов в книгах РГБ //
48. Маргиналии русских писателей XVIII века. СПб., 1994. Гарднер 1971 — Gardner В. The East India Company. A History. London, 1971. Гаспаров 1984 — Гаспаров M.JI. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика.
49. Рифма. Строфика. М.,1984. Гауеншильд 1902 — М.М. Сперанский (по Гауеншильду) / Сообщ. В.А. Бильбасов //PC. 1902. №5.
50. Гиляров-Платонов II — Гиляров-Платонов И. Из воспоминаний. Т. II. М., 1886. Гирц 1973 — Geertz С. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1973. Гирц 1983 — Geertz С. Local Knowledge. London, 1983.
51. Гирц 1998 — Гирц К. Идеология как культурная система // НЛО. 1998. № 29.
52. Глинка 1807 — Глинка С. Пожарский и Минин, или Пожертвования Россиян. М.,1807.
53. Глинка 1812 — Глинка С.Н. Неизменность Французского злоумышления против России //Русский вестник. 1812. Кн.IX.
54. Глинка 1814 — Глинка С. Воспоминания о московских происшествиях в достопамятный 1812 год.//Русский вестник. 1814. № 9.
55. Глинка 1836 — Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения. СПб., 1836.
56. Глушковский 1940 — Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. М.; Л., 1940.
57. Гоголь I — Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1940. Т. I.
58. Голиков II — Голиков И.И. Дополнение к Деяниям Петра Великого. Т.П. М., 1790.
59. Гордин 1991 — Гордин М. А. Владислав Озеров. Л.,1991.
60. Гордин 1999 — Гордин Я.А. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре. СПб., 1999.
61. Грелле де Мобилье 1874 — Грелле де Мобилье Э. Записки квакера о пребывании в России. 1818—1819/ Сообщ. И.Т. Осинин // PC. 1874. № j.
62. Греч 1930 — Греч Н.И. Записки о моей жизни / Под ред. Иванова-Разумника и Д.М. Пинеса. М.; Л., 1930.
63. Гржибек 1995 — Гржибек П. Бахтинская семиотика и московско-тартусская школа //Лотмановский сборник. Т. 1. М., 1995.
64. Гримстид 1969 — Grimstead Р.К. The Foreign Ministers of Alexander I. Berkeley;Los Angeles, 1969.
65. Гринфельд 1992 — Greenfeld L. Nationalism. Cambridge (Mass.), 1992.
66. Грифитс 1970 — Griffiths D.M. The Rise and Fall of the Northern System: Court Politics and Foreign Policy in the First Half of Catherine's reign // Canadian Slavic Studies. 1970. Vol.4. №3.
67. Грот 1867 — Грот Я.К. Очерк деятельности и личности Карамзина // Сборник статей, читанных в Отделении Языка и словесности Императорской Академии наук. 1867. Т. I. № 10.
68. Грот 1997 — Грот Я.К. Жизнь Державина. М., 1997.
69. Гуковский 1927 — Гуковский Г.А. Из истории русской оды XVIII века // Поэтика. Вып.Ш. Л.,1927.
70. Гуковский 1995 — Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.,1995.
71. Давыдов 1856 — Давыдов И.И. Взгляд на жизнь С.С.Уварова как мужа государственного, как писателя и как человека // Известия императорской Академии наук. 1856. №5.
72. Давыдова 1996 — Давыдова Е.Е. Образ Александра I в русской литературе его времени (1777-1825). Автореферат дисс. <.> канд. фил. наук. М.,1996.
73. Данилевский 1980 — Данилевский Р.Ю. И.Г. Гердер и сравнительное изучение литератур в России // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы: Сб. статей. JI.,1980.
74. Делмен 1977 — Dälmen R. van. Der Geheimbund der Illuminaten, Stuttgart, 1977.
75. Державин I-VI —Державин Г.Р. Сочинения. / Под ред. Я. К. Грота. СПб., 1864 — 1872. Т. I — VI.
76. Дефорно 1965 — Deforneau M. Complot maçonnique et complot jésuitique // Annales historiques de la Révolution française. 1965. №180.
77. Джейкоб 1991 — Jacob M. S. Living the Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth Century Europe. N.Y.; Oxford, 1991.
78. Джеймесон 1981 —Jameson F. The Political Unconscious. Ithaca, 1981.
79. Джонсон 1963 —Jonson D. Guisot. London,1963.
80. Дмитриев 1986 — Дмитриев И.И. Сочинения / Сост. и коммент. A.M. Пескова и И.З.Сурат. M., 1986.
81. Дмитриев 1871 —Письма И.И. Дмитриева к В.А. Жуковскому//РА. 1871.
82. Дмитриев 1998 — Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подг.текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.А. Ляминой и Т.Ф. Нешумовой. М.,1998.
83. Добронравров 1913 —Добронравов Г. Последование молебного пения, певаемого в день Рождества Христова в воспоминание избавления Церкви // Московские церковные ведомости. 1913. № 29, 31.
84. Довнар-Запольский 1905 — Довнар-Запольский М.В. Политические идеалы М.М.Сперанского. М.,1905.
85. Домашнев 1769 — Домашнев С. Ода победоносной Екатерине Второй. на одержанные славным оружием ее многократные над турками победы и на взятие Хотина под предводительством генерала князя Голицына. СПб., 1769.
86. Достян 1972 — Достян И.С. Россия и балканский вопрос. Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX в. М„ 1972.
87. Дроз 1961 — Droz J. La légende du complot illuministe et les origines du romantisme politique en Allemagne // Revue historique. 1961. Vol.226.
88. Дружинина 1955 — Дружинина E.H. Кючук-Кайнарджийкский мир 1774 г. Его подготовка и заключение. М.,1955.
89. Дружинина 1959 — Дружинина E.H. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. М.,1959.
90. Дубровин 1885—1889 — Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России. T. I—V. СПб., 1885—1889.
91. Дубровин 1895 — Дубровин Н.Ф. Наполеон I в современной ему русской литературе // Русский вестник. 1895. № 2, 4, 6, 7.
92. Дубровин 1895—1896 — Дубровин Н.Ф. Наши мистики-сектанты: Е.Ф. Татаринова и А. П. Дубовицкий//PC. 1895. № 10—12; 1896.№ 1—2.
93. Дурылин 1932 — Дурылин С.Н. Друг Гете // Литературное наследство. Т.4-6. 1932.
94. Дурылин 1939 — Дурылин С.Н. Госпожа де Сталь и ее русские отношения // Литературное наследство. Т.33-34. 1939.
95. Дуси 1844 — Дуси Г. Записка об амазонской роте//Москвитянин. 1844. №1.
96. Евгений 1775 — Евгений (Булгарис). Победная песнь на заключение торжественного мира. всероссийскою самодержицею Екатериною Второю с Оттоманскою Портою, по одержании над нею многочисленных побед на земли и на море. М.,.1775.
97. Егоров 1991 — Егоров Б.Ф. Эволюция национализма у славянофилов // Вопросы литературы. 1991. №7.
98. Егоров 1996 — Егоров Б.Ф. Очерки по русской культуре XIX века // Из истории русской культуры. T.V (XIX век). М.,1996.
99. Екатерина 1808 — Высочайшие собственноручные письма и повеления <.> Екатерины Великой к покойному генералу П.Д. Еропкину. М.,1808.
100. Бюлер; предисл. Е. Белова // РА. 1874. № 8. Екатерина 1879 — Екатерина II. Письма к Я.А. Брюсу. Приложение к камерфурьерскому журналу 1787 г. СПб., 1879. Екатерина 1971 — Documents of Catherine the Great / Ed. by W.F. Reddaway. N.Y.,1971.
101. Екатерина VIII — Екатерина II. Сочинения. T.VIII. СПб., 1901.
102. Жихарев 1955 —Жихарев С.П. Записки современника / Ред., стат. и коммент. Б.М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955.
103. Жуков 1866 — Жуков И.Ф. Разбор известий и дополнительных сведений о казни купеческого сына Верещагина 2 сентября в Москве // ЧОИДР. 1866. Ч. IV.
104. Жуковская, рукопись — Жуковская A.B. Летопись жизни и творчества В.П. Петрова. Рукопись.
105. Жуковский 1864 — Подлинные черты из жизни В.А. Жуковского // РА. 1864. Жуковский 1883 — Письма В.А. Жуковского / Сообщ. К.К. Зейдлиц // PC. 1883. № 1.
106. Жуковский 1883а — Василий Андреевич Жуковский в его письмах. Второй период
107. Сообщ. К.К. Зейдлиц // PC. 1883. № 3. Жуковский 1895 — Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М.,1895.
108. Жуковский 1902 II — Полн. собр. соч. В.А. Жуковского: В 12 т. / Под ред. сбиограф, очерком и приеч. A.C. Архангельского. Т. II. СПб., 1902. Жуковский 1904 — Уткинский сборник. [Вып.]1. Письма В.А.Жуковского,
109. М.А.Мойер и Е.А.Протасовой / . М.,1904. Жуковский 1907 — Жуковский В.А. Письма-дневники 1814—1815 годов. СПб., 1907.
110. Жуковский I — Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. I: Стихотворения 1797—1814 годов / Ред. О.Б. Лебедева и A.C. Янушкевич. М., 1999. Забаринский 1936 — Забаринский П.П. Первые "огневые машины" в России. М.;Л.,1936.
111. Завадский 1993 — Zavadski W.H. Adam Czartoryski as a Statesman of Russia and Poland. Oxford, 1993.
112. Зимний поход 1807 — Зимний поход русских и французов в 1806 и 1807 годах //
113. Йейтс 1999 — Йейтс Ф. Розенкрейцерское Просвещение. М.,1999.
114. Калягин 1973 — Калягин В.А. Политические взгляды Сперанского. Саратов, 1973.
115. Кампе 1798 — Campe I.-H. Wörterbuch für Erklärung und Verdeutshung der unserer
116. Sprache. Braunschweig, 1798. Кампе I-II — Детская библиотека, изданная на немецком языке г. Кампе. 4.I-II. Спб., 1783-1785.
117. Каподистриа 1869 — Каподистриа И. Apperçu de ma carrière politique // С6РИО III. СПБ., 1867.
118. Каптерев 1885 — Каптерев Н. Характер отношения России к православному
119. Востоку в XVI и XVII столетии. М.,1885. Карамзин 1991 — Карамзин Н.М. Записка о древней и повой России в ее политическом и гражданском отношениях / Предисл., подгот. текста и примеч. Ю.С. Пивоварова. M., 1991.
120. Карамзин II — Карамзин Н.М. Соч.: В 2 т. Т. 2 / Сост. Г.П. Макогоненко, коммент.
121. Кендалл 1981 —Kendall G. Ideology an Essay in Definition // Philosophy Today. 1981. Vol.25.
122. Кизеветтер 1912 — Кизеветтер А.И. Исторические очерки. М., 1912.
123. Кизеветтер 1915 — Кизеветтер А.И. Ф.В. Ростопчин // Кизеветтер А.И.
124. Исторические отклики. М.,1915. Кирьяк 1867 — Кирьяк Т. Потемкинский праздпик 1791 года. (Письмо в Москву)/
125. Киселева 1997 — Киселева Л.Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып.2. М.,1997.
126. Козаков 1970 — Козаков Н.И. Наполеон глазами его русских современников //
127. Новая и новейшая история. 1970. № 3—4. Козельский I — Сочинения Федора Козельского. Ч. I. СПб.,. 1778.
128. Корф 1867 — Из бумаг М.А. Корфа. о графе Сперанском, в дополнение к его
129. Жизни», изданной в 1861 году/Сообщ. М.А. Корф //РА. 1867. Корф 1902 — Корф М.А. деятели и участники в падении Сперанского // PC. 1902. №3.
130. Корф MI — Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. T.I-II. СПб., 1861. Костров 1802 — Костров Е.И. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах. М.,1802.
131. Костров 1972 — Костров Е.И. // Поэты XVIII века. T. II / Сост. Г.П. Макогоненко и
132. И.З. Сермана; подгот. текста и примеч. Г.С. Татищевой. Jl.,1972. Кочеткова 1999 — Кочеткова Н.Д. Петров // Словарь русских писателей XVIIIвека. Вып.2 (К-П). СПб., 1999. Кочубинский 1899 — Кочубинский А. Граф Остерман и раздел Турции. Одесса, 1899.
133. Кошанский 1807 — Кошанский Н.Ф. Памятник Минину и Пожарскому,назначенный в Москве // Журнал изящных искусств. 1807. Кн. II. Кролл 1964 — Kroll G. Preface // Glück C.W. Iphigenie auf Taurus. Klavierauszug.
134. Burenreiter; Kassel, 1964. Kpocc 1971 — Cross A.G. British Freemasons in Russia during the Reign of
135. Catherinethe Great // Oxford Slavonic Papers. New ser. 1971. Vol. IV. Kpocc 1976 — Kpocc Э. Василий Петров в Англии (1772-1774) // XVIII век. Сб. 10. Л., 1976.
136. Кросс 1977 — Cross A.G. Duchess of Kingston in Russia // History Today. 1977. Vol. XXVII. № 6.
137. Kpocc 1990 — Cross A. Catherine's "Oleg": A Bicentennial Visitation // SGECRN. 1990. №18.
138. Kpocc 1996 — Kpocc Э.Г. У темзских берегов. Россияне в Британии в XVIII веке. СПб., 1996.
139. Круг 1818 — Krug W.T. Gespräch unter fier Augen mit Frau von Krüdener. Leipsig, 1818.
140. Крюковский 1964 — Пожарский // Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIXвека. М.; Л., 1964.
141. Куайре 1929 — Koyre A. La philosophie et le problème nationale en Russie au debut de
142. XIX siècle. Paris, 1929. Кукулевич 1939 — Кукулевич A.M. Русская идиллия H.И. Гнедича "Рыбаки" //
143. Ученые записки ЛГУ. Вып. 3. Л., 1939. Курганов 1769 — Курганов Н. Российская универсальная грамматика иливсеобщее письмословие. СПб., 1769. Лакофф и Джонсон 1980 — Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago, 1980.
144. Лакофф и Джонсон 1990 — Лакофф Д. Джонсон М. Метафоры, которыми мыживем. // Теория метафоры. М., 1990.
145. Ланда 1975 —Ланда С.С. «Дух революционных преобразований.» Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816-1825 гг. М.,1975. Ле Форестье 1970 — Le Forestier R. La franc-maçonnerie templière et Occultiste. Paris, 1970.
146. Ле Форестье 1974 — Le Forestier R. Les illuminés de Bavière et la franc-maçonnerieallemande. Geneve, 1974. Лебедев 1912 — Лебедев A. A. К закрытию масонских лож в России // PC. 1912. № 9
147. Лей 1975 — Ley F. Alexandre I et sa Sainte-Allience (1811-1825). Paris, 1975. Лещиловская 1998 — Век Екатерины II: Россия и ¡ Балканы / Отв. ред. И.И.
148. Лещиловская. М., 1998. Линкольн 1989 — Lincoln W.B. Nicholas I Emperor and Autocrat of All the Russians. De Kalb, 1989.
149. Ломоносов 1986 — Ломоносов M.B. Избранные произведения / Сост. и примеч.
150. A.A. Морозова; подг. текста М.П. Лепехина и A.A. Морозова. Л., 1986.
151. Лонгинов 1860 — Лонгинов М.Н. Один из магиков XVIII века: История Авиньонского 6paTCTBà и деятельность Грабянки в России // Русский вестник. 1860. № 8.
152. Лопатин 1992 —Jlonamuu B.C. Потемкин и Суворов. М., 1992.
153. Лопухин 1810 — Lopouhin /.К. Quelques traits de l'église intérieure, de l'unique chemin, qui mène a la vérité, et diverses routes qui conduisent a l'erreur et a la pérdition. M., 1810.
154. Лопухин 1870 — Письма И.В. Лопухина к M.M. Сперанскому//PA. 1870.
155. Лопухин 1990 — Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Записки сенатора И.В. Лопухина. Лондон, 1859. Репринтное воспроизведение. М.,1990.
156. Лопухин 1997 — Лопухин И.В. Масонские труды. СПб., 1997.
157. Лорд 1915 — Lord R.H. The Second Partition of Poland. Cambridge, 1915.
158. Лоррейн 1979 — Lorrain J. The Concept of Ideology, London, 1979.
159. Лотман 1960 — Лотман Ю.М. Историко-литературные заметки. III. Жуковский-масон // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып.98. Труды по русской и славянской филологии. [Т.]Ш. Тарту,I960.
160. Лотман 1969 — Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Руссо 1969.
161. Лотман 1992 — Лотман Ю.М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи. T. II. Таллинн, 1992.
162. Лотман 1997 — Лотман Ю.М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века //Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997.
163. Лотман и Успенский 1993 — Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого. (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко.) // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. Ш. Таллинн, 1993.
164. Лотман и Успенский 1996 — Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» — неизвестное сочинение
165. Семена Боброва) // Успенский Б.А. Избранные труды. T.И: Язык и культура / Изд. 2-е, исправ. и доп. M., 1996.
166. Лотман и Успенский 1997 — Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина и их место в развитии русской культуры//Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997.
167. Линь 1989 — Ligne, prince de. Mémoires, Lettres et Pensees. Paris, 1989.
168. Лубяновский 1872 — Воспоминания Ф.П.Лубяновского. СПб., 1872.
169. Луден 1811 — Luden H. Handbuch der Staatsweisheit oder die Politik. Jena. 1811.
170. Лукач 1971 — Lucacs G. History and Class Consciousness. London, 1971.
171. Львов 1810 —Львов П.Ю. Пожарский и Минин. СПб.,1810.
172. Львов 1994 — Львов H.A. О русском народном пении // Львов Избранные сочинения. СПб., 1994
173. Лэнгсэм 1936 — Langsam C.W. Napoleonic Wars and the Rise ofGermam Nationalism in Austria. N.Y.,1936.
174. Любомиров 1917 — Любомиров П.Г. Очерк истории нижегородского ополчения. Пг.,1917.
175. Мадарьяга 1959/1960 — Madariaga I. de. The Secret Austro-Russian Treaty of 1781 // SEER. 1959-1960. Vol.18. №90.
176. Мадарьяга 1981 — Madariaga I. de. Russia in the age of Catherine the Great. London, 1981.
177. Мадарьяга 1983 — Madariaga I. de. Catherine and the Philosophes // Russia and the West in the Eighteenth Century. Newtonwille, Mass., 1983.
178. Майков 1770 — Майков В. Ода е.и.в. Екатерине Второй. на преславную победу над турецким флотом, в заливе Лаборно при городе Сисме. СПб.,1770.
179. Майков 1774 — Майков В. Ода е.и.в. великой государыне Екатерине Алексеевне.на заключение вечного мира между Российской империей и Оттоманской Портою июля дня, 1774 года. СПб.,1774.
180. Майков 1966 — Майков В.И. Избранные произведения / Вступ. стат., подгот. текста и примеч. А.В.Западова. М.;Л.,1966.
181. Майофис 1996 — Майофис М. Музыкальный и идеологический контекст драмы Екатерины "Начальное управление Олега" // Русская филология. Вып.7. Тарту, 1996.
182. Макинтош 1992 — Mcintosh С. The Rose Cross and the Age of Reason. Leiden; N.Y.; KoIn,1992.
183. Манкиев 1770 — Мапкиев A.M. Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества <.>. М.,1770.
184. Манхейм 1994 — Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
185. Маркова 1958 — Маркова О.П. О происхождении так называемого греческого проекта (80-е годы XVIII века) // История СССР. 1958. №4.
186. Маркс и Энгельс III, XXXIX — Маркс К. Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Т. I, XXXIX.
187. Мартин 1997 — Martin A.M. Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. De Kalb, 1997.
188. Мартынов 1979 — Martynov I.F. Notes on V.Petrov and his stay in England //1. SGECRN.1979. №7.
189. Мартынов 1988 — Мартынов И.Ф. Ранние масонские стихи и песни в собрании библиотеки Академии наук СССР (К истории литературно-общественной полемики 1760-х гг.) // Russia ahd the World of Eighteeth Century. Columbus,1988.
190. Медведкова 1993 — Medvedkova O.A. Соломонов храм — дом премудрости: к истории неосуществленного проекта храма Христа Спасителя архитектора А.Л. Витберга// Revue des Etudes slaves. 1993. T. 65. Fasc. 3.
191. Мейнеке 1970 — Meineke F. Cosmopolitanism and the Nation State. Prinston,1970.
192. Мельгунов 1923 — Мельгунов С. Дела и люди александровского времени. Т.1. Берлин, 1923.
193. Мерфи 1983 — Murphy О.Т. Charles Graviee Compte de Vergennes. French Diplomacy in the Age of Revolution: 1719-1787. Albany, 1983.
194. Местр 1871 — Местр Ж. де. Письма из Санкт-Петербурга в Италию к королю Виктору-Эммануилу I// РА. 1871. Кн.1.
195. Местр 1995 — Местр Ж. де. Петербургские письма 1803—1817 / Сост., пер., предисл. и коммент. Д.В. Соловьева. СПб., 1995.
196. Местр VIII, XI, XII — Maistre J. de. Oeuvres Complètes. Vol. VIII, XI, XII. Genève, 1979.
197. Меттерних 1880 — Metternich CI. V. prince de. Mémoires, documents et écrits divers. Paris, 1880.
198. Мироненко 1990 — Мироненко C.B. Страницы тайной истории самодержавия:
199. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. Монтескье 1955 — Монтескье LU. Избр. произведения / Общ. ред и вступ. ст.
200. М.П.Баскина. М.,1955. Мордвинов 1901 — Мордвинов Н.С. Мнение относительно Крыма // Архив графов
201. Мордвиновых. Т.Ш. СПб., 1901. Морне 1967 — Mornet D. Les origines intellectttéles de la Révolution française. Paris, 1967.
202. Морозов 1999 — Морозов В.И. Государственно-правовые взгляды М.М.
203. Сперанского. СПб., 1999 Мурнье 1979 — Mournier J. La fortune des écrits de J.-J.Rousseau dans les pays de lalangue allemande de 1782 a 1783. Lille, 1979. Мюленбек 1887 — Mühlenbeck E. Etude sur les origines de la Sainte Alliance.
204. Paris;Strasbourg, 1887. Надлер I-V — Надлер B.K. император Александр I и идея священного союза. T.I-V.
205. Рига; Харьков, 1886-1892. Намьерс 1962 — Namiers L. Crossroads of Power. N.Y., 1962. Невахович 1809 — Невахович JI.H. Сульеты, или Спартанцы восемнадцатого столетия. СПб., 1809.
206. Неводчиков 1868 — Неводчиков И. Знакомство и переписка А.Стурдзы с высокопросвещенным Филаретом, митрополитом Московским. Одесса, 1868.
207. Немзер 1987 — Немзер A.C. «Сии чудесные виденья.» // Зорин А.Л., Зубков H.H.,
208. Немзер A.C. «Свой подвиг свершив.» М.,1987. Неф 1928 — NäfW. Zur Geschichte der Heiligen Allianz. Bern, 1928. Николай Михайлович 1903 — Николай Михайлович, вел. кн. Граф П.А.Строганов. T.I.1. Спб., 1903.
209. Николай Михайлович 1910 — Николай Михайлович, вел. кн. Переписка императора Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной. Спб.,1910.
210. Николай Михайлович I-II — Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I.T.I-II. СПб.,1912.
211. Новый летописец 1792 — Русская летопись по Никонову списку. Ч. VIII. С 1583 до 630 года. СПб., 1792.
212. Оболенский 1858 — Два письма к императрице Екатерине Великой /Сообщ. М.А. Оболенский // Библиографические записки. 1858. №17.
213. Огинский 1826 — Oginski M. Mémoires sur la Pologne et les Polonais. Vol.I. Paris, 1826.
214. Оглоблин 1901 — Оглоблин H.H. К характеристике русского общества в 1812 году // Чтения в историческом обществе Нестора летописца. 1901. Кн. XV. Вып. 2/3.
215. Ода 1784 — Ода великой государыне Екатерине II самодержице всероссийской на приобретение Крыма 1784 года, СПб., 1784.
216. Озуфф 1988 — Ozouff M. Fraternité // Furet F., Ozouff M. Dictionnaire critique de la Révolution Française. Paris, 1988.
217. Окунь 1947 —Окунь С.Б. История СССР. 1796-1825. Л., 1947.
218. Оленин 1813 — Оленин А.Н. Письмо архимандриту Филарету // Сын Отечества, 1813,4. УП, №32;
219. Ольри 1917 — Из донесений баварского поверенного в делах Ольри в первые годы царствования (1802—1806) императора Александра I // Исторический вестник. 1917. № 2.
220. Орлов 1870 — Первая мысль о морейской экпедиции графа А.Г. Орлова // Заря. 1870. №6. Прилож.
221. Осповат 1994 — Осповат А.Л. К прениям 1830-х гг. о русской столице II Лотмановский сборник. Вып.1. М.,1994.
222. Пайпс 1959 — Pipes R. Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia. Cambridge . (Mass.), 1959.
223. Пайпс 1997 — Pipes D. Conspiracy: How the paranoid style flourishes and where it comes from. N.Y.,1997.
224. Пайпс 2000 — Пайпс Д. Заговор: объяснение успехов и происхождения «параноидального стиля» // НЛО. 2000. №41.
225. Палладокис 1771 —Палладокис А.И. Ода А.Г.Орлову. СПб., 1771.
226. Палладокис 1771а — Палладокис А.И. Стихийна греческое платье, в кое Ее Императорское Величество изволили одеваться в маскараде. СПб., 1771.
227. Палладокис 1773 — Палладокис А.И. Истинного государствования подвиг. СПб., 1773.
228. Палладокис 1775 — Палладокис А. Каллиопа о преславных победах е.и.в.
229. Екатерины Алексеевны оружием победоносным над оттоманами <.>. Спб.,1775.
230. Паллас 1883 — Записка академика П.С. Палласа, князю Потемкину о исследовании берегов Каспийского моря / Сообщ. Н. Мурзакевич // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. T. XIII. Одесса, 1883.
231. Петров 1775 — Петров В.П. Ода е.и.в. Екатерине Второй. на заключение с
232. Оттоманскою Портою мира. М.,. 1775. Петров 1782 —Сочинения В. Петрова. Ч. I. СПб., 1782.
233. Петров А. 1869 — Петров А.Н. Война России с Турцией и польскимиконфедератами. T.I. СПб.,1869. Петров A. I-II — Петров А.Н. Вторая русско-турецкая война в царствование
234. Екатерины И. Т. 1—11. СПб., 1880. Петухов 1903 — Петухов Е.В. Памяти Гоголя и Жуковского. Юрьев, 1903. Пиккио 1992 — Пиккио Р. "Предисловие о пользе книг церковных" М.В.
235. Ломоносова как манифест русского конфессионального патриотизма П Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М.Лотмана. Тарту, 1992.
236. Платонов 1913 — Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутномвремени XVII века как исторический источник. СПб., 1913. Плюханова 1995 — Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб.,1995.
237. Погодин 1871 — Погодин М. Сперанский // РА. 1871. № 7/8.
238. Погосян 1997 — Погосян Е.А. Традиционная одическая фразеология в творчестве
239. Жуковского // Художественное творчество и литературный процесс. Bbin.V. Томск, 1983. Попов 1875 Попов А.Н. Москва в 1812 году // PA. 1875. № 8, 10. Посникова 1867 — Из семейного архива. II. Письмо М.И. Посниковой к А.И.
240. Потемкин 1865 — Собственноручные бумаги князя Потемкина-Таврического /
241. Сообщ. А.И. Ставровский, Н.С. Киселев // РА. 1865. Потемкин 1875 — Письма князя Г.А. Потемкину-Таврическому // Записки императорского Одесского общества истории и древностей. Т. IX. Одесса, 1875.
242. Пресняков 1923 — Пресняков А.Е. Идеология Священного союза // Анналы. 1923. №3.
243. Проскурин 1987 — Проскурин O.A. "Победитель всех Гекторов халдейских» //
244. Вопросы литературы. 1987. № 6. Проскурин 1996 — Проскурин О. Новый Арзамас — Новый Иерусалим.
245. Литературная игра в культурно-историческом контексте // НЛО. 1996. № 19.
246. Проусис 1994 — Prousis Т. С. Russian Society and the Greek Revolution. De Kalb, 1994.
247. Вып.2 (К-П). СПб., 1999. Пыпин 1890 — Пыпин А.Н. История русской этнографии. T.I. СПб., 1890. Пыпин 1900 — Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I /
248. Изд. 3-е, доп. СПб., 1900 Пыпин 1997 — Пыпин А.Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. М., 1997
249. Пыпин 2000 — Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I.
250. Исследования и статьи по эпохе Александра I / Предисл. А.Н. Цамутали. СПб., 2000. Пятигорский 1997 — Piatigorsky A. Who's Afraid of Freemasons? The Phenomenon of
251. Freemasonry. London, 1997. Рагсдейл 1988 — Ragsdale H. Evaluating the Tradition of Russian Aggression: Catherine II and the Greek Project // SEER. 1988. Vol.66. №1.
252. Раев 1957 — Raeff М. Michael Speransky: Statesman of imperial Russia. The Hague, 1957.
253. Раев 1972 — Raeff M. In the Imperial Manner // Catherine the Great. A profile. N.Y.,1972.
254. Расмусен 1978 — Rasmussen K. Catherine II and the Image of Peter I // Slavic Review. 1978. Vol.37. March.
255. Ребеккини 1998 — Ребеккини Д. Русские исторические романы 30-х годов XIX в.
256. Библиографический указатель) // НЛО. 1998. № 34. Рике 1973 — Riquet М. Augustin de Barruel: Un jesuit face aux jacobins franc-macons. Paris, 1973.
257. Рикер 1977 — Ricoeur P. The Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the
258. Роберте 1972 — Roberts J.M. The Mythology of the Secret Societies. London, 1972. Рогов 1997 — Рогов К. Декабристы и "немцы" // НЛО. 1997. № 26. Рождественский 1902 — Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности
259. Павловне / Сообщ. А.Ф. Ростопчин // РА. 1876. Кн. I. Ростопчин 1892 — Письма графа Ф.В. Ростопчина к императору Александру
260. Павловичу / Сообщ. А.Ф. Ростопчин // РА. 1892. № 8. Ростопчин 1905 — Письмо графа Ростопчина к императору Александру I с доносом на Сперанского // PC. 1905. № 5.
261. Ростопчин 1992 — Ростопчин Ф.В. Ох, французы! / Сост., вступ. ст., примеч. Г.Д. Овчинникова. М., 1992.
262. Рубан 1784 — Рубан В.Г. Стихи на всевожделенное и всерадостнейшее рождение. великой княжны Елены Павловны, ко щастию всей России последовавшее <.>. СПб., 1784.
263. Руссо 1969 — Руссо Ж.-Ж. Трактаты / Изд. подг. B.C. Алексеев-Попов, Ю.М. Лотман, H.A. Полторацкий, А.Д. Хаютин. М., 1969.
264. Руссо III — Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. T.III. Paris, 1964.
265. Рязановский I960 — Riazanovsky N.V. Russia and Asia. Two Nineteenth Century Views // California Slavic Studies. I960. Vol. I.
266. Рязановский 1967 — Riasanovsky N.V. Nicholas I and the Official Nationality in Russia. 1825-1855. Berkeley, 1967.
267. Самойлов 1867 — Самойлов A.H. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина Таврического // РА. 1867.
268. Санглен 1883 — Записки Якова Ивановича де Санглена. 1776—1831 гг. / Сообщ. М.И. Богданович //PC. 1883. № 1—3.
269. Свербеев 1870 — Свербеев Д. Заметка о смерти Верещагина // РА. 1870.
270. Свербеев 1871 —Свербеев Д.Н. Первая и последняя встреча с А. С. Шишковым. // РА. 1871.
271. Севергин 1807 — Севергин В.М. Похвальное слово князю Пожарскому и Кузьме Минину. СПб., 1807.
272. Сегюр 1907 — Сегюр Л.-Ф. Пять лет в России при Екатерине Великой // РА. 1907. № 10.
273. Семевский 1875 — Семевский М.И. Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический // PC. 1875. № 4.
274. Семевский 1911/1912 — Семевский В. Падение Сперанского // Отечественная война и русское общество. T. II. СПб., 1911/1912.
275. Семека 1902 — Семека A.B. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы Екатерины II //ЖМНП. 1902. № 2.
276. Сен-Пьер 1986 — Saint-Pierre abbé de. Projet pour rendre "La Paix perpétuelle en Europe". Paris, 1986.
277. Сидорова 1952 — Сидорова Л.П. Рукописные замечания совеменника на первом издании трагедии В.А.Озерова "Дмитрий Донской" // Записки Отделарукописей Государственной библиотеки имени В.И.Ленина. Вып. 18. М.,1952.
278. Сироткин 1966 — Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801—1812 гг. М., 1966.
279. Сироткин 1975 —Сироткин В.Г. А.Н. Шебунин — историк общественной мысли и внешней политики России первой четверти XIX века // История и историки 1973. М., 1975.
280. Сироткин 1981 — Сироткин В.Г. Великая Французская буржуазная революция, Наполеон и самодержавная Россия // История СССР. 1981. №5.
281. Сироткин 1981а — Сироткин В.Г. Наполеоновская война перьев против России // Новая и новейшая история. 1981. № 3.
282. Смилянская 1995 — Смилянская И.М. Восточное Средиземноморье в восприятии Россиян и в российской политике (вторая половина XVIII века) // Восток. 1995. №5.
283. Смилянская 1996 — Смилянская И.М. Русско-арабские связи в контексте политики Екатерины в Средиземноморье // Арабский мир в конце XIX века. М.,1996.
284. Смит 1999 — Smith D. Working the Rough Stone: Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia. De Kalb,1999.
285. Соколовская 1915 — Соколовская Т.О. Возрождение масонства при Александре I // Масонство в его прошлом и настоящем / Под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова. Т.П. М.,1915.
286. Соловьев 1863 — Соловьев С. История падения Польши. М., 1863.
287. Соловьев XIV- XVI —Соловьев С.М. Сочинения. М., 1991 1992.
288. Сперанский 1862 — Сперанский М.М. Дружеские письма П.Г. Масальскому. СПб., 1862.
289. Сперанский 1870 — Письма Сперанского к А.А. Столыпину / Публ. Д, Столыпина // РА. 1870.
290. Сперанский 1870а — Письмо М.М. Сперанского к И.В. Лопухину / Сообщ. А.Ф. Бычков//РА. 1870.
291. Сперанский 18706 — Письма Сперанского к Ф.И. Цейеру // РА. 1870.
292. Станевич I-II — Станевич Е.И. Рассуждение о русском языке. T.I-II. СПб., 1808.
293. Старобинский 1962 — Starobinski J. La pensée politique de Jean-Jacques Rousseau // Rousseau J.-J. Neuchatel, 1962.
294. Старобинский 1971 — Starobinski J. La tranparence et l'obstacle. Paris, 1971.
295. Стеллецкий 1901 — Стеллецкий H. Князь А.Н.Голицын и его духовно-государственная деятельность. Киев, 1901.
296. Стивенсон 1988 — Stevenson D. The Origins of Freemasonry: Scotland's Century. 1590-1790. Cambridge, 1988.
297. Строев 1998 — Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения. М.,1998.
298. Строев, в печати — Строев А.Ф. Летающий философ (Жан-Жак Руссо глазами Фридриха-Мельхиора Гримма) // НЛО. В печати.
299. Стурдза 1815 — Stourdza A. Consideration sur l'acte d'alliance fratémelle et chrétienne du 14/26 Septembre 1815 //OP РНБ. Ф. 849. № 90 копия A.H. Шебунина; оригинал см.: PO ИРЛИ. Ф. 288. On. 1. № 47.
300. Стурдза 1864 — Стурдза A.C. Жизнь графа Каподистрии. M., 1864.
301. Сулейман 1936 — Souleyman E.V. The vision of World Peace in Seventeenth and Eighteenth Century France. N.Y.,1936.
302. Сумароков II — Сумароков А.П. Полное собрание сочинений. M., 1771. Т. II.
303. Сухомлинов 1868 — Сухомлинов M.И. Из бумаг в бозе почившего митрополита Филарета//ЖМНП. 1868. Январь.
304. Сухомлинов II — Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т.Н. Спб.,1889.
305. Сыроечковский 1954 — Сыроечковский Б.М. Балканская проблема в политических планах декабристов // Очерки из истории движения декабристов. М.,1954.
306. Сюлли X — Записки Максимилиана Бетюна герцога Сюлли, первого министра Генриха IV <.>. Т.Х. М., 1776.
307. Тартаковский 1973 — Тартаковский А.Г. Показания русских очевидцев и пребывание французов в Москве в 1812 г. (К методике источниковедческого анализа) // Источниковедение отечественной истории. Вып. 5. М., 1973.
308. Тартаковский 1980 — Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. М.,1980.
309. Тартаковский 1996 — Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай. Легенды и быль 1812 года. М.,1996.
310. Тодд 1996 — Тодд III У.М. Литература и общество в эпоху Пушкина. СПб., 1996. Токвиль 1986 — Tocqueville A. de. L'Ancien régime et la révolution. Paris, 1986. Томашевский 1948 — Томашевский Б. К.H. Батюшков // Батюшков К.
311. Стихотворения / Вступ. стат., ред. и примеч. Б. Томашевского. Л.,. 1948.
312. Томпсон 1984 —Thompson J. В. Studies in the Theory of Ideology. London, 1984 Томсинов 1991 —Томсинов В.А. Светило русской бюрократии. M.,1991. Триомф 1968 — Triomphe R. Etude sur la vie et la doctrine d'un matérialiste mystique. Geneve, 1968.
313. Тургенев 1887 — Записки A.M. Тургенева // PC. 1887. № 1.
314. Тынянов 1968 — Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники / Под ред. В.В.
315. Виноградова. М., 1968. Тютчев II — Тютчев Ф.И. Соч.: В 2 т. Т.Н. М.,1980.
316. Уайт 1968 — Wight M. The balance of Power // Diplomatic Investigations. Cambridge, Mass., 1968.
317. Уваров 1896 — Собственноручное письмо С.С. Уварова — М.М. Сперанскому / Сообщ. А.Ф. Бычков // PC. 1896. № 10.
318. Уваров 1995 — Доклады министра народного просвещения С.С. Уварова императору Николаю I / Публ. М.М. Шевченко // Река времен (Книга истории и культуры). Кн. I. М., 1995.
319. Уваров 1997 — Уваров С.С. <Письмо Николаю 1> / Публ. A.J1. Зорина // НЛО. 1997. № 26.
320. Уляницкий 1883 — Уляницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. М.,1883.
321. Фадеев 1958 — Фадеев A.B. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века. М.,1958.
322. Фадеев 1964 — Фадеев A.B. Греческое национально-освободительное движение и русское общество первых десятилетий XIX века // Новая и новейшая история. 1964.№ 3.
323. Фатеев б.д. — Фатеев А.Н. Потемкин-Таврический. Прага, б.д.
324. Фатеев 1940 — Fateev A. La disgrace d'un Homme d'Etat II Записки русского научно-исследовательского объединения в Праге. Т.Х. Прага, 1940.
325. Февр 1969 — Faivre A. Eckartshausen et la theosophie chrétienne. Paris, 1969.
326. Филарет 1812 — Филарет (Дроздов). Слово на освящение храма во имя Святыя Живоначальныя Троицы в доме князя Голицына. СПб., 1812.
327. Филарет 1814 — Филарет (Дроздов). Слово о гласе вопиющего в пустыне. СПб, 1814.
328. Филарет 1814а — Филарет (Дроздов). Слово на Великий Пяток. СПб., 1814.
329. Филарет 18146 — Филарет (Дроздов). Слово на сошествие Святаго Духа. СПб., 1814.
330. Филарет 1822 — Филарет (Дроздов). Рассуждение о нравственных причинах неимоверных успехов наших в войне с Французами 1812 года. // Собрание образцовых русских сочинений в прозе. Ч. II. СПб., 1822.
331. Филарет 1873 — Сочинения Филарета митрополита московского и коломенского. Слова и речи. T. I. М., 1873.
332. Филарет 1882 — Филарет (Дроздов). Письма к родным. M., 1882.
333. Филарет 1885 — Филарет. Письма П.С. Потемкину // PC. 1885. № 4.
334. Филарет 1994—Филарет (Дроздов). Творения, М., 1994.
335. Фишер 1970 — Fisher A.W. The Russian Annexation jf Crimea. Cambridge, 1970.
336. Флинн 1970 — Flynn J. The Role of Jesuits in the Politics of Russian Education // Catholic Historical Review. 1970. Vol.56.
337. Флоровский 1937 — Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris,1937.
338. Фоменко 1999 — Фоменко И.Ю. Кирьяк // Словарь русских писателей XVIII века. Вып.2 (К-П). СПб., 1999.
339. Фонвизин I-II — Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. T.I-1I. M.;JI.,1959. Какой том?
340. Харрис I — Harris J. Diaries and Correspondence. Vol. I. N.Y., 1970.
341. Хвостов 1938 — Хвостов Д.И. Записки о словесности // Литературный архив. М.; Л., 1938.
342. Херасков 1769 — Херасков М. Ода Российскому храброму воинству, при объявлении войны противу Оттоманской Порты. М.,1769.
343. Херасков 1770 — Херасков М. Ода. Екатерина Алексеевне. на торжественную победу при городе Чесме над турецким флотом. М.,1770.
344. Херасков 1773 — Херасков М.М. Ода на торжественное бракосочетание.великого князя Павла Петровича и. великой княгини Натальи Алексеевны 1773 года, сентября 29 дня. СПб.,1773.
345. Херасков 1774 — Ода. Екатерине Алексеевне. которою приносит при заключении с Оттоманскою Портой торжественного мира всеподданейшее поздравление Михайла Херасков. Спб.,1774.
346. Херасков 1785 — Херасков. М. Владимир возрожденный, эпическая поэма. М.,1785.
347. Херасков 1961 — Херасков М.М. Избранные произведения / Вступ. стат., подгот. текста и примеч. А.В.Западова. Л., 1961.
348. Хеш 1964 — Hösh Е. Das Sogenannte "griechische Project" Katharinas II И Jahrbücher fur Geshichte Osteuropas. 1964. Bd.XII.
349. Ходасевич 1988 — Ходасевич В. Державин / Вступ. стат., сост. и коммент. А.Л. Зорина. М., 1988.
350. Храповицкий 1874 — Дневник A.B. Храповицкого. 1782—1793 / Стат. и указ. Н, Барсукова. СПб., 1874.
351. Чарторижский I-II — Чарторижский А. Мемуары. Т.1-И. М.,1912.
352. Чибиряев 1989 — Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. М.,1989.
353. Чистович 1894 — Чистович И.А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине XIX текущего столетия. СПб., 1897.
354. Чистович 1899 — Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык / 2-е изд. СПб., 1899.
355. Цимбаев 1986 — Цимбаев H.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М.,1986.
356. Цимбаев 1989 — Цимбаев H.H. «Под бременем познанья и сомненья.» (Идейные искания 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников / Под. ред. И.А. Федосова. М., 1989.
357. Шамфор 1789 — Шамфор Н.С.Р. де. Возвращенное благодеяние, комедия в одном действии. М.,1789.
358. Шаховской 1964 — Шаховской A.A. Дебора // Стихотворная трагедия конца XVIII — начала XIX века. М.; Л., 1964.
359. Шафхойтль 1979 — Schafhäut! К.Е. von. Abt Georg Joseph Vogler. Hildesheim; New York, 1979.
360. Шебунин 1923 — Шебунин А.H. Европейская контрреволюция первой четверти XIX века. Л., 1923.
361. Шевалье 1939 — Chevalier A. Claude-Charlemagne de Rulhiere. Premier historien de la Pologne. Paris, 1939.
362. Шевченко 1991 — Шевченко M.M. Правительство, цензура и печать в России в 1848 г. // Вестник МГУ. Сер. истории. 1991. № 2.
363. Шевченко 1997 — Шевченко М.М. С.С. Уваров // Российские консерваторы. М., 1997.
364. Шенле, в печати — Schonle A. Garden of the Empire: Catherine's Appropriation of the Crimea // Slavic Review. В печати.
365. Шеппер-Виммер 1985 — Shaepper-Wimmer S. Augustin Barruel, s.j. Franfurt am Mein; Bern; N.Y., 1985.
366. Шильдер 1893 — Переписка императора Александра Павловича с графом Ф.В. Ростопчиным. 1812—1814 гг./Сообщ. Н.К. Шильдер // PC. 1893.№ 1.
367. Шильдер I IV — Шильдер Н. К. Император Александр I. СПб., 1897, Т. 1 - IV.
368. Ширинский-Шихматов 1807 — Ширинский-Шихматов С.А. Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. СПб., 1807.
369. Ширинский-Шихматов 1971 — Ширинский-Шихматов С.А. Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия // Поэты 1790—1810-х годов / Вступ. ст и сост. Ю.М. Лотмана; подгот. текста М.Г. Альтшуллера. Л., 1971.
370. Шишков 1812 — Шишков A.C. Краткие записки. СПб., 1831.
371. Шишков 1870 — Шишков А. С. Записки, мнения и переписка. / Под ред. Н.С. Киселева и Ю. Ф. Самарина. Berlin, 1870, Т. 1.
372. Шляпкин 1885 — Шляпкин И.А. Василий Петрович Петров "карманныйстихотворец" Екатерины II (По новым данным) // ИВ. 1885. №11. Шмид 1888 — Schmid G. Goethe und Uwarow und ihr Briefwechser // Russische
373. Revue. 1888. Bd. 17. №2. Шпет 1989 — Шпет Г.Г. Сочинения / Под. ред. A.B. Антоновой. М., 1989. Штарк 1803 — Starck J.A. Der Triumph der Philosophie im XVI11 Jahrhundert. Frankfort, 1803.
374. Policy // Slavic Review. 1977. Vol.36. Эдлинг 1999 — Эдлинг (Стурдза) P.C. Записки // Державный сфинкс / Сост. А.
375. Эмпейтаз 1828 — Empaytaz H. Notice sur Alexandre, Empereur de Russie. G£neve, 1828.
376. Энгельгардт 1997 — Энгельгардт Л.Н. Записки / Подг. текста, сост. и примеч. И.И.
377. Федюкина. М., 1997. Эпстайн 1966 — Epstein К. The Origins of German Conservatism. Princeton,1966. Юнг-Штиллинг 1815 — Юнг-Штиллинг Г. Победная песнь христианина. СПб., 1815.
378. В.А.Жуковского. Томск, 1985. Янушкевич 1992 —Янушкевич A.C. Жуковский // Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т. 2: Г-К. М., 1992.-l-oi