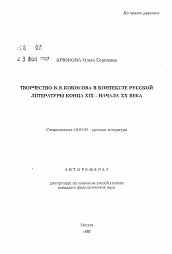автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Творчество В.Я. Кокосова в контексте русской литературы конца XIX - начала XX века
Полный текст автореферата диссертации по теме "Творчество В.Я. Кокосова в контексте русской литературы конца XIX - начала XX века"
На правах рукописи
■: \ о ОД
'I 3 ИЮН 'СЧ7 КРЮКОВА Ольга Сергеевна
ТВОРЧЕСТВО В.Я.КОКОСОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА
Специальность 10.01.01 - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Москва 1997
Работа выполнена на кафедре русской литературы XX века филологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Научный руководитель: доктор филологических наук
профессор Колобаева Л.А.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук
Спиридонова Л.А.
кандидат-филологических наук Голубкова В.П.
Ведущая организация - Московский государственный педагогический университет
Защита диссертации состоится 1997 года на заседании
диссертационного совета Д-053.05.12 при Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.
Адрес: Москва, 119899, Воробьевы горы, МГУ имени М.В.Ломоносова, 1-ый корпус гуманитарных факультетов, филологический факультет.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГУ.
Автореферат разослан "¿У" ¿¿¿¿¿¿с 1997 г.
Ученый секретарь диссертационного совета доктор филологических наук
В. А. Зайцев
Для современного литературоведения характерен все возрастающий интерес к творчеству писателей рубежа веков. Из незаслуженного забвения исследователи извлекают имена писателей конца XIX - начала XX века, без которых характеристика литературного процесса была бы далеко не полной. По мнению составителей биографического словаря "Русские писатели. 1800 - 1917", в настоящее время существует большая потребность в представлении как можно более полной картины литературной жизни рубежа XIX - XX веков, что определяется "самыми широкими интересами отечественной истории и культуры."1
На важность изучения творческого наследия писателей "второго ряда" обращал внимание П.А.Вяземский, который шкал: "Во Франции писатель, оставивший по себе страничку, по смерти своей занимает несколько страниц в журналах и биографических словарях, а из них переходит в область истории. Такая мелочная попечительность может казаться неуместною и смешною вчуже; но в своей земле она есть полезное поощрение ко всем предприятиям общественным ... средство успешное для поддержания и укрепления семейственной связи народа..."2
На рубеже XIX - XX веков С.А.Венгеров подчеркивал, что ему "доставляет особое удовольствие выводить из неизвестности" "несправедливо обойденных писателей."3 А.Г.Горнфелъд в статье "Забытый писатель" (1895) определил значение "писателя второстепенного" в литературном процессе: "...он воспитателен, он может подготовить к более глубокому пониманию крупных произведений того же момента; его прокзведешш обрамляют крупное творение, оттеняя его и ставя в надлежащее освещение."1 Некоторые положения статьи А.Г.Горнфельда были развиты в работах И.А.Гурвича "Русская беллетристика: эволюция, поэтика, функции" (1990) и "Беллетристика в русской литературе XIX века" (1991). Исследователь выделяет внешние (эстетическую, познавательную, развлекательную) и внутренние (подготовительную, видообразугощую, закрепляющую) функции беллетристики. "На долю второстепенных авторов, - подчеркивает И.А.Гурвич, - выпадает, как даино было
1 От редакции // Русские шгсатели. 1800 - 1917: Биографический словарь. - М., 1992. - Т. 1. - С. 5.
2 Вяземский П.А. Известие о жизни л стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева // Поли, собр. соч.: В 10 т. - СПб., 3878. - Т. I: 1810 - 1827. - С. 122.
3 Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, - Спб., 1891. - Т. 3. - С. 63.
4 Горнфедьд А.Г. Забытый писатель // Горнфельд А.Г. О русских писателях. - Т. 1: Минувший век. - Спб., 1812. - С. 49.
замечено, "подготовка новой идеи", а равно апробация новых способов изображения, новых форм, литературой уже востребованных. "Обыкновенные таланты" нередко нащупывают, открывают для разработки те тематические, проблемные маеты, которые позднее будут глубоко вспаханы классикой".1
В статье "О так называемых "второстепенных" писателях" Б.С.Мейлах писал о том, что методологически неверно ограничивать изучение истории литературы "лишь небольшим кругом имен."2 По мнению исследователя, без изучения "второстепенных писателей" не может быть воссоздана во всей полноте живая картина литературного движения, не могут быть выяснены общие закономерности сложного и противоречивого историко-литературного процесса."3
Предметом реферируемой диссертации является литературное творчество Владимира Яковлевича Кокосова (1845-1911), военного врача, писателя и общественного деятеля в контексте русской литературы конца XIX - начала XX века. В.Я.Кокосов - автор рассказов о Карийской каторге, очерков о Забайкалье и Нижегородском крае, рассказов об армейской жизни и о событиях 1905 - 1907 гг. Его перу принадлежат также воспоминания о Н.Г.Чернышевском, автобиографическая проза ц сатирические стихи. Начато литературной деятельности В.Я.Кокосова связано с именем В.Г.Короленко. Книга В.Я.Кокосова "Рассказы о Карийской каторге", изданная "Русским богатстзом", была сочувственно воспринята прогрессивной русской интеллигенцией, а о более позднем рассказе писателя, "Гидра", положительно отозвался Л.Н.Толстой.
Проблему изучения творческого наследия писателей демократического направления поставил еще А.М.Горький. В начале 30-х годов он обратился к редакции сборников "Литературное наследство" с рекомендацией начать поиск документов и рукописей писателей-нижегородцев, в том числе и В.Я.Кокосова, в фондах нижегородского литературного музея.
Без анализа творчества В.Я.Кокосова невозможно полное освещение темы тюрьмы, каторги и ссылки в русской литературе. Произведения на эту тему трудно рассматривать изолированно, вне литературных традиций.
1 Гурвич И.А. Русская беллетристика: эволюция, аоэшка, функции // Вопросы литературы. -М., 1990. - М» 5. - С. 134.
2 Мейлах Б.С. О так называемых "второстепенных" писателях //' Мейлах Б.С. Вопросы литературы и эстетики: Сборник статей. - Л., 1956. - С. 363.
3 Там же. - С. 445.
Установление места В.Я.Кокосова в литературной жизни конца XIX -начала XX века существенно обогащает ее картину, что обуславливает актуальность настоящего исследования.
Анализ литературы о Кокосове показывает, что в настоящее время не существует достаточно полного труда, глубоко и всесторонне освещающего творческий путь писателя, его роль в литературном процессе рубежа XIX - XX веков. Это определяет конкретные задачи работы: сопоставительный анализ прозы В.Я.Кокосова и тематически близкихей произведений русской литературы конца XIX - начала XX века; представление наз'чной биографии писателя; характеристика языка и стиля произведений В.Я.Кокосова. Цель исследования -раскрыть творческое своеобразие писателя в контексте произведений современных ему авторов и предшественников.
В реферируемой диссертации используются такие источники, как опубликованные произведения (70 наименований), рукописи. варианты произведений. дневники писателя, критические, библиографические и энциклопедические материалы о В.Я.Кокосове, - широко привлекается творчество предшественников и современников писателя. В аппарат исследования введен разнообразный эпистолярный, рукописный и документальный материал, хранящийся в следующих собраниях:
Институте русской литературы (Пушкинский Дои) в Санкт-Петербурге (ИРЛИ);
Российской национальной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге (РНБ);
Государственном музее А.М.Горького в Нижнем Новгороде (ГМГ);
Государственном архиве Екатеринбургской области (ГАЕО);
Государственном архиве Нижегородской области (ГАНО);
Государственном архиве Иркутской области (ГАНО);
Государственном объединенном музее республики Татарстан в Казани (ГОМРТ);
Акшинском краеведческом музее (АКМ).
К исследованию привлечены также воспоминания современников и потомков В.Я.Кокосова.
Научная новизна работы определяется тем, что впервые предпринят опыт целостного монографического исследования творчества В.Я.Кокосова в широком
историко-литературном контегхте и обосновано значение В.Я.Кокосова в литературном процессе рубежа XIX - XX веков.
Практическая значимость данной работы обусловлена возможностью ее использования в вузовском курсе литературы, в частности, в специальных курсах и семинарах. Опубликованная по теме диссертации брошюра "Карийский доктор" (1990) в настоящее время применяется на факультативных занятиях по литературе в ряде школ Читинской области.
Апробация результатов работы. Результаты проведенного исследования нашли отражение в восьми докладах, прочитанных на Петряезских чтениях 1991, 1993 и 1995 гг. в Кирове, межвузовской научной конференции "Проблемы истории и современного функционирования национальных языков" 1991 г. в Дипломатической Академии МИД СССР (Москва), зональной научной конференции 1991 г. "В.Г.Короленко и русская литература" в Глазовском педагогическом институте (Удмуртия), Горьковских чтениях 1992 и 1993 гг. в Нижнем Новгороде, Кокосовских чтениях 1995 г. в Нижнем Новгороде. По теме диссертации опубликованы брошюра и статья общим объемом в 1, 8 п. л.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Структура диссертации определяется логикой раскрытия темы, обусловлена характером собранного материала.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяется предмет, цели и задачи исследования, рассматривается оценка творчества В.Я.Кокосова в 1900 - 1990-е годы (рецензии, некрологи, статьи в энциклопедических словарях, разыскания литературно-краеведческого характера). Обзор литературы о В.Я.Кокосове обнаружил определенную преемственность в изучении жиж и творчества писателя. Можно выделить следующие этапы этого изучения: дореволюционный период; 1918 - 1936 гг.; середина 50-х - начало 90-х гг. XX века. Основу для библиографического описания своих трудов заложил сам Кокосов, завещавший после своей смерти опубликовать "Краткие автобиографические сведения" с приложением - списком публикаций своих произведений и рецензий на них. Дореволюционные материалы о жизни и творчестве В.Я.Кокосова включают литературно-критические, биографические и энциклопедические источники. Авторами
рецензий 1900 - 1910-х гг. на произведения Кокосова были А.А.Дробыш-Дробышевский, А. Эльф (А.П.Ландсберг?), В.Д.Бонч-Бруевич и др. Биографические сведения о В.Я.Кокосове были включены в "Краткий словарь писателей-нижегородцев" (1915), составленный В.Е.Чеипшгным-Ветринским. Первым биографом писателя стал В.Н.Золотницкий, по чьей инициативе также была осуществлена публикация писем В.Г.Короленко, в которых уделено много внимания вопросам, связанным с изданием произведений В.Я.Кокосова. В 1914 г. В.В.Брусянин посвятил личности автора "Рассказов о Карийской каторге" несколько страниц обзорной публицистической книги "Доктора и пациенты. Литературно-общественные параллели". Он охарактеризовал литературную, общественную и медицинскую деятельность В.Я.Кокосова как пример подвижничества.
В период с 1918 по 1936 гг. были опубликованы три статьи о жизни и деятельности В.Я.Кокосова (И.Г.Шадрина (1918), Н.Власова-Окского (1934) и
A.А.Белозерова (1936)). В 1931 г. в воспоминаниях бывшего "чайковца" Н.А.Чарушина немало дружеских проникновенных слов было уделено памяти
B.Я.Кокосова.
В 1927 г. Н.В.Здобнов включил библиографическую справку о "Рассказах о Карийской каторге" и других произведениях В.Я.Кокосова в "Материалы для сибирского словаря писателей". Краткие биографические сведения о В.Я.Кокосове были приведены в "Сибирской советской энциклопедии" (1931).
В 1950-е гг.интерес к жизни и творчеству В.Я.Кокосова путем кропотливой исследовательской работы возродил писатель-краевед, "энциклопедист русской провинции" Е. Д.Петряев. Кокосовская проблематика затрагивается в семи книгах Е.Д.Петряева: "Исследователи и литераторы старого Забайкалья" (1954), "Краеведы и литераторы Забайкалья: Материалы для биобиблиографического словаря" (1965), "Литературные находки" (1966), "Впереди - огни" (1968), "Псевдонимы литераторов-сибиряков" (1973), "Записки книголюба" (1978), "Живая память" (1984). Большая заслуга Е.Д.Петряева состоит в подготовке к печати сборника рассказов и очерков В.Я.Кокосова "На Карийской каторге" (Чита, 1955).
Большинство статей 1960-1990-х гг. о жизни и творчестве В.Я.Кокосова написано преимущественно в биографическом плане, собственно литературоведческие "вкрапления" фрагментарны. Историк нижегородского здравоохранения В.И.Дмитриева включила материалы о Кокосове п свою
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а также в книгу "Врачи-нижегородцы" (1960). Статьи В.Т.Кобисского "Из литературного наследия В.Я.Кокосова" (1986). "Архив Кокосова" (1987); Л.А.Курбатовой "История одной рукописи" (1985), "Неизданный Кокосов (по документам и рукописям архива писателя)" (1988); М.Н.Царт "Пермские рукописи В.Я.Кокосова" (1968) носят текстологический характер.
Биографические материалы, собранные Е.Д.Петряевым, были использованы при подготовке энциклопедической статьи "Кокосов" в словаре "Русские писатели. 1800-1917", содержащей некоторые неточности, но в целом достаточно подробной.
В первой главе - "Жизненный к творческий путь В.Я.Кокосова" - на основе автобиографии, писем, свидетельств современников, воспоминаний потомков раскрывается своеобразие личиости писателя-врача.
В.Я.Кокосов родился 8 (20) июля (по другим сведениям, 9 (21) июля) 1845 г. в селе Крестовском Камышловского уезда Пермской губернии в семье священника. По материнской имени связан родственными отношениями с известными фамилиями Флоркнских-Флоренских и Сперанских. Семья рано лишилась отца в связи с трагическими событиями крестьянского картофельного бунта. Детские годы будущий писатель провел в семье деда - о.Марка Флорииского. Шести лет был отдан в духовное училище, нравы которго не отличались от описанных Н.Г.Помяловским. В 16 лет Кокосов был исключен из семинарии "по неблагонадежности". После нескольких попыток ему удалось сдать экзамен на гимназический "аттестат зрелости", и в 1865 г. Владимир Кокосов поступил в Петербургскую Медико-хирургическую академию. В декабре 1870 г. Кокосову было присвоено "звание лекаря", и в 1871 г. он, как получавший с третьего курса казенную стипендию, начал службу в Иркутске при окружном военно-медицинском управлении. Следствием несложившихся отношений с начальством стало командирование молодого врача на Карийские золотые прииски. Эта "командировка" затянулась на десять лет. Подробности "карийского периода" биографии Кокосова воссоздаются при помощи воспоминаний бывшего политкаторжанина Н.А.Чарушина и обнаруженного в ГОМРТ письма В.Я.Кокосова своему дяде - известному ученому В.Я.Флоринскому. Нравственным спасением стала для "карийского врача" встреча с людьми "особой категории", "так называемыми государственными
к
преступниками уголовной каторги".1 Политические ссыльные поддержали стремление док'гора изложить срои впечатления от ииде иного и пережитого в литературной форме. В конце 1881 г. Кокосов покинул Кару. Его от-,езд был связан с переводом на Сахалин относительно либерального начальника кагор! и Кононовича. Не надеясь на то, что новые условии па каторге буду г благоприятны для дальнейшей службы, Кокосов тоже добился перерода в город Акту на маньчжуро-китайской границе. Новая служба была связана с .■.¡ныочиеленными разъездами, что позволило доктору близко ггознако^пгсься с Забайкальем. В Акте Кокосов прожил с шгпияпннм перерывом (служба в Чите с 1890 но 1896 ir.) семнадцать лег. Период с 1873 по 1900 гг. к жизни доктора можно охарактеризовать как время подготовительной лигературкой работы. С 1900 г. начинается переписка Кокосова с редакциями столичных газет ц журналов. "Русское богатство" заинтересовалось произведениями на "каторжную тему'7. ТТ.К.Мнхай.товсктгй ответил начинающему автору, что при благоприятных цензурных услсшня?,|?го очерки могут быть напечатаны. Такой момент на ступил только в мае 1802 г., когда в "Русском бога ¡стне" был опубликован очерк В.Я.Кокосова "Не наш" и редакции В.Г.Короленко. С 1У02 г. произведения В.Я.{Сокосова стали публиковаться в "Русском ботагстве". "Современнике", "Бодром слове", литературном приложении к журналу "Нива". "Русских ведомостях" и других столичных íi провинциальных изданиях. Сохранилась переписка В.Я. Кокосова по поводу издания ряда своих произведений с В. 1'. Короленко, ТТ. Ф. Якубовичем. С. Н. Шубтшскшг, II. К. М пхайловским, В.А.Тихоновым, В.А.Поссе, А.М.Горьким и др. В связи с народнической ориентацией "Русского богатства" следует ош'шл, что Кокосов публиковался г; журнале, не будучи народником.
В 1903 г. доктор был переведен в европейскую часть России, служил в Воронеже, Минске и Бобруйске. В Нижнем Новгороде, последнем месте службы. Кокосов вышел в pwvhbkv в 1907 г. в чине действительного статского советник.*!. Последние годы жизни писателя были заполнены литературной работой, частной медицинской практикой, посильной общественной деятельностью и воспитанием детей. Многочисленные творческие планы, в том числе и издание новых сборников в "Вятском книгоиздательском товариществе", были прерваны смертью Кокосова. Писатель умер 17 (30) октября 1911 г.
' Кокосоя В.Я. Особая категория. ■ ТИТ, КП 15201/ 2в.
о
На следующем после смерти Кокосова заседании Нижегоролдского общества врачей Т.М.Рожанский назвал Владимира Яковлевича "русским доктором Гаазом по чистоте души и искренней любви, с какой он относился к отверженным колодникам, в!(дя в них прежде всего Человека и стараясь всячески облегчить, насколько это было в его силах, их тяжкое положение".1
Задачей второй главы - "Проблематика произведений Кокосова и творчество писателей-современников" - является анализ основных тематических циклов творчества В.Я.Кокосова в широком историко-литературном контексте.
Раздел 1. "Цикл рассказов и очерков В.Я.Ков;осова "Из воспоминаний врача о Карийской каторге". Традиции и авторское своеобразие в изображении "каторжно!! жизни" и ее обстановки"
К "карийскому циклу" можно отнести 29 рассказов и очерков писателя, в том числе посмертный рассказ "Каторжанин Горшков", но современники знали В.Я.Кокосова прежде всего как автора "Рассказов о Карийской каторге".
При анализе произведений о "тюремной и каторжной жизни" закономерно возникает вопрос о влиянии русской литературной традиции и прежде всего -"Записок из Мертвого дома" Ф.М.Достоевского. Выражение "Мертвый дом" стало нарицательным, и у многих авторов можно найти непосредственное обращение к произведению Ф.М.Достоевского.
Начиная с Достоевского, литературу стала интересовать психология каторжника, его быт, особенности режима, будни и праздники тюрьмы. Поставив задачу ""представить весь наш острог и все, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине"2, писатель подчиняет ей изображение отдельных характеров. Чтобы дать представление об общей жизни острога, Ф.М.Достоевский" вводит в книгу массовые сцены. Вслед за Ф.М.Достоевским такую же задачу поставил себе и П.Ф.Якубович, строя свое повествование по принципу "от общего к частному". Если же обратиться к "карийскому циклу" В.Я. Кокосова, то можно заметить другой подход к материалу: частные примеры, порой конкретно-ситуативные, отдельные характеры и типы каторжников и других людей, связанных с каторгой, создают в итоге целостную картину жизни насильственно обособленной группы людей, какой была Карийская каторга 70-х гг. XIX века.
1 Речь Т.М.Рожанского дат. по: Зодотшщкий В.Н. Памяти В.Я.Кокосога // Кругозор. - Спб., 1913. - Кн. 1. - С. 98.
2 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Поли. собр. соч.: В 30 т. - Л., 1972. - Т. 4. -С. 220.
"Карийский цикл" рассказов н очерков В.Я.Кокосоза открывает очерк "Не наш". Писатель обратился в этом произведении к явлению, ярко выделяющемуся своей необычностью на каторжном фоне. Герой очерка - бывший крестьянин, а теперь каторжник Егор Рожков - формально осужден за бродяжничество. Но неповиновение чластнм исходит пл сноеобразчого религиозно!о мировоззрения тероя. Подробно описывая систему взглядов своего героя. Кокосов вплотную подошел к тон же проблеме, которую поставил и молодой Короленко в рассказе "Яшка" (1880), Способно ли общество к религиозной терпимости? Имеет ли право на существование религиозный фанатизм? Эти вопросы глубоко волнуют обоих писателей. К теме религиозного протеста В.Я.Кокосов обращается и в рассказах "Пустынник" (1908) и "Тюремный философ" (1910).
Образ человека, страдающего в яаключтм да свои релвпюаяые убеждения, восходит еще к мятежному протопопу Аввакуму. Со шорой половины XIX века образ религиозного подвижника становится типическим. В "Записках из Мертвого дома* Ф.М.Достоевский описывает старика-старовера, оказавшегося ни каторге за поджог единоверческой церкви. Эпизодический персонаж рокока Л. Н .Толстого "Воскресение" - старик, не признающий никакой веры и именующий себя просто Человеком. Нечеловеческие страдания в тюрьме принимает Лукьян из романа С.М.Ск*пника-Крав>шнского "Штундпст Павел Руденко".
Атмосфера, пропитанная религиозной нетерпимостью, может сформировать и другой тип личности. BaciLTiiii Терпунов из рассказа В.Я.Кокосова "Бродяжья дута" (1910) рис среди раскольников, в раннем возрасте начал прислушиваться к и> поучениям бежать "из мира антихристова". Уже в детстве несколько раз бегал мл дома. Был осужден на каторжные работы за святотатство (кражу из церкви антиминса для нужд раскольников). Стремление к побегам дтало стержнем его личности, навсегда потерянной для общества.
Василий Терпунов принадлежит к типу каторжников с неуемной жаждой воли. Они не способны, несмотря на строжайший надзор, смириться со своим песнободным состоянием. Таких бунтарей было немало среди 30 тысяч уголовных каторжников, с которыми Кокосов столкнулся зо время своей карийской службы. Бунтарями можно назвать бессрочного каторжника Путина; Федора Срублевоза; беглеца из рассказа "На ура!". Зги люди вызывают не только сочувствие, но и определенное уважение, хотя, разумеется, автор далек от их идеализации. В рассказе "На ура'" писатель проявляет интерес не к психологии беглеца, не. к
мотивам побега, автор восхищается самой сущностью этого поступка, если так можно выразиться, его внутренней красотой.
Каторга немыслима без побегов. А.П.Чехов в XXII главе "Острова Сахалин" детально анализирует причины побегов, их осуществление и репрессивные меры, Ф.М.Достоевский, связывая стремление бежать из острога с пробуждающейся весной природой, описывает в "Записках из Мертвого дома" тщательно продуманный, но неудавшийся побег двух арестантов, вступивших в сговор с конвойным. Неистребимое свободолюбие стало причиной отчаянного поступка каторжника Василия Семенова из рассказа С.Я.Е.чпатьевского "Отлетает мой соколик" (1892). Тоска по воле, скрытая в словах каторжной песни, вырастает в неудержимое стремление к побегу. Сама песня как бы гипнотизирует окружающих и помогает бежать Василию. Жажда свободы толкает каторжшшов на серьезные испытания, многодневные скитания по тайге без теплой одежды и пищи. Побег возможен даже с острова Сахалин. В рассказе В.Г.Короленко "Соколикец" описан крайне дерзкий и опасный побег одиннадцати каторжников. Повествователь находит в этом побеге "поззшо вольной волюшки".1
Буш: каторжника может выражаться не только в побеге, но и в каком-либо дерзко-отчаянном поступке, влекущем за собой новый срок, наказание плетьми или даже казнь. Такой протест медленно зреет в луше Антона Горшкова ("Решенный", "Каторжанин Горшков"), и последней каплей становится крайняя степень ушпкения - принародный бесстыдный обыск, который учиняет Горшкову тюремный приставник Потемкин. За покушение на Потемкина Антон Горшков был приговорен к смертной казни. "Каторжанин Горшков" - более поздний вариант рассказа В.Я.Кокосова "Решенный". В этот вариант автор включил историю болезни Горшкова, описание его пребывания в лазарете и бесед с доктором. Эти дополнения введены писателем с целью усиления критического пафоса рассказа,- до какого предела может дойти человек в условиях систематического унижения.
Тема "униженных и оскорбленных" проходит почти через все произведения "карийского цикла". II самое трагичное в этой теме - судьба детей. Если дети поселенцев, по наблюдениям А.П.Чехова, как-то оживляют и облагораживают сахалинскую атмосферу, то на Каре они были вынуждены с младенческого возраста переносить все тяготы тюремного быта. Рассказ В.Я.Кокосова "Яшка"
Короленко В.Г. Соколннец // Собр. соч.: В 10 т. - М., 1953. - Т. 1. - С. 171.
(1906) завершается насильственной смертью восьмилетнего героя в камере женской тюрьмы. В этом произведении нет прямого морализирования. Бесчеловечность, звериная жестокость убийства ребенка подчеркнута тем, что это событие заставило содрогнуться бсго каторгу, привыкшую, казалось бы, к самым жестоким преступлениям. Другой искалеченной детской судьбе посвящен рассказ В.Я.Кокосова "Елька" (1907). "Елька" - это история изломанной дуппг, гибель беззащитной красоты в столкновении с грязью жизни.
Действие этого рассказа, как и многих других рассказов Кокосова, происходит в лазарете. Это связано с автобиографическим моментом: наблюдения врача дали писателю материал для многих произведешь. У Достоевского и Мелышша-Якубовкча лазарет присутствует в качестве одного из эпизодов каторжной жизни. Чехову он дает обширный материал для изучения Сахалина, а в рассказах Кокосова - это основной и своеобразный фон, место, где разыгрываются житейские драмы. В лазарете умирает старик Ремнев. проводит последнюю ночь перед казнью Антон Горшков, падает в порыве благодарности на колени Федор Срублсвов. Присутствие в некоторых рассказах нескольких точек зрения также связано с обстановкой лазарета: в роли рассказчика могут выступать сам доктор, фельдшер, пришедший на прием больной или даже сам наказанный.
Образ доктора в карийских рассказах и очерках В.Я.Кокосова во многом автобиографичен. Карийский врач предстает перд читателем чутким и гуманным человеком, искренне сочувствующим чужим страданиям. Он вызволяет из карцера Егора Рожкова, берет на себя ответственность за отлучку Федора Срублевова, подкармливает истощенного Яшку Рубанкова. Отзывчивость доктора находит отклик и в огрубевших душах каторжников. Врачу, так же, как и священнику, приходится выслушивать нелегкие признания. Накануне казни в лазарете звучит исповедь Антона Горшкова. Религиозный фанатик Ремнев перед смертью начинает сомневаться в существовании Бога и именно доктору поверяет он свои терзания.
Автобиографический герой в "карийском цикле" дан в развитии, в преодолении романтических иллюзий и собственных слабостеей. Образ доктора в рассказах и очерках В.Я.Кокосова родственен ''молодом;.', просвещенному, гуманном}' врачу"1 из очерка В.М.Дорошевича "Как я попал на Сахалин".
'" Дорошевич В.М. Как я попал на Сахалин. - М., 1905. - С. 84.
п
От темы тюремной медицины, которая присутствует почти в каждом произведении о каторге, для писателя неизбежен переход к теме наказаний. В "Записках из Мертвого дома" наказанный появляется в лазарете, и для рассказчика это целое событие. К теме экзекуции Достоевский возвращается и при описании бани, где всего лишь одна деталь - уродливо багровеющие рубцы на каторжных спинах - заменяет пространное авторское отступление. А.П.Чехов, описывая виды наказаний на Сахалине, приводит в качестве примера случай, свидетелем которого он оказался, - наказание Прохорова. В центре внимания повествоввания - и палач, и сак наказанный, и гнетущая атмосфера постоянных телесных наказаний. П.Ф.Якубович входит в системе наказаний, введенной в Шелайской тюрьме, русскую крепостническую подоплеку. В. Я. Кокосов в ряде рассказов пытается проникнуть в душевное, состояние каторжника перед экзекуцией. Появление наказанного привычно для карийского лазарета. И вот в этой обыденности Кокосов сумел показать и глубокую трагичность, и безысходность, и тягостное сознание собственного бессилия у автобиографического героя.
Одна из обязанностей врача - необходимость медицинского освидетельствования заключенного перед наказанием - послужила основой рассказа В.Я.Кокосова "Практика" (1903). При осмотре каторжника Лучки Непомнящего доктор не обнаружил буквально ни одного живого места на теле бродяги: всюду виднелись рубцы и шрамы. И тем не менее по положению о наказаниях этот человек считался способным перенести удары плетью. А для Розалии Дачерос, которой предстояло стать матерью, телесное наказание отдвинулось на год. Вопрос об освидетельствовании затрагивает и А.П.Чехов в "Острове Сахалин". Кокосов, в отличие от Чехова, не придерживается строгой документальности в рассказе "Практика", что накладывает отпечаток на стиль авторской речи. Порой кажущаяся сдержанность повествователя переходит в ярко выраженную эмоциональность, боль за поруганное человеческое достоинство.
С темой наказаний тесно связана и зловещая фигура палача, которая присутствует почти во всех произведениях о каторге. Ф.М.Достоевского этот тип интересует прежде всего с точки зрения психологии. У Кокосова палач фигурирует во многих карийских сюжетах. Фельдшер в рассказе "Елька" сообщает доктору о том, что для "усмирения" непокорной девчонки Демидов призвал палача Сашку. Палач появляется в заключительной сцене повешения
("Решенный"). Фельдшер Морозов, своего рода "каторжный Вергилий" для автобиографического героя, подробно рассказывает доктору , каким образом каторжники пытаются смягчить для себя наказание по предварительному уговору с палачом ("Трофимыч", 1904). В восприятии Вани, сынишки фельдшера, палач предстает как существо из запредельного мира, нечто сродни вурдалаку ("Трофимыч").
Судьба тюремного палача Василия в рассказах "Палач" (1911) и "Не жизнь" (опубликован в 1912 г.) стала своеобразным продолжением "карийской темы" в творчестве В.Я.Кокосова. Жанр "Палача" определен писателем как психологический этюд. В этом рассказе Кокосов анализирует причины выбора человеком столь недостойной профессии. В тюремной камере шесть арестантов мучительно раздумывают над предложением надзирателя войти в должность палача. В авторских наблюдениях ощущается реминисценция из Достоевского: "На фоне тюремных лишений, стеснений мелькали заманчивые картины надзирательских благополучии: пробуждался физический ЗЕерь, заглушавшшгся отсутствием возможности".1 У А.П.Чехова в книге "Остров Сахалин" палач показан за "работой", упоминается также и о прежнем палаче, который за какую-то провинность был наказан Терским, пришедшим ему на смену. Писатель вставляет только одно авторское замечание, в котором - весь Чехов с его природным даром видеть комическое в трагическом: "Говорят, если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, то они заедят друг друга до смерти".2
В упомянутом выше рассказе Кокосов исследует социальные и психологические мотивы, побуждающие человека стать палачом: тяжелое материальное положение, страсть к наживе, желание отомстить за испытанное наказание. Писатель убедительно показывает, что в палачи идет не самый последний человек. Таким он становится только в процессе "службы", постепенно утрачивая человеческие черты. Выбор этого пути мучителен для любого заключенного, который предполагает в своих тяжких размышлениях и будущие муки совести, и божью кару, и явления по ночам повешенных, и всеобщее презрение. Не случайно название рассказа ''Не жизнь", сюжетно связанного с "Палачом". Выйдя на свободу, бывший палач Василий Жучков не может жить по-старому, он отторгнут крестьянским обществом и вынужден покончить с собой.
1 Кокосов В.Я. Палач // Современник. - Спб., 1911. - Кн. 5. - С. 4.
2 Чехов А.П. Остров Сахалин // По,та. собр. соч. а писем: В 30 т. - Т. 14 - 15. - С. 118.
И
Тип палача открывает мрачную галерею, mutatis mutandis, "унижающих и оскорбляющих": сластолюбец Демидов ("Елька"), циник Совраев ("Гулянка", 1907), блудливый лицемер Шарабарин ("Ласковый", 1905), бесстыдно алчный Потемкин ("Решенный", "Каторжанин Горшков'"), казнокрад полковник Марков... Гнетущее впечатление от этих "администраторов" сглаживают фигуры отставного приставника Лагшшкова ("Тарас Титыч", 1907), "дедушки Магарыча" ("Ласковый", "Яшка"), фельдшера Алексея Трофимовича Морозова ("Трофкмыч". "Елька") и отставного капитана Огурцова ("На этапе", "Случай" -1907). Капитан Огурцов, получивши должность этапного начальника, думая о своих бритоголовых подопечных с некоторой опаской. Но на второй день службы в этой должности он сделал арестантам маленькую поблажку - разрешил снять кандалы при купании, и, к его удивлению, никаких происшествий не было. С тех пор страхи пропали: "разглядел: идут в каторгу люди".1
Эта фраза, прозвучавшая из уст капитана Огурцова, отражает гуманистическую направленность всего "карийского цикла".
Раздел 2. «Незаконченная повесть В.Я.Кокосова "Разлив"» В этом разделе анализируются произведения, связанные по своей проблематике с "карийским циклом" В.Я.Кокосова, а также рассматривается ряд текстологических вопросов, относящихся к двум публикациям рассказа "Гидра" (1923 и 1955 гг.).
Рассказы "Гидра", "На усмирении", "Проблески", "Разбудили", "Приговоренный", по первоначальному замыслу писателя, представляли собой главы повести "Разлив", работу над которой Кокосов начал в 1908 г. Замысел повести остался неосуществленным, но отдельные ее главы можно рассматривать как цикл сюжетно связанных рассказов.
Все рассказы этого хцжла пронизаны гневным протестом В.Я.Кокосова против применения смертной казни в варварской, средневековой форме и введения воегшых судов. Эта общественно значимая проблема вызвала появление "Рассказа о семи повешенных" Л.Андреева, публицистических статей "Не могу молчать" Л.Н.Толстого и "Бытовое явление" В.Г.Короленко. В художественном пиане наиболее интересен рассказ В.Я.Кокосова "Гидра", который в рукописи был одобрен Л.Н.Толстым. С учетом замечаний Л.Н.Толстого В.Я.Кокосов внес ряд дсполнешш в рассказ. В результате авторской правки возникло около десяти вариантов рассказа "Гидра". Журнальный текст 1923 г. (публикация
1 Кокосов Б.Я. На этапе // Кокосов В.Я. На Карийской каторге. - Чита, 1955. ■ С. 94.
1Л
осуществлена сыном писателя - В. В. Кокосовым) имеет существенные расхождения с текстом читинского издания ("На Карийской каторге". Чита, 1955). Имеется еще один вариант, на наш взгляд, решающий поставленную в реферируемом исследовании проблем)' выбора источника основного текста. Это рукопись, хранящаяся в Государственном музее А.М.Горького в Нижнем Новгороде. Эпизод ожидания казни в этом варианте Кокосов выделил в самостоятельный рассказ - "Смертник". Текст этого варианта написан переписчиком с авторской правкой В.Я.Кокосова. В 1913 г. В.Н.Золотницкий опубликовал в журнале "Кругозор" рассказ В.Я.Кокосов "Приговоренный" (вариант "Смертника").
Ожидание казни становится для человека страшнее самой казни. Смертник Кремнев теряет временную ориентацию, перестает ощущать смену дня и ночи. Рефлекторное поведение чередуется с приступами отчаяния. Осознание неотвратимости казни разрушает психику. проявляясь внешне на физиологическом уровне. В изображении этого мучительного душевного процесса рассказ "Приговоренный" (как и другие рассказы В.Я.Кокосова о последних днях смертника - "Решенный", "Каторжанин Горшков") сопоставим с "Рассказом
0 семи повешенных" Л.Андреева, но при всем сходстве жизненного материала принципиальны и различия в трактовке острозлободневной темы. Л.Андреев, отталкиваясь от социальной проблематики, обращается к вечным общечеловеческим проблемам жизни и смерти. Сама работа над рассказом стала для писателя нравственным потрясением. Рассказы В.Я.Кокосова о смертниках более документальны, фактографичны. Казнь бесчеловечна и своей обыденностью, привычностью для жизни каторги и тюрьмы. В рассказе "Гидра" обыденность казни подчеркивается выразительной предметной деталью: палач подходит к осужденному, "шлепая опорками на босых ногах"1 . Эту же обыденность казни как характерную черту российской действительности подчеркнет и В.Г.Короленко в названии своей обличительной статьи - "Бытовое явление".
Четвертая глава предполагаемой повести "Разлив" была озаглавлена "Проблески (Раздумала)". Этот фрагмент не публиковался, в целом его можно рассматривать как набросок, поскольку автором была намечена в основном событийная канва главы. Заседание военного суда в этой части повести показано через восприятие девушки из публики - двадцатилетней генеральской дочери.
1 Кокосов В .Я. Гидра // Кокосов В.Я. На Карийской каторге. - Чша, 1955. - С. 136.
Образ Лидочки в известкой нам редакции слитком схематичен. Психологически более убедительным представляется изображение душевного прозрении надзирателя Рябова (рассказ-глава "Разбудили". опубликован в 19Î3 г.). Осолшше происходящего пришло к надзирателю не сразу. Й толы«) страх за собствешюго сына, вызванный небольшим домашним: происшествием, заставил Рябова бспомнить и о чужом, раздавленном лошадью ребенке. Отец погибшего ребенка был приговорен к смертной казни. Впервые надзиратель задумывается о том, насколько бесчеловечна его должность. В душе надзирателя впервые происходит переоценка ценностей. Кульминацией рассказа становится внезапное прозрение. Рябова. Жизнь впервые поставила надзирателя перед необходимостью выбора между чувством и долгом, точнее, исполнением служебных обязанностей. В такую же ситуацию выбора попадает и герой рассказа "Анафема"
A.П.Куприна. Отец Олимпий слагает с себя сан. Надзиратель Рябов решает оставить службу, также повинуясь велению разбуженной души. Неожиданность раакянки достш'аск'я особым кон гам. ом событий в жизни героев: "нанизыванием" эпизодов с возрастающей степенью психического напряжения героя (в рассказе
B.Я.Кпкосова "Разбудили") и сопоставлением контрастных эпизодом (к рассказе А.И.Куприна "Анафема").
Динамичность повествования характерна для всех фрагментов незавершенной повести "Разлив", кроме рассказа-главы "На усмирении" (опубликован б 1955 г.). Тема расправ с "бунтовщиками" была "освоена" литературой рубежа ХТХ - XX веков. Так, например, в главе "Пьяный курган" романа С.Н.Сергееиа-Ценского "Бабаев" через сюрреалистическое восприятие героя проходят вполне реальные события: порка крестьян, разграбивших барскую усадьбу, обед у священника - отца Савелия. Одним из первых обратил внимание на становящееся привычным явление российской действительности Г.И.Успенский в очерке "Рабочие руки" (1887).
Демократическая позиция автора определила обличительный пафос кокосовского рассказа "На усмирении". Образы ссаула Буркина, отца Сидора, попадьи Аграфены Коидрагьесны даны и сатирическом освещении. Кульминацией рассказа становится скандал, учиненный пьяным есаулом к поповском доме во время званого обеда.
Если обратиться к фрагментам повести "Разлив" в целом, то при всей незавершенности отдельных частей авторское отношение к изображаемым событиям выражено с предельной ясностью. Проблематика цикла:
противостояние власти и народа, антигуманность закона, юридические и этические аспекты смертной казни - вынесена далеко за пределы частного случая.
Раздел 3. ''Армейская среда в произведениях В.Я.Кокосова" По долгу службы В. Я. Кокосов был свидетелем многих событий, описанных им впоследствии. Как военный врач, он досконально знал армейскую среду. Ряд рассказов и очерков В.Я.Кокосова о жизни военных ("В стороне от жизни", 1910; "Визитация", 1911; "Старший врач", 1911; "Слезы" (в рукописи); "Грп-Гри", 1910; "Толчение воды" (опубликовано в 1912 г.) и др.) тематически и ситуативно сопоставим с такими произведениями А.И.Куприна, как "Дознание", "Свадьба", "Прапорщик армейский" и "Поединок". Подобное сопоставление обнаружтает общность отдельных мотивов. В композиционном же плане у Кокосова описание превалирует над изображением.
Армейская среда подчиняет человека своим неписаным законам. Солдат-новобранец теряет свою индивидуальность, становясь элементом, "винтиком" общего п безликого целого. Но сами персонажи-солдаты в изображении В.Я.Кокосова отнюдь не обезличены.
Военная служба воздействует крайне отрицательно и на личность молодого офицера. Возвышенные идеалы юности заменяются ложным понятием офицерской чести, которая в итоге сводится к своевременной уплате карточных долгов, ощущению превосходства над штатскими и вздорной амбициозности. Развлечениями большинства офицеров становятся карты, пошлые романчики, скандалы в общественых местах. Да крайности невежественный прапорщик Слезкин в рассказе А.И.Куприна "Свадьба" в пьяном виде учиняет безобразный скандал па еврейской свадьбе, который заканчивается для офицера весьма позорно: сломанной шашкой и сорЕанными погонами. В рассказе В.Я.Кокосова "Гулянка" описывается пьяный разгул офицеров "каторжного" батальона. Сводно-карийский батальон был последним местом службы этих "защитников Отечества", чьи нравы противоречили всем нормам цивилизованного общества. В прозе А. И. Куприна показаны только отдельные симптомы кризиса личности, проявляющиеся в бездуховности, цинизме, нравственной опустошенности. Армейщина может привести человека и к полному распалу личности, что и происходит с героем романа С.Н.Сергеева-Ценского "Бабаев". Сопротивляться развращающему влиянию среды неимоверно трудно. Еще труднее найти в ней героя, утверждающего в жизни ценности, близкие автору. Таким героем можно было бы назвать военного врача Ефремова (В.Я.Кокосов, "В стороне от
жизни"), ко и его попытки актггочоп) сопротивления среде обречены на поражение. За самоубийством Ефремова аьфнсолыпается трагедия целого слоя интеллигенции, не реализовавшей себя, не нашедшей достойного места н жизни. Образованный человек вынужден существовать в о шугреиие чуждой ему среде, обрекая себя на мучительнее одиночество. Другой путь - приспособленчество, п тогда жизнь разменивается на служебные дрязги и бессодержательное времяпрепровождение. Символичны названия двух рассказов В.Я.Кокосова о жизни военных - "Толчение воды" и "В стороне от жизни".
В.Я.Кокосова. объединенные условным названием "Из житейских встреч и впечатлений". Произведения этого цикла неоднородны в жанровом и художественном отношении. Тематически можно выделись рассказы и очерки о Забайкалье и нижегородском крае. Писатель обащалея к жанрам этнографического, нравоописательного очерка, сценки, юморески, пасхального и святочного рассаза, эссе. Многие рассказы Кокосова в жанровом отношении сближаются с так называемыми беллетристическими очерками. В агих произведениях Кокосова перед читателем предстают традиции и быт Забайкалья в весьма широком диапазоне: от свадебных обрядов ("Ромушка'', l9i0) до бегов, охогы и рыбной ловли ("Бегунцы", "Пробники". "Накануне бегов", "Бега", "На рыбалке" - 1911 и др.). Ряд произведений забайкальской тематики представляет только чисто эт!хографическяй интерес. Но и в рассказах о местных обычаях автором неизменно подчеркиваются лучник черты "сибирского характера": смекалка, азартность, предприимчивость, изобретательность, чувство швстстБеккостн и солодарности.
Произведения забайкальской и нижегородской тематики своеобразно связывает рассказ "Родимая сторонушка" (1911). тема которого - поэтическая ностальгия простого человека, нолею судьбы разлученного с родным краем. Рассказ старого ямщика знучит своего рода пишем Нижегородчште, ее природе и, обычая.1-!. Нижегородские реалии присутствуют и в других произведениях Кокосов;;: юмористическом рассказе "По квартирным мытарствам" и очерке "В пароходном чрево". Тема очерка нижегородского цикла - "Бродяга" - выходит из рамок описания местного быта п нравов. Литература рубежа XIX - XX веков запечатлела процесс "выламывания" из жизни, вызвавший появление босяков, обитателей "дна" A.M.Горького, "стрелков" А.И.Куприна, "трущобных люден" В.А.Гиляровского, "огарков" С.Г.Сьитальца, "фигур" н "медальонов"
реферируемой диссертации анализируются рассказы и очерки
Д.Н.Мамина-Сибиряка. Судьба героя очерка В.Я.Кокосова "Бродяга" - Зосимы Петров1гча Преволевского - вписывается в традиционную схему социального и нравственного падения человека, утраты им чувства собственного достоинства, Путь на "дно" был бы для него типичным, если бы не оригинальная подробность биографии героя - его происхождение из духовного звания. Наличие в прошлом сана выделяет Зосиму из среды своих литературных собратьев. Осознание бесперспективности, трагической неустроенности жизни лишает героя каких-либо надежд.
Мотив судьбы, Провидения отчетливо прослеживается и в пасхальных и святочном рассказах Кокосова: "Кульерская" (1908), "В бурятской юрте" (1908), "По обету" (1910), "Слепец" (1911), "Новогоднее счастье" (1910). В так называемых "календарных жанрах" писатель не смог подняться над традиционным уровнем рождественской и пасхальной беллетристики, в отличие, например, от В.Г.Короленко, А.П.Чехова и А.И.Куприна, но в указанных произведениях Кокосова привлекает осугствие слащавого морализаторства, искренность и задушевность тона повествования. Несомненным достоинством этих рассказов является художественная убедительность неожиданных поворотов сюжета.
В разделе. 5 рассматриваются произведения автобиографической и мемуарной прозы В.Я.Кокосова: незаконченная повесть "Любопытная встреча" (опубликована в 1912 г.), рассказ "Картофельный бунт" (опубликован в 1913 г.) ■и очерк "К воспоминаниям о Н.Г.Чернышевском" (1905).
Третьей главе - "Язык и стиль произведений В.Я.Кокосова" -предшествует краткое теоретическое обоснование предпринятого в ней лингвостилистического анализа.
Раздел 1. "Воспроизгедение живой народной речи в рассказах и очерках В.Я.Кокосова"
В языке прозы В.Я.Кокосова сочетаются черты различных диалектных влияний, прежде всего - забайкальского и сибирского. В самой стилистической манере повествования запечатлен склад ума бывалого сибиряка: в игре словом, в синтаксической конструкции предложений, отступающей от литературных норм. Для передачи живой, непосредственной, экспрессивно окрашенной речи писатель широко использует бессоюзные сочетания, сочинительную связь, повторы, междометия, эллиптические конструкции, диалектные и просторечные выражения с присущим им морфологическим своеобразием. В речи юкосовских героев
прослеживается и народно-поэтическое, фольклорное начало. Многие персонажи рассказов и очерков КоЕсосова как бы впитали в себя не только бытовые традиции Забайкалья, но и его язык, сохранив при этом некоторые черты прежней языковой среды. Создавая некий обобщенный речевой портрет "бывалого сибиряка", Кокосов в то же время стремится придать своим героям черты ярко выраженной речевой индивидуальности.
Язык "бывалого сибиряка" во многом близок к языку каторжника (в числе прочих, сибиряками становились и "поселенцы", впоследствии осевшие в Сибири, как, например, герой рассказа Кокосова "Родимая сторонушка"). Многим персонажам "карийского цикла" присуща яркая, запоминающаяся манера выражаться. Меткость, образность народной речи "рассыпана" в пословицах, поговорках, остроумных прозвищах ("Не наш", "Антип по промыслам катит", "Плешивый Гитыч" и т.п.). Своеобразие народной речи отчетливо проявляется в пословицах, поговорках и идиомах.
В разделе 2 исследуется функционирование фразеологических и паремиологических единиц в условиях диалектного воздействия (на материале произведений В.Я.Кокосова).
В текстах литературных произведений второй половины XIX - начала XX века распространено употребление фразеологических единиц, содержащих диалектные компоненты. Включение диалектизмов в состав фразеологических единств ведет к переосмыслению их образности и экспрессивности, что создает яркую речевую характеристику персонажа. Рассматривая подобные случаи, можно Бкделить несколько основных типов модификации фразеологических единств, из которых наиболее продуктивен тип, связанный с окказиональным словоупотреблением. При этом фразеологизм дополняется новым компонентом, который усиливает экспрессивность высказывания.
Очевидно, что под влиянием диалектной среды подвергаются изменениям также пословицы и поговорки, причем иногда их значение в художественном контексте оказывается антонимичным и общелитературному, и диалектному соответствиям.
В разделе 3 рассматривается отражение ряда социально-речевых диалектов конца XIX - начала XX века в произведениях В.Я.Кокосова.
Словесно-художественная манера КокосоЕа детерминирована языковой средой его творчества. Более тридцати лет жизни писателя было связано с Сибирью и Забайкальем. По роду службы в военно-медицинском ведомстве
Кокосову часто приходилось иметь дело с различными документами: приказами, штструкциями, служебными предписаниями, циркулярами. Обстоятельный, почти "протокольный" стиль авторского повествовашьч, безусловно, сложился у Кокосова под влиянием стиля документа. В языке автора-повествователя нет, конечно, канцелярских штампов, но стремление к достоверности, фактографичности требовало определенных форм выражения. Иногда документ даже вводится в текст произведения (например, в очерке "Пасынки"). В ряде рассказов и очерков Кокосова используется и медицинская терминология. Важную роль в формировании стиля писателя сыграло хорошее знание им языка военных, мелких чиновников, священнослужителей и даже жаргона картежников.
Писатель использует различные способы индивидуализации речи персонажей. Речь его героев представлена в живых диалогах, с воспроизведением ее своеобразных примет. Очень часто речевая манера героя иронически оценивается в ремарках, в авторском повествовании. Таким образом, речевая характеристика персонажа выступает как одна из форм оценки писателем изображаемых событий.
В Заключении реферируемой диссертации сформулированы основные еыводы и намечены перспективы дальнейших исследований. Автор обосновывает органичную связь "Рассказов о Карийской каторге" с русской литературной традицией. Но, используя опыт предшественников, Кокосов не теряет творческой индивидуальности и находит свой, оригинальный подход к теме "каторжной жизни". Жан^вая специфика прозы Кокосова позволяет "укрупнять" план повествован: 1я. глубже исследовать определенное явление, только намеченное в широком эпическом полотне.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
1. "Карийский доктор" (О В.Я.Кокосове) // Петряевские чтения - 1988: Тезисы докладов. - Киров, 1988. - С. 37-38.
2. Карийский доктор: Писатель-демократ Кокосов Владимир Яковлевич. -Акша, 1990. - 16 с.
3. В.Я.Кокосов и политические ссыльные Карийской каторги // Петряевские чтения - 1991: Тезисы докладов. - Киров, 1991. - С. 61-62.
4. В.Г.Короленко и В.Я.Кокосов // В.Г.Короленко и русская литература: Тезисы докладов зональной научной конференции. - Глазов, 1991. - С. 15-17.
5. Некоторые особенности языка и стиля произведений В.Я.Кокосова // Проблемы истории и современного функционирования национальных языков. -
М., 1991. - С. 22-23.
6. В.Я.Кокосов в дореволюционной критике и библиографии // Петряевские чтения - 1993: Тезисы докладов. - Киров (Вятка), 1993. С. 5-6.
7. А.М.Горький и круг нижегородских литераторов начала XX века (В.Е.Чешихин-Ветринский, В.Я.Кокосов, В.Н.Золотницкий) /'/ Ранний М.Горький: Горьковские чтения - 1992. - Н.Новгород, 1993. - С. 177.
8. Генеалогические парадоксы. К истории двух писем А.М.Горького // Горьковские чтения - 1993: Материалы конференции "А.М.Горький и литературный процесс XX века". - Н.Новгород, 1994. - С. 231-235.
9. "Из далеких стран Сибири..." (История письма В.Я.Кокосова В.М.Флорипскому) // Петряевские. чтешет - 1995: Тезисы докладов. - Киров (Вятка), 1995. - С. 24-25.
10. Карийская проблематика в произведениях В.Я.Кокосова и творчество писателей-современников: Материалы для спецкурса "Каторжная тема в русской литературе конца XIX - начала XX века" /,/ Теория и практика преподавания русской словесности: Сборник научно-методических статей. - М.. 1995. - Вып. 1. - С. 39-55.
■>л