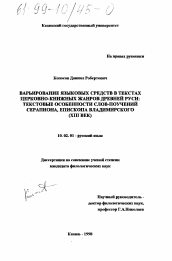автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Варьирование языковых средств в текстах церковно-книжных жанров Древней Руси
Полный текст автореферата диссертации по теме "Варьирование языковых средств в текстах церковно-книжных жанров Древней Руси"
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи УДК 800.2+808.2
Колосов Даниил Робертович
ВАРЬИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ТЕКСТАХ ЦЕРКОВНО-КНИЖНЫХ ЖАНРОВ ДРЕВНЕЙ РУСИ: ТЕКСТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ-ПОУЧЕНИЙ СЕРАПИОНА, ЕПИСКОПА ВЛАДИМИРСКОГО (ХШ ВЕК)
10.02.01 - русский язык
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Казань - 1998
Диссертация выполнена на кафедре истории русского языка и языкознания Казанского государственного университета.
Научный руководитель -
кагвдщат филологических наук, профессор Г.А.Николаев Официальные бппоненты -
доктор филологических наук, профессор В.В. Колесов кандидат филологических наук, доцент А.В. Бастриков Ведущая организация - Удмуртский государственный университет
Защита состоится "«У" ¿7 ¿-/¡-и-Р 1998 Г- в_часов на
заседании диссертационного совета К 053.29.17 по присуждению ученой степени кандидата филологических наук в Казанском государственном университете (420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18).
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Казанского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.
Автореферат разослан "_"_ 1998 г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат филологических наук, доцент (ЗЯ&С^- Р.Э.Кульшарипова
Актуальность темы. По разным причинам до последнего времени изучению
памятников русской дерковно-проповеднической традиции в отечественной лингвистике не уделялось должного внимания. Однако именно эта традиция и эти тексты заложили основания для формирования нормированного литературного языка, что неоднократно отмечалось как российскими, так и зарубежными языковедами. В связи с этим лингвистическое исследование собственно русских текстов, представляющих собой принадлежность названной Традиции, оказывается одной из актуальных задач исторического языкознания на современный период.
При этом предметом исследования должен оказаться непосредственно текст памятника, что также обусловлено современной ситуацией в исторической лингвистике. Этого требует представление о тексте как о линейной структуре, которая подлежит рассмотрению не как "простая сумма элементов, которые необходимо выделять, анализировать, разлагать, но как связанная совокупность, образующая автономные единицы, характеризующиеся внутренними взаимозависимостями и имеющие собственные законы. Отсюда следует, что свойства каждого элемента зависят от структуры целого и от законов, управляющих этим целым" (Л .Ельмслев). Такая характеристика текста с позиций поуровневого исследования системы языка приводит к выводу, что текст разрушает языковые уровни, смешивает их, и соединение разных средств обусловливает необходимость комплексного подхода к тексту.
Кроме того данное исследование опирается на философское представление о тексте как форме энтропии(и как средстве номинации), в своем историческом движении представляющей на каждойновой ступениновые средства выражения денотата.
Таким образом, обусловленная появлением в науке приведенных взглядов на текст "известная переориентация лингвистики от изучения языковой системы на исследование функционирования элементов разных подсистем в текстах и на изучение текстов вообще", предъявляющая семантику как приоритетный объект изучения, обусловила особый интерес к семантике древнего текста, что позволяет утверждать актуальность данного исследования.
Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования
является определение особенностей текстов Серапиона как принадлежности жанра (русская церковная проповедь-поучение), принадлежности периода развития языковой системы (этап перехода от текстового блока и формулы к синтагме и слову как средствам выражения денотата), наконец, принадлежности авторского стиля. В работе делается попытка решить следующие частные задачи:
1. Определить структурную специфику рассматриваемых памятников, основных средств организации текстового пространства и степени участия в этой организации традиционно выделяемых единиц различных языковых уровней.
2. Выяснить степень традиционности построения данных текстов в рамках жанра в целом и, соответственно, определить степень оригинальности текстов Серапиона в использовании средств языка и в создании текстовой образно-символической системы.
3. Описать наиболее интересные сточки зрения исторического языкознания явления и процессы, фиксируемые текстами Серапиона, как собственно структурно-текстологического, так и узко лингвистического плана. Соответственно поставленной задаче мы рассматриваем тексты по нескольким имеющимся редакциям.
4. Отдельной задачей исследования мы полагаем определение отношения текстов Серапиона Владимирского ктексту "Правила" митрополита Кирилла, что вызвано значительным сходством в определенныхмесгах названных памятников (описание нашествия монгольских завоевателей).
5. Дать общую характеристику языкового материала, используемого Серапионом и переписчиками текстов, с учетом его текстообразующей функции и жанровой специфики.
Научная новизна работы. В результате проведенного исследования впервые тексты проповедей Серапиона, епископа Владимирского, оказались объектом собственно лингвистического исследования. Данная работа оказывается также одной из немногих пока попыток приложения теоретических построений философского уровня современной текстологии к древнерусскому тексту - таким образом, в работе осуществляется практическая проверка общетеоретических выводов, постулируемых в ряде исследований последнего времени.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Теоретическую значимость работы определяет совмещение традиционного лингвистического и текстологического подходов к исследуемым памятникам, позволяющее обнаружить многие до сих пор не учитывавшиеся факторы текстовой семантики и разработать новую методику исследования сакрального (а также и любого другого, с той или иной степенью активности внутритекстовых семантических связей) текста, разработка принципов структурного моделирования языковой ситуации на материале конкретных древнерусских памятников. Помимо этой генеральной линии исследования представляются теоретически значимыми некоторые частные наблюдения, сделанные на материале изучаемых текстов, позволяющие в ряде случаев пролить светна некоторые до сихпор темные места современной грамматики и словообразования. К таким наблюдениям, например, мы относим мысль о восприятии производных образований отвлеченного действия как бинарных (производных) единиц носителями языка уже в эпоху Серапиона. Результаты исследования могут быть использованы в лекционных и специальных курсах по исторической грамматике, лексикологии, словообразованию и фразеологии русского языка.
Метод исследования. Специфика исследования предполагала использование различных методов обращения к материалу. Изучениевнутренней структуры текста (и, соответственно, языка) требует особого подхода, в частности гипотетико-дедуктивных методов, опирающихся на формализацию и моделирование языковых явлений. Метод компонентного анализа был привлечен к работе в силу многоаспектного рассмотрения тех или иных единиц - с точки зрения их текстообразующей функции, с точки зрения их соотношения с другими единицами того же языкового ур овня и т.д. Языковые и текстовые единицы рассматрив аются, с одной стороны, с позиций синхронического языкознания, так как небольшой объем и примерное соответствие списков по времени создания, а также единый источник происхождения текстов не предполагают иного подхода. Те же условия необходимо вызывают обращение исследователя к сравнительному методу работы - нас интересовали не только и не столько разночтения между различными редакциями одного итого же текста, сколько сходства в структурно-семантической организации всех выбранных для изучения текстов.
Одновременно принимаются во внимание специфические
особенности различныхредакций памятников, и тагам образом исследование выходит на уровень диахронии, наблюдая эволюцию восприятия текстов на протяжении почти целого столетия. Восприятие материала как иллюстрации развития жанра в целом потребовало включения в работу ряда апелляций к более поздним, более ранним и, наконец, современным моменту создания памятников проповедническим текстам. В целом исследование потребовало применения в работе комплексного метода.
Источники, Материалом для исследования послужили тексты пяти поучений-проповедей Серапиона, епископа Владимирского, (XIII век) по спискам середины XIV - XV веков.
Апробация работы. Апробация работы проводилась на следующих научных конференциях:
1. Межгосударственной конференции "Литература и язык в контекстекультурыи общественной жизни" - Казань, КГУ, 26-29 мая 1992 г.;
2. Международной конференции "Бодуэн де Куртенэ: теоретическое наследие и современность" - Казань, КГУ, 25-28 мая 1995 г.;
3. II Республиканской конференции молодых ученых и специалистов - Казань, 28 июня -1 июля 1996 г.;
4. Межвузовской конференции, посвященной 70-летию профессора В.М.Маркова - Казань, КГУ, 8-10 апреля 1997 г.;
5. Международной конференции "Языковая семантика и образ мира" - Казань, КГУ, 7-10 октября 1997 г.,
а также на итоговых научных конференциях КГУ 1994-1998
гг.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Содержание работы. Во Введении обосновывается выбор и актуальность темы, определяютсяцелиизадачиработы, методы изучения материала, отмечается новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, указывается круг источников и степень изученности данной темы.
Глава I "Описание структурно-семантических особенностей текстов Слов-поучешш Серапиона Владимирского" содержит основные сведения о р а ссм атр ив а емьгх списках поучений Серапиона Владимирского и собственно структурно-семантический анализ текстов. В процессе работы над
диссертацией было обнаружено, что все Слова-поучения, принадлежащие перу Серапиона, строятся по одной модели. Всего Серапиону приписывалось семь поучений. Однако безусловно принадлежащими перу епископа Владимирского в литературе признаются только пять из них - они и послужили материалом данного исследования Четыре из них, содержащиеся в сборнике исхода XIV "Златая Цепь" Троице-Сергиевской Лавры (№11), открыты и напечатаны в первый раз в 1843 году в первой части "Прибавлений к Твор. Св. Отцов" (с. 97- 111,193-205) Филаретом Черниговским. Пятое поучение открыто С.П.Шевыревым в Паисиевском Сборнике исхода XIV века Кирилло-Белозерского монастыря (№1081) и напечатано в его сочинении "Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь".
Здесь и далее тексты проповедей обозначаются цифрами согласно нумерации Петухова Е.В., предложенной в его исследовании как отражение порядка их расположения в "Златой Цепи" и представляющейся нам в достаточной степени соответствующейреальной хронологии создания текстов.
Обсуждаемая модель представляет собой определенную последовательность структурно-семантических "блоков" текста (по В.В.Виноградову - синтаксических целых), объединенных рядом различных "межблочных" связей и отношением к идее текста. В то же время каждый "блок" (или "тема") текста представляет собой определенное единство с точки зрения создаваемого в нем символа-образа и средств выражения, обслуживающих данный "блок". При создании конкретного текста учитывается порядок (последовательность) "блоков" в тексте, их объем и отношение к тексту-образцу (в нашем случае таковым оказыв ается текст Ев ангелия либо одной из книг Ветхого Завета и заданная ими традиция). Приэтом сохранение основной последовательности единиц ("блоков") и основных средств организации того или иного "блока" и связей между ними создают гипертекст - отношение текстов между собой, подобное отношению четырех повествований Нового Завета.
За счет увеличения того или иного "блока" усиливается его значение в семантической картине всего текста. Ключевой образ "блока" распространяется на весь текст, что обуславливает восприятие текста как отдельного произведенияи фиксируется в заглавии текста (ср. Слово №1 - Слово о потрясении; Слово №5 -Олоко о маловерии и т.д.), что опять подводит нас к аналогии с
четв ер о ев ангелием.
Основным средством создания текста ("блока" текста) является повтор языкового знака. Различные виды удвоений языковых единиц всех уровней системы включаются во взаимодействие контекстов-формул и создают в тексте числовую символику, опир ающуюся на парные и, чаще, троичные числовые фигуры.
В ряде случаев отмечается расширение подобных фигур до четырехэлементных и более, что, на наш взгляд, следует полагать поздней корректировкой текста. Основной, как уже было сказано, числовой фигурой в тексте Серапиона является троичная (что закономерно для сакрального текста), причем строящаяся на осложнении существующей пары третьим элементом. Наиболее употребительными средствами создания подобных фигур у Серапиона оказываются взаимодействия лексических, словообразовательных и синтаксических единиц.
Задействование в такогорода отношениях определенных групп слов и форм позволяете большой степенью уверенностиговоршъ, какие явления языковой системы на момент создания текстов воспринимались как регулярные, позволяющие выделять и варьировать слово-и формообразовательные форманты, единицы синтагматики (синтаксиса), морфологии, лексики.
Принадлежность текста Серапиона к жанру поучения отражается в указанном "блочном" строении текста при сохранении четких показателей сакрального памятника: специфический для жанр а з ачин и финал поучения, опор а каждого "блока" на евангельский либо ветхозаветный контекст, последовательность включения "блоков" в текст в соответствии с традиционными принципами символопорождения.
Обособлениерассматриваемых текстов в пределах жанра как русских проповедей осуществляется в подборе средств организации текстовых "блоков" и "межблочных" связей, а также в отношении "блока" к соответствующему контексту-источнику.
Таким образом в текстах Серапиона Владимирского можно видеть то промежуточное звено, появление которого закономерно подводиттехнику созданиятекстакпринципам "плетениясловес", реализованным в творчестве Епифания Премудрого, а отношения между языковыми единицами, строящими текст, к современной системе привативных оппозиций.
Соответственно количеству структурно-семантических единств, выделяющихся в текстах поучений Серапиона, глава I
реферируемой работы разделена на шесть разделов, в каждом из которыхрассматриваются сходства иразлич ия в построении того или иного "блока" текста в разных поучениях.
Первый раздел "Заглавие и зачин" описывает специфические черты начала поучения Серапиона. В частности, в нем обращается внимание на варьирование форм обращения, используемых в зачине поучений.
Зачину Серапионарегулярно содержит обращение врдтиеиш чддд, что вообще типично ддя жанра Слова-поучения. Образцом-источником этого текстового стандарта являются тексты апостоль ских по сланий, где риторические конструкции регулярно включают соответствующие обращения в пределах первой -второйглавыпослания, например, К Коринфянам [Коринф., 1-е, 1,10]: Молю же вы Ердтие нменемт* г(о)с(по)дд ндшегш 1и(су)сд Хр(и)стл, а стиль повествования необходимо выдерживается грамматически в оформлении адресантными средствами -местоимения 3 лица, глагольные формы 3 лица. В жанре Слова такое оформление зачина приобретает характер структурного дифференциального признака.
Выбор тойилииной формы обращения задается контекстом -а именно наличием или отсутствием в нем семантического уровня "Бог". Слова №№ 1, 3 содержат в зачине словоформы господа, ко га, что на символическом уровне текста создает противопоставление "Бог- люди". В этом случае автор поучения отождествляет себя с паствой, используя собирательную форму крдтне. Такое обращение подчеркивает бинарность иерархии. В Слове №3 это объединение автора со слушателями усиливается глагольной формой 2 л. Р1 - почюдимь (в варианте с лексическим удвоением: удивимсд и почюднмьса).
Использ ование слова чддд создает другой иерархическийплан: "проповедник - паства". Эта оппозиция оказывается возможной при отсутствии в зачине лексически выраженной идеи Бога. Здесь субъектом выступает сам автор, используются глагольные формы 1 лица (Слова №№ 2,4,5). Так от Слова к Слову вырисовывается троичная символическая фигура, содержащая две парные оппозиции: Бог и Ердтие, где Ердтие - это автор и чддд) - триада создается противопоставлением пары третьему элементу.
Интересно, что в ряде случаев эта вариативность форм (и в функции обращения, и уже вне ее, что оказывается специфическим свойством текстов Серапиона) проявляется и на дальнейшем
пространстве текста, обслуживая его дидактическую линию.
Разделы со второго по пятый ("Тема знамения" - "Тема греха" - "Тема наказания" - "Тема маловерия") содержат описание тематических "блоков" текста - "тем", представляющих непосредственное содержание поучения.
Так, формула зачина смыкается у Серапиона с формулой, начинающей основной текст поучения, первый "блок" текста. Это конструкция, на дальнейшем пространстве текстаразвертываемая в определенный семантический ряд, задающая основания для структурного и образного развития текста. В ряде случаев зачин и основаразвертываниа дискурса совпадают контекстно, что дало, видимо, возможность утверждать, что "коммуникативная установка текста, его основная идея эксплицируются в самом начале текста, в его заголовке или начальных строках", хотя, на наш взгляд, это отнюдь не правило для древнерусского текста вообще, а скорее, свойство деловых текстов, что подтверждают!! наблюдения над Словами Серапиона Владимирского. Условно этот первый фрагмент текста можно определить как тему "знамения".
Вторым фрагментом или "блоком текста" в поучениях Серапиона выступает тема "греха". Особенность этого внутритекстового единства в том, что оно является связочным, зависимым компонентом, существование которого обусловлено более традицией, образцом, нежели коммуникативной установкой проповеди. Концепт "грех" сяужитпереходом от темы "знамения" к теме "наказания". Соответственно, объем и семантическая наполненность этого "блока" варыфуют от Слова к Слову в зависимости от объема соседних "блоков" и авторской интенции.
Являясь связочным "блок", оформляющий тему греха, подводитразвитиетекста ктеме "наказания за грехи" или, иначе, к теме, связанной с описанием последствий нашествия монголов. Эта тема является наиболее традиционной по набору текстообразующих средств дня текстов Серапиона. Переходя из одной проповеди в другую, варьируя объем и систему выразительных средств, она не только воплощает богатые связи с другими текстами традиции, но и самапо себе представляеттопос относительно разных Слов Серапиона.
В связи с рассмотрением этой части текста поучения Серапиона находится вопрос об отношении текстов Серапиона Владимирского к "Правилу" митрополита Кирилла, на решении
которого здесь можно остановитьсяподробнее.
Сравнивая текст Серапиона в описании нашествия иноплеменников с текстом "Правила" митрополита Кирилла, обнаруживаем ряд совпадений на всех уровнях языковой системы. Такое совпадение заставило предположить наличие связи, преемственности между данными текстами, и на настоящий момент вопрос заключается в том, чтобы определить текст-источник и текст-рецепиент в пределах данной пары. Митрополит Макарий считал, что Серапион заимствовал отрывок из "Правила" митрополита Кирилла. По нашему мнению, его точка зрения подтверждается языковым материалом и первичным, оригинальным безусловно следует считать текст "Правила".
Совпадения между отрывками из Правила и текстами Серапиона есть, но совпадающие контексты-формулы у Серапионаразнесеныпо разным Словам-проповедям инив одном из Слов не представлены в полном объеме.
Следующий раздел главы I посвящен теме, условно названной нами темой "маловерия". Эта часть серапионовой проповеди - в сопоставлении с предыдущими "грех - наказание" - завершает троичную философскую структуру текста: теза - антитеза - синтез. Предельно просто и четко здесь формулируется "средство от казней", модель поведения верующего - "что подоваеть ндлгь ткорнти". Здесь же содержится связочный элемент, объединяющий данную тему с зачином и, таким образом, работающий на целостность текста - это риторическая конструкция, включающая грамматическое, словообразовательное либо синтаксическое удвоение, семантически связанная с формулой зачина либо с началом первого блока текста.
Последний раздел главы I содержит анализ финала поучения и о бнаружив ает в э том месте текста а бсо лютное следов ание тексту-образцу (традиции), никак не обусловленное русским происхождением текста либо собственно авторским участием.
Глава II "Средства создания структурно-семантических составляющих текстов Серапиона" посвящена анализу тех "межблочных" связей, которыми создается единство текста поучения и функционированию в текстах Серапиона языковых единиц всех уровней системы в ее современном понимании. Последнее связано с необходимостью определения генетического статуса поучений Серапиона как собственно русских текстов церковной риторики. Здесь же, во второй главе работы
рассматриваются те разночтения, которые представлены в различных списках поучений.
Глава состоит из двух больших разделов, каждый из которых, в свою очередь, содержит несколько параграфов. Первый раздел главы - Особые виды повтора -посвященрассмотрению языковых единиц, взаимодействия которых связаны с созданием целостности текста поучения. В нем рассматриваются такие единицы, как плеонастические сочетания типа суд ci/днтн, функционирование в текстах лексических единиц с корнем -зъл-, а также представляющая собой специфическую примету текста Серапиона текстовая синонимия слов свычаи - дело - путь. Особый интерес представляют наблюдения над текстовым поведением в поучениях Серапиона сочетаний типа суд судити.
Весь характер и изученная история словообразовательной системы позволяют предположить, что прежде чем начать функционировать в тексте самостоятельно, имена нулевой суффиксации выступали в составе пары с произв одящим глаголом - по мнению профессора В.В.Колесова, исходные плеонастические выражения типа дум^ дулмтн постепенно дифференцировались по смыслу и функции. Расхождение смысловых оттенков между именем и глаголом способствовало осознанию особой важности имени..., символического понятия о процессе, деятеле и объекте действия одновременно. Переносные, отвлеченные значения слов сосредотачивались в имени, которое становилось ключевым словом синтагмы, и уже по новому кругу замен образовывали синтагмы речи. Естественно, что такие слова сами становились выразителями постепенно складывающихся отвлеченно-общих значений.
Глагольная форма в контактном положении с производным именем играет роль единицы конкретного значения, как бы перетягивая на себя из имени не нужные ему семы (можно назвать это "стяжением сем"), освобождая новообразованную синкрету от глагольной (и контекстной) семантики, и одновременно проявляет словообразовательную структуру образования на -0. Типовое сочетание указанного образца всегда содержит приглагольное имя отвлеченной семантики, что, при том количестве потенциальных значений, связанных с действием, которое представляет древнерусский текст, весьма знаменательно. С другой стор оны, сочетание может включать и имя отв леченного действия, образованное при помощи формально выраженного
суффикса.
Подобно всем словообразовательным формам, такие сочетания начинают разрушать формульный состав текста, соответственно изменяясь и сами. Закрепление ираспространение имен нулевой суффиксации в текстах позволяет им на каком-то этапе отказаться от обязательного распространения формулы производящим глаголом, а сочетания, сохраняющие исходный вид, начинают осмысляться как контексты усложненной семантики, "Г^гга etymologica" - использование аккузатива как адвербиального распространителя при однокорневом глаголе, связанном с распространителем семантически и этимологически. Появляется возможность отказа от контактного положения в тексте и переосмысления всей пары с точки зрения отношения компонентов, что и наблюдаем у Серапиона. Оппозиция "слухом -услышать" имеет прочные корнив церковно-книжной традиции, обнаруживается как в текстах Нового, так и Ветхого Завета: А иди кт» людемт, снл\т» и рцы слухолгъ оуслышите и не и/идте рлзум'кти и видлще оузрите и не плите вид'Ьтн (Деяния, 28, 25 со ссылкой на пророка Исайю - следующий контекст: идн н рцы людемъ симт» слухомъ оуслышите и не разумеете и вкдлще оузрите и не оувнднте [Исайя, 6,9-10]), а также коррелирует с фольклорным "слыхом не слыхивать". У Серапиона в соответствующем контексте однокорневые пары "злоба -озлобити; возопити - вопль; слух - услышати" создают не системные противопоставления, а стиль, основой создания формулы служит уже не явная словообразовательная связь компонентов, как в древнейших формулах типа "суд судити", но совпадение корневой морфемы или даже смысловое объединение по звуку или комбинации звуков, отмечаемое Л.Г.Невской, речь здесь идет прежде всего о звучании глагольного корня. Причиной такого р аспр остр анения (переосмысления) исходного типа могла оказаться именно необходимость передачи сакрального греческого текста. Стиль определяет и включение в ряд пары "разгневаться яростью" - модификационного варианта парного сочетания "гнев и ярость". Создающийся параллелизм конструкций и сама возможность возникновения подобной формулы подтверждает предположение о существовании исследуемых отношений как типа.
Далее в текстах Серапиона обнаруживаем, что однокорневые (словообразовательные) удвоенияподобного типа образуютсяне
только именами нулев ой суффиксации, но и именами на -ние, а в случае контекстной необходимости расширяются даже до трехчленной формулы - в составе топоса: в ню же во Avfepy мирите СЗмерить кы са (Сл. №4, формула точно повторяет евангельский текст); вгЬлгь сиргЬшеньеми оут'кишт!» ны е(ог)т» (Сл. №1); wEHOBHTecA доЕрылгь идЕноклениемт» престлшгге зла творлще оунонтесА сткоршлго ны (Сл. №2).
Использование в типовом удвоении имен на -ние дополнительно подчеркивает тот факт, что имена нулевой суффиксации в о (принимаются но сителем языка как пр оизв одные отглагольные единицы (синтактико-грамматическая модель удвоения также универсальна для тех и других образований -глагол в спрягаемой форме или инфинитиве + управляемое имя в косвенном падеже). Очевидно, таким образом, что повтор знака, который создает стилевую отвлеченную семантику, связан также и с отвлеченностью системной, хотя и мыслится, видимо, не как усложнение звукового состава слова, а скорее, как изменение его слогового состава. А. Хейнц отмечает также, что встречаются, хотя очень редко, конструкции с заменой аккузатива на номинатив (подлежащее), а в принципе в области традиционнойграмматики основу грамматической категории винительного внутреннего составляет этимологическая и семантическая идентичность корня аккузативной формы и глагола, так что тип оказывается открытым для включения любых словообразовательно или грамматически нетрадиционных для него образований.
Второйраздел главы II - Описание системных единиц в текстах Серапиона Владимирского - представляет поуровневое исследование лингвистических средств, используемых Серапионом и переписчиками текстов. Поскольку основная масса лексических единиц так или иначе оказалась описана в предыдущих частях диссертации, данный раздел работы не включает параграфа "Лексика" и представлен следующими частями: "Графика, орфография и фонетика", "Морфология: Имена существительные, местоимения, имена прилагательные, глагол, причастие", "Словообразование".
С точки зрения подбора языковых средств тексты Серапиона можно классифицировать как собственно русские церковные поучения. Несмотря на болылоеколичество в текстах инородных включений, в том числе и из переводных текстов, общее направление в использовании языковых средств Серапионом
ориентировано на русскую разговорную практику, что последовательно проявляется на всех уровнях языковой системы (используя этот современный термин применительно к языков ой ситуации на момент создания текстов). Наиболее показательные в стилистическом плане языковые явления - использование определенных словообразовательных и фонетико-морфологических средств, свойственных славяно-книжной традиции, и последовательное сохранение глагольной системы времен в соответствии с практикой старославянского языка - не позволяют охарактеризовать тексты как образец церковно-книжного жанра, ориентированный на славянские переводы и греко-болгарскую книжную практику.
Последовательно проявляющимся признаком принадлежности текстов Серапиона к церковно-книжной традиции оказывается значительная архаичность текстов в использовании грамматических средств языка. Тем не менее, тексты дают материал, позволяющий сделать некоторые наблюдения над формированием грамматической системы русского языка на период создания исследуемых списков.
В текстах отражен начальный этап унификации именных парадигм (например, отмечены взаимодействия форм родительного падежа существительных мужского рода о-кратких и и-кратких основ), ряд частных взаимодействий форм, образующих историю местоименного склонения и т.д. В сфере словообразования четко обнаруживает себя стремление автора избегать единиц, ассоциирующихся сцерковно-книжнойязыковой стихией, либо, где их использование неизбежно (единицы топики и т.д.), нейтрализовывать их стилистическую маркированность введением в текст аналогичных единиц нейтрального характера, опирающихся на разговорную речь.
Интересный материал с точки зрения определения природы исследуемых памятников как русских текстов дают наблюдения над средствами словообразования.
Поскольку содержание памятников рассматривается нами во взаимосвязи с их стилистической принадлежностью, формы именного словообразования описываются здесь, прежде всего, как стилеобразующее средство. В этом плане нас заинтересовало соотношение производных и непроизводных языковых единиц в текстах поучений. Количественный анализ показал преобладание в текстах непр оизв одной лексики над пр оизв одной в со отношении
около 3:1, что соответствует выв оду В.Н.Виноградовой о том,что в текстах художественной речи производных образований значительно меньше, чем в публицистике или специальной литературе, каковой (вывод) подтверждается наблюдениями других исследователей и для древнерусского языка.
В количественном отношении среди суффиксальных имен отвлеченного значения, традиционно связываемых с церковно-книжными жанрами, у Серапиона первое место принадлежит образованиям на -ние - 60 употреблений в текстах (40 слов). В этой же группе образований находятся наиболее частотные по употребительности формы: пнслнье - 5 употреблений плюс синонимическая форма написание -1 употребление; трясенье - 5 употреблений и два употребления синонимической формы потрясения; покаянье - 5 употреблений; грдвленье - 5 употреблений; паденье - 5 употреблений. Основная масса форм на -ние, представляющих собой, как известно, результат осложнения именных образований с суффиксом -к широко продуктивным суффиксом -ие с последующим изменением словообразовательной базы и членимости этих имен, что привело к выделению продуктивного суффикса -ние, имеет в текстах однокорневой глагол либо причастную форму, за счет чего функционирование производного имени в тексте включается в схемы текстообразования, проявления "неявных связей", делающих словообразовательную форму, сложившуюся в результате появления новой, глагольной соотнесенности, в тексте "прозрачной". При этом употребления глагольной формы (либо причастия) и соответствующего словообразовательного деривата (однокорневойпроизводнойформы отвлеченного значения)могут быть разнесены на пространстве текста и даже текстов. В целом группа имен на -ние предстает у Серапиона достаточно однородной, все отмеченные формы проявляют соотнесенность с глаголом: трясенье - от трясти,- прелгЬнение - от прелтЬинтн, повеленье - от повел"ктн; пнслнье - от пислти и т.д., представляя сформировавшийся словообразовательный тип, коррелирующий, как было показано, на уровне контекстных взаимодействий, с другими словообразовательными типами. К этой группе словообразовательных единиц примыкает образование на -mue: оукитие: юв'Ьх'ъ оувитиемь, представляющее структурно ту же модель осложнения формы на -т суффиксом -ие, также соотнесенное с глаголом, представленным в тексте Серапиона -
оукнтн, и имеющее словообразовательный синоним оувииство в тексте (Слово №4): и наводите на всь мирт, и градт» оувииство дще кто и не причастисл оувииству но всоньми вывт» вт* единой мысли оувиица же высть или могли помощи и не поможе лкн сдм-ъ сувити покелтЬлть есть.
Вторую группу суффиксальных имен, чрезвычайно распространенных в текстах Серапиона, представляют имена нулевой суффиксации, что представляется очень показательным фактом с точки зрения отношения поучений Серапиона к церковно-книжной традиции. Так, в текстах Серапиона обнаружив аем 128 употреблений имен нулевой суффиксации (51 слово) со значениями отвлеченного действия или действующего лица, мотивированные глаголами. В сравнении с формами на -те нулевых образований больше, что производит впечатление нейтрализации стилистической отнесенности текстов на словообразовательном уровне. Большинство форм пулевой суффиксации (имеются в виду имена отвлеченного действия) также опир ается в тексте на произв одящий глагол: лгЬру - м'Ьр ити, вопль - вопити (в тексте представлен однокорневой глагол вт»зопитн, что обусловлено сохранением структуры топоса), трусь - тр асти, потопт» - потопошд, плИнтъ - пл'Ьшгги, запов'кдь - здпов'йддти, ПАгуБА - пвгувити и т.д., особенно четко это проявляется в сочетаниях контактной структуры - плеонастических сочетаниях типа лгЬру м*Ьрнти, описанных в перв ой части данной главы.
Поучения Серапиона содержат 29 употреблений (16 слов) имен с суффиксом -ие (либо с соответствующим конечным элементом конфикса). Эта группа представляет большее разнообразие словообразовательных типов, включая собирательные имена: л-кствие, трупие, клменье; как сложные, книжного происхождения, так и нейтральные с точки зрения лексической семантики имена со значением отвлеченного действия: сквернословие, челов^колювье, мдлов'Ьрье, насилье, и отвлеченного признака: кр'йпкодущье, милосердье, овилье, вёселье; наконец, уже упомянутые конфиксальные образования на без...ье: везаконке -4 употребления, Безумье - 5 употреблений, веществе. Как видно из примеров, в группу входят как собственно русские (овилье, насилье, кал\енье, л^ствие), так и свойственные церковно-книжной речи слова, большая часть которых оказывается принадлежностью общих с другими текстами проповеднической традиции мест или оказыв ается необходимой при "расшифровке"
топоса. При этом большинство сложных слов поддерживается в текстах Серапиона однокорневыми образованиями (сквернословие - сквернословец, маловерье - л\аловер, милосердье - милосердный, человеколюкье - человеколюкец). Каждое конфиксальное образование также обязательно обнаруживает в текстах соответствующее производящее (либо однокорневое) слово: кезумье - не на молку оумт» прилагавши; везлконье - не послушници во закону но творцн; кещестье - ему же сла(ва) и ч(ь)сть. Таким образом, в сопоставлении с подобными особенностями в употреблении имен на -ние и -0 обнаруживается стремление Серапиона прояснять структуру производных единиц, что предполагает их восприятие как дискретных в период создания поучений. В соотношении русских и книжно-славянских форм в пределах группы имен на -ие (без...ье) наблюдается уже указанное выше стремление освободить текст от маркированных стилистически единиц книжного стиля.
Образования на -ство представлены у Серапиона в значительно меньшем объеме: рНгзоимьство, пр'Ьлюкод'Ьнство - 5 употр., люсод'Ьктво, царство, множество, пророчество -2употр., пьяньство, послушьство - 5 употр.. величьство, вогатьство - 2 употр., несытовьство, естество - 2 употр., оувннство, душегувьство - всего 25 употреблений (14 слов). Как видно из приведенных примеров, значительную часть употреблений составляют слова, соотносящиеся с языковой практикой создания юридических документов: р*Ьзоимьство, пр'Ьлюкод'Ьнстко, ЛЮБОД'ЬнСТВО, пьяньство, (лживо) послушьство, оувийство, душегувьство. Таким образом нейтрализуется стилистическая маркированность словообразовательного средства, объединяющего рассматриваемую группу. При этом три из указанных образований имеют в текстах словообразовательные синонимы: р'Ьзоимьство - р"Ьзоиманье, оукмиство - оувнтие, величство - величие - величанье, что возвращает нас к тезису о восприятии словообразовательных единиц Серапионом как членных, бинарных структур, использование той или иной из которых обусловлено требованиями текстообразования и структурой формульного сочетания. В целом группа слов с суффиксом -ство предстает неоднородной по своему составу. В отличие от ранее указанных групп словообразовательных имен, имена на -ство выступают в текстах в единичных употреблениях (случаи неоднократного употребления, отмеченные нами, - суть
повторы всей конструкции в соответствующей теме двух разных текстов (в первую очередь это касается амплификационного ряда дел злых, представленного в том или ином виде во всех поучениях) либо в пределах одной темы одного текста при созданиирамочной структуры: Ичинино пр(о)ро)чство вотще высты до и деже н потужи к*ь Б(ог)у ко к вещестье створнсд пр(о)р(о)чьство его), то есть как одно употребление, претерпевающее удвоение в целях текстообразования. С точки зрения деривационных отношений эта группа также неоднородна - представлены формы, соотносящиеся как с глаголом (глагольным словосочетанием): рЬзонмьство, убийство и др., так и с прилагательным: когатьство, велнчьство и пр. Преимущество, тем не менее, сохраняется за приглагольными именами отвлеченного действия. Добавим также, что этот тип отношений поддерживается в тексгахиспользованием однокорневых форм глагола и причастия, а также, в ряде случаев, форм nomina agentís: р'Ьзоимьство - p'feat емлл, р*йзоил\ець; прелюкод'Ьмство - лювод'Ьяние (-стко), люкод'Ьи, ср. также уже приводившиеся примеры с формой укнйство. Приглагольные имена на -ство активнее вступают, как было показано выше, в синонимические отношения с другими суффиксальными именами, тогда как для отыменных форм единственным случаем подобной словообразовательной синонимии оказывается приведенный выше со словом велнчьстко. В целом имена на -ство ведут себяв текстах Серапиона достаточно активно, верифицируя неявные языковые связи, та их часть, которая соотнесена с глаголом, реализует все возможные текстологические потенции сложной (словообразовательно) формы, формируя в тексте потенции фиксирования контекстных отношений в качестве системных. Лексическая соотнесенность большей части форм на -ство с деловыми, юридическими текстами (а также указанная в первой главеработы структурная схожесть ряда контекстов с формулами деловых текстов), как было сказано выше, в значительной степени ослабляет стилистическую маркированность суффикса как принадлежности церковно-книжной традиции, "приземляя" рассматриваемые формы до общего в поучениях Серапиона нейтрального уровня повествования.
Единственное употребление в текстах Серапиона формы на -ствие: цгшествии также нельзя воспринимать как словообразовательный старо- (церковно-) славянизм, поскольку данная форма в данном контекстном значении употребляется в
русской проповеднической литературе с начала письменного периода истории русского языка с той же регулярностью, что ив старославянском -контекст: по и>шествин же св^гга сего придемь рддующесл (гь Б(ог)у своему - предполагает определенную установку на сакральную традицию и в неизменном виде проявляется во всех книжных жанрах, а также в фольклорных формулах, хотя следует признать, что в целом группа имен на -ствие отличается "яркой стилистической маркированностью на всем протяжении истории русского языка: они встречаются в памятниках только книжного характер а и только в пр оизведениях "высокого" слога и, можно сказать, совсем не употребляются в деловом языке вплоть до XVIII века", как отмечает профессор Г.А.Николаев. Однако сам факт полного (за исключением указанного употребления) отсутствия в текстах Серапиона форм на -ствие является в этом смысле убедительным доказательством русской природы текстов и сознательного отказа автора от маркированных стилистически языковых средств.
Словообразовательный тип образований на -ость в текстах Серапиона представлен пятью употреблениями слова ярость, тремя употреблениями слов милость, рлдость, двумя - слова скудость, единичными употреблениями XYA°CTb> младость, крепость, скупость - всего 8 слов (15 употреблений), соотносящимися с прилагательными и имеющими словообразовательное значение отвлеченного признака. Варианты текстов по другим спискам дают незначительное увеличение объема образований на -ость, в первую очередь за счетповтора отмеченных форм и ихразличного рода удвоенийв одном контексте. С другой стороны, тексты Серапиона представляют 5 слов с суффиксом -ота: рдвотд, унотд, крдсотд, снротд, тепдотд, которые, будучи принадлежностью разговорного языка (нейтрального стиля) уравновешивают в смысле стилистической маркированности текстов 8 слов с книжным суффиксом -ость.
В текстах также представленыв незначительных объемах имена с отвлеченным значением словообразовательных типов, характеризующихся меньшей стилистической детерминированностью. Это формы на -6а (6 употреблений, из которых половина приходится на форму татьба, последовательно включаемую Сер анионом в ряд-перечисление "дел злых" и одно -слово мольвд: ГО сил ко вставт» не нд молву оумп» прнлдглеши но
кдко вы швидеть кого - в значении л<ошимпредставляющее собой яркую примету разговорной речи и представляющее контекстный словообразовательный синоним употреблению в менее бытовом контексте: дще ли и>скверниши шч(и)стн е ст. молитвою); формы на -тва (уже упоминавшееся молитва, а также два употребления слова клятва); затем единственное употребление формы на -оба (злоба) и, наконец, две синонимические формы на -ъкъ: добытт.к'ъ, приБытт»кт,. Использование Серапионом последней формы проводит еще одну параллель между текстами Серапиона и текстом "Правила" митрополита Кирилла, где совпадающий с темой наказания-нашествия контекст начат риторической конструкцией, включающей указанную форму (напомним: кын оуво прнсып.кт. нлслгЬдоклхол\гь шстдвльше в(ож)н прдвилА).
В сферепроизводных именопаппй лица у Серапиона также не наблюдается какой-либо обусловленной стилистически систематичности в использовании тех или иных суффиксальных средств. Так, именования действующего лица представлены формами на -никъ: розвоиникт., послушьникт., гр'Ьшьникт., оуддвленикт., оутопленикт., единов'&рьник'ь, прлведникт», иноплел\емкиктъ - всего 8 слов (12 употреблений), уравновешивающимися, с другой стороны, шестью словами с тем же словообразовательным значением, оформленными книжным суффиксом -тель: святитель, спаситель, грдвитель, идолослужнтель, гувитель, строитель; формами на -ецъ: р,Ьзоил\ьць, отьць, стлрьщ», мллденьць, в'йньць, сквернословець, творьць, инов'Ьрьць, лихоимьць, чдрод'Ьець - всего 10 слов (14 употреблений), из которых только пять - сложные имена, что существенно меньше, чем ожидалось бы в проповедническом тексте (суффикс -ец - в оспринимается как книжный и используется в церковных текстах в основномв сложныхсловах),вчеммывновь видим стремление к нейтрализации стилистически маркированных словообразовательных единиц - все же предпочтение отдано нейтральным словообразовательным типам, и формами нулевой суффиксации: лкзвод'Ьи, воеводд, пророкт., по слухт» - всего 4 слова. Все указанные формы могут вводиться в текст в составе общей с другими церковно-книжными текстами темы либо функционировать в построениях оригинального текста Серапиона.
Итак, использование словообразовательных средств в текстах Слов-проповедей Серапиона Владимирского демонстрирует
сгремление автора избегать едиииц, ассоциирующихся сцерковно-книжной язьжов ой стихией, либ о, где их исл ольз ов ание неизбежно (едишщы топики и т.д.), нейгрализовывать их стилистическую маркированность введением в текст аналогичных единиц нейтрального характера, опирающихся на разговорную речь.
В "Заключении" обобщаются наблюдения и выводы диссертационного исследования в соответствии с поставленными в начале работы задачами.
По теме диссертации опубликованы следующие работы: Копосов Д.Р. Словообразовательные формы в Словах Серапиона Владимирского (XIII в.) и их текстообразующая функция // Бодуэн де Куртенэ: теоретическое наследие и современность. Тезисы докладов международной научной конференции. - Казань, 1995. - с. 103 - 105.
Копосов Д.Р. Уровневые повторы языкового знака как "мост от синтагмы к парадигме" // История русского языка. Словообразование и формообразование.-Казань, 1997.-е. 154-
Копосов Д.Р. Правка русской орфографии и особенности средневекового текста //Языковая семантика и образ мира. Тезисы международной научной конференции, посвященной 200-летию КГУ (7 -10 октября 1997 г.). - Книга 2. - Казань, 1997. - с. 268 - 270.
Копосов Д.Р. О системных и стилистических факторах в организации Поучения Серапиона Владимирского (ХШ век) // Beiträge zur Slavistik. -Frankfurt am Main, 1997.-Bd. XXXIII.-S.267-
170.
278.
Текст диссертации на тему "Варьирование языковых средств в текстах церковно-книжных жанров Древней Руси"
/
Казанский государственный университет
На правах рукописи
Колосов Даниил Робертович
ВАРЬИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В ТЕКСТАХ ЦЕРКОВНО-КНИЖНЫХ ЖАНРОВ Д РЕВНЕЙ РУСИ: ТЕКСТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВ-ПОУЧЕНИЙ СЕРАПИОНА, ЕПИСКОПА ВЛАДИМИРСКОГО
(XIII ВЕК)
10.02.01 - русский язык
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук
Научный руководитель -доктор филологических наук, профессор Г.А.Николаев
Казань -1998
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Введение 3 I. Описание структурно-семантических особенностей текстов Слов-
поучений Серапиона Владимирского. 14
1. Заглавие и зачин 16
2. Основной текст поучения 24
2.1. Тема «знамения» 24
2.2. Тема «греха» 41
2.3. Тема «наказания» 67
2.4. Вопрос о соотношении текстов поучений Серапиона и «Правила» митрополита Кирилла. 76
2.5. Тема «маловерия» 81
3. Финальная конструкция проповеди 103 Выводы по главе I 104 II. Средства создания структурно-семантических составляющих текстов Серапиона 110
1. Особые виды повтора 110
1.1. Удвоения типа «суд судити» 110
1.2. Другие корневые повторы 116
1.3. Повторы корня «зъл-» 118
1.4. «д'Ьло» и «мувычдй» 124
2. Описание системных единиц в текстах Серапиона 129
2.1. Графика, фонетика и орфография 129
2.2. Морфология 137
2.2.1. Имена существительные 137
2.2.2. Имена прилагательные 146
2.2.3. Местоимения 148
2.2.4. Система глагольных форм 151
2.2.5. Причастия 163
2.3. Словообразование 166 Выводы 176 Заключение 179 Список использованной литературы 186
ВВЕДЕНИЕ
Предметом рассмотрения в данной работе являются тексты проповедей Серапиона, епископа Владимирского, их языковые и структурно-стилистические особенности в жанровой системе церковно-книжных памятников XIII века.
Обращение к текстам церковно-книжной традиции с позиций науки о истории языка не случайно - о необходимости изучения этого разряда памятников древнерусской письменности и их значимости для развития русской литературной нормы говорилось уже неоднократно. Действительно, роль церковно-книжных текстов в истории языка и велика, и парадоксальна - заложив основания для формирования нормированного литературного языка (см., например, 112, с. 109), эти тексты оказались своеобразным тормозом дальнейшего развития ими же созданной новоприобретенной нормы, надолго задержали литературный язык в его становлении и формировании современной системы нормативных отношений. Совершенно очевидно, что эта противоречивость должна быть описана и по возможности объяснена, а базу для такого исследования закладывают работы по исторической стилистике и текстообразованию.
Изучению памятников древнеславянской книжности, в том числе текстов канонического содержания, было посвящено в истории отечественной и зарубежной лингвистики немало работ, создалась определенная традиция работы, был разработан инструментарий исследований, определены основные подходы к работе с памятниками, в первую очередь в собственно лингвистическом аспекте. В силу известной зависимости приемов исследования от сложившейся на каждый конкретный исторический момент базы представлений о материале и средствах научного познания, эти подходы носили по преимуществу описательный характер и предметом исследования полагали различные формальные отличия древних текстов от современных исследователю текстов же, предполагая при этом, что системный статус изучаемых единиц на протяжении веков оставался неизменным (то есть таким, каким он предстает на момент исследования) и оставляя в стороне вопросы, касающиеся значения описываемых форм и категорий с точки зрения их исторического разви-
тия. Полученные описанным образом результаты до времени успешно складывались в общую картину, рисующую исторические этапы (нет нужды пояснять, что историческое языкознание этого периода занималось по преимуществу созданием последовательного ряда синхронических срезов, так что именно о этапах, но не о процессах и взаимодействиях в их развитии может идти речь) развития языка - то есть системы. При таком подходе лингвистический аспект обычно предполагал изучение конкретного памятника - текста - с целью извлечения из него языкового материала для диахронического исследования отдельно взятых явлений, относящихся к различным уровням системы языка в том ее понимании, каковое характеризовало данный период - фонетики, морфологии, синтаксиса (в качестве иллюстрации высших достижений этого периода см., например, работы А.А.Потебни, А.И.Соболевского, А.А.Шахматова, их предшественников и их учеников).
Отметим, что при этом внимание исследователей было в основном направлено на тексты собственно славяно-болгарского, а не русского происхождения либо на славянские переводы церковно-книжной литературы. В целом ряде работ (в том числе и последнего времени) отмечается тенденция к противопоставлению славяно-книжного и - собственно русского языкового материала, где последний воспринимается исключительно как принадлежность деловых текстов или текстов бытового содержания. Отказ современного исторического языкознания от положений теории диглоссии не привел к какому бы то ни было серьезному пересмотру этих позиций, несмотря на всеми признаваемое существование церковно-книжных текстов русского происхождения. По-прежнему появляется и будет появляться множество серьезных и несомненно нужных исследований, толкующих о наличии русских языковых элементов в языке того или иного памятника церковной письменности без определения каких-либо границ допустимости подобных рассуждений применительно к собственно русским текстам. История русского языка лишается, таким образом, значительной части текстового материала, представляющего особый интерес для исследователя именно за счет своей природы - мы подразумеваем реализацию средствами родного языка образной системы
чужих оригинальных текстов, представляющуюся нам в творчестве святых отцов русской церкви.
В настоящее время эта картина меняется - с одной стороны имеет место тенденция к четкой дифференциации исследовательских подходов к генетически различным явлениям в рамках стиля и жанра, а также на уровне системных противопоставлений (см., например, исследования Л.П.Жуковской, В.М.Маркова, В.В.Колесова), а с другой - было развито и в целом ряде работ уточнено представление о тексте как предмете лингвистического исследования. Из обилия появившихся в науке определений и характеристик текста наиболее, на наш взгляд, значимыми оказываются следующие два момента.
С точки зрения фундаментального противоположения языка и речи это представление о текстах как линейных структурах, которые подлежат рассмотрению не как «простая сумма элементов, которые необходимо выделять, анализировать, разлагать, но как связанные совокупности (Zusammenhange), образующие автономные единицы, характеризующиеся внутренними взаимозависимостями и имеющие собственные законы. Отсюда следует, что свойства каждого элемента зависят от структуры целого и от законов, управляющих этим целым»[60, с.122-123]. Такая характеристика текста с позиций поуровневого исследования системы языка приводит к выводу, что текст разрушает языковые уровни, смешивает их, и соединение разных средств обусловливает необходимость комплексного подхода к тексту - то есть, формальное исследование языковых единиц себя исчерпало.
Вторым очень важным моментом в современном восприятии текста явилось представление о тексте как форме энтропии (и как средстве номинации), в своем историческом движении представляющей на каждой новой ступени новые средства выражения денотата (ср., например, описанную у В.Н.Топорова хронологическую последовательность: текст -точка (один гипертекст); текст - совокупность текстов; текст - каждый индивидуальный текст; текст - блок текста; текст - предложение; текст - синтагма; текст - слово; текст - морфема, фонема), где «на каждой предыдущей ступени уже присутствуют средства выражения денотата, присущие следующей ступени. Они уже вычленяемы но не имеют наполненности»
[182, с. 203]. Очевидно, что верно и обратное - на каждой последующей ступени текст сохраняет средства выражения денотата, присущие ступеням предыдущим, и история текста состоит прежде всего в перераспределении этих средств. А это обстоятельство заставляет нас видеть в современных, например, фразеологических сочетаниях и различного рода проявлениях лексической и грамматической омонимии, где дифференциация форм и значений обусловлена исключительно контекстом, следы иной языковой и ментальной организации, строившейся на иных, чем теперь, принципах и выделявшей иные, чем теперь, единицы. Предметом исследования в этом случае оказывается сфера реализации этих древних отношений - то есть текст и текстуальная (в отличие от современной системной) семантика языковых единиц.
«Известная переориентация лингвистики от изучения языковой системы на исследование функционирования элементов разных подсистем в текстах и на изучение текстов вообще» [172, с. 3], предъявляющая семантику как приоритетный объект изучения, обусловила особый интерес к семантике древнего текста. При этом в связи с новым восприятием изучаемых явлений появилась возможность увидеть, насколько ограничено в своих результатах историко-лингвистическое исследование, опирающееся в своих методах и инструментах на единицы, заданные современной исследователю научной базой, и насколько сложной оказывается попытка проникнуть в иную образно-семантическую среду (менталитет) даже с использованием всех возможных приближений.
Сказанное выше о специфике исторического движения текста предполагает, что средневековый текст не свободен, а создается по неким предварительно заданным общим моделям. Также неоднократно отмечалось (см., в частности, работы проф. В.В.Колесова [100, с. 11; 102, с. 46; 104, Б. 230, 232] и других исследователей), что в такой же степени несвободен и средневековый язык. Окончательное формирование самостоятельных парадигм, полное высвобождение слова из контекста (то есть возможность восприятия отдельной словоформы как грамматического варианта лексемы, лишенного каких-либо лексико-семантических отличий от исходной формы, как элемента функции, противопоставленного прочим элементом единственным дифференциальным признаком - грам-
матическим значением) представляют собой, по мнению ряда ученых, достижения лишь XIV - XVIII века, и неслучайно этот период традиционно воспринимается как переломный этап в развитии русской языковой системы. Для древнерусского языка "несвобода языка и текста объясняется той огромной ролью, которую играют в это время структуры, стоящие "между" языком и текстом" [56, с. 91].
Исследование таких структур и представляет в наше время главную задачу исторической лингвистики. Детальное рассмотрение всего многообразия подобных единиц - "образца, жанра, канона, топики, формуль-ности и других явлений..."* - позволит определить, насколько текст представляет собой непосредственное следование упомянутой модели и собственно творчество проповедника.
Приложение к материалу приемов исследования, опирающихся, насколько это возможно (специфика материала, как было сказано выше, и неизбежная условность исследовательских построений при обращении к проявлениям другой ментальной сферы предполагают создание модели, не допускающей абсолютного совпадения с реальным положением вещей), на единицы, присущие исследуемой системе отношений, позволит выявить особенности соотношения явлений речевой (нестабильной, как и в современный период модифицирующей существующую систему) и системной (на уровне создания и воспроизводства текстов как носителей системных для того периода отношений) практики - традиции, образца, а также определить те основания, которые обеспечили переход от древней системы оппозиций к современным {системным в собственном смысле слова) отношениям.
Степень ориентации текстов Серапиона на образец требует сопоставления их с другими текстами данного жанра по ряду параметров, в первую очередь в смысле определения основной текстовой смыслоразли-чительной единицы. Таковой для древнерусского церковного текста мы, вслед за В.В.Колесовым, полагаем контекст-формулу. Поэтическая формула в средневековом тексте традиционна, она «когерентна топосу, т. е. соотнесена с ним по форме и по употреблению в тексте. Топика - общие места - позволяет сохранить образцовый текст во времени и пространстве,
* Там же
одновременно создавая структуру повествовательных форм. Пришедшие из риторики, топосы стали способом организации устного текста, но вместе с тем обусловили и рождение новых словесных формул в текстах изначально письменных жанров» [105, с. 95]. В качестве отправной точки в нашем рассуждении о специфике организации текста у Серапиона Владимирского взято соотношение топоса и собственно авторского монолога, структурная и семантическая роль этих элементов текста проповеди. Обращаясь к такому материалу, как синонимические и ам-плификационные ряды, синтаксический параллелизм, лингвистические закономерности "символопорождения" (термин Ф.Н.Двинятина [См. 56, с. 92]), мы поневоле прежде всего рассматриваем различные виды повтора, удвоения языкового знака в их текстообразующей функции - реализация языка в тексте предполагает использование ряда специальных средств, -по его же (Ф.Н.Двинятина) классификации, в области семантической структуры это «троп: удвоение смыслов в одном знаке, "два в одном"; средневековый троп, по преимуществу организующий наиболее значительные семантические сдвиги в тексте, - символ. В синтаксической структуре это повтор: "дважды одно"; средневековый повтор обычно не материальный (буквальный), а структурный, т. е. параллелизм. Наконец, в стилистической структуре это синонимия, "двояко об одном". Не исключена возможность и других удвоений...» [56, с. 92]. Слово - опора текста -может либо представать в расщепленном виде, либо, напротив, может быть усилено через повтор. Повтор в художественном тексте - это традиционное название основной операции, определяющей отношение элементов в художественной структуре сопоставления, которое может реализовываться как антитеза и отождествление.
Система повторов включает в себя также и ритмо-мелодическую сторону текста - необходимо учитывать тот факт, что церковный текст прежде всего является произведением ораторской прозы, следовательно, предполагает определенную ритмическую структуру, - и потому для нас важно замечание В.М.Жирмунского: "Прежде всего рифма появляется в некоторых постоянных стилистических формулах аллитерационного эпоса. Сюда относятся, например, так называемые "парные формулы", объединяющие союзом "и" два родственных понятия (синонимических
или контрастных), в параллельной грамматической форме" [64, с. 228]. Ю.М.Лотман в своей работе "Лекции по структуральной поэтике" дополняет традиционное представление о рифме древнерусского (в первую очередь) текста, отмечая не только звуковое соответствие нескольких рифмующихся слов, но также возникающие между ними семантические, грамматические и словообразовательные переклички [119, с. 101 - 103].
Объединение всех перечисленных элементов структуры текста в одном исследовании предполагает введение новой четкой методологической установки и движение одновременно в двух различных направлениях: от анализа текстовых единиц в их взаимодействии к общим приемам построения текста и, одновременно, от определения необходимой границы варьирования элементов, нужной для сохранения текстовой целостности, к уровневой дифференциации отдельных собственно языковых (системных) средств в пределах текста и затем - на позициях системы в современном о ней представлении.
Все сказанное выше позволяет нам говорить об актуальности данного исследования как очередной попытки проникновения в образно-семантическую, символическую сферу древнерусского церковно-проповед-нического текста и определения статуса исследуемых текстов в синхроническом (в пределах жанра и традиции) и диахроническом (место и роль указанных текстов в истории русского текста (языка)) аспектах. Объектом исследования являются тексты пяти поучений-проповедей Серапиона, епископа Владимирского, (XIII век) по спискам середины XIV - XV веков. Непосредственный предмет изучения представляет функционирование в текстах единиц различных уровней языковой системы как материала текстообразования.
Целью настоящего исследования является определение особенностей текстов Серапиона как принадлежности жанра (русская церковная проповедь-поучение), принадлежности периода развития языковой системы (этап перехода от текстового блока и формулы к синтагме и слову как средствам выражения денотата), наконец, принадлежности авторского стиля.
Декларированная выше цель работы обусло�