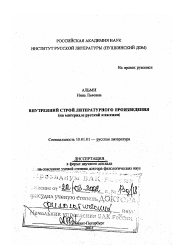автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Внутренний строй литературного произведения
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Альми, Инна Львовна
Понятие внутренний строй произведения не имеет статуса общепризнанного термина. Насколько мне известно, его использует только Г. С. Померанц, обозначая таким образом — до какой-то степени метафорически — ту идеальную модель романа Достоевского, которая никогда не была полностью воплощена писателем, но существовала в его сознании как источник реальных творений1.
Предлагаемое нами «наполнение» выдвигаемого понятия более терминологично, а потом}' нуждается в специальном определении. Его
1 Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 106136. естественно начать с отграничения от понятий смежных. Среди них сегодня наиболее принято (даже внесено в школьную практику) выражение мир произведения. Введенное Д. С. Лихачевым2, оно на протяжении последних десятилетий показательно расширилось. Сейчас чаще говорится о мире творчества писателя в целом3, о литературе как художественных мирах, взятых в их совмещенности либо исторической смене4.
Ни в коей мере не отвергая этого прочно утвердившегося литературоведческого представления (его немалое достоинство — смысловая емкость), мы тем не менее настаиваем на оправданности и того «ключевого слова» (выражение А. Михайлова)5, которое вынесено в заглавие настоящего исследования.
Термин «внутренний строй произведения» нужен хотя бы потому, что им маркируется некий (на практике широко принятый) аспект анализа, дающий «на выходе» определенный тип литературоведческих интерпретаций.
Если выражение «мир произведения» («художественно освоенная и преображенная реальность»6) акцентирует ту иллюзию восприятия, на которую рассчитывает творец, — иллюзию имманентного существования представленной картины жизни, то слово «строй» подчеркивает ру-котворностъ творения. Мир предполагает возможность входа в его пределы, растворения в нем; строй — потребность анализа. Мир — отвечает на вопрос «что?» (причем ответ в этом случае как бы предваряет вопрос); строй — на осознанно вопрошающее «как?». Ощущение мира писателя характеризует, как правило, первую, «наивную» стадию восприятия; представление о строе создается в результате целенаправленного исследования.
Соответственно, говоря о мире произведения, мы стремимся — согласно с волей художника — скрыть за картиной жизни лицо создавшего ее творца. Термин строй произведения сохраняет явную «память» об этом лице, об авторском замысле и, следовательно, содержит зерно вопроса о характере и средствах его воплощения.
В силу всего сказанного предлагаемый термин абсолютно несо
2 Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968, № 8. С. 74-87.
3 Чудаков А. Мир Чехова. М., 1996. С. 3-4, 11-12.
А Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 3-4.
5 Михайлов А. В. О некоторых проблемах современной теории литературы // Известия РАН. Серия литературы и яз. Т 53. 1994, № 1. С. 21.
6 ХапизевВ. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 158. вместим с концепцией «смерти автора» (Р. Барт) и проистекающей из нее произвольной множественностью трактовок текста. Восприятие читателя направляет (а, значит, и ограничивает) прежде всего «постройка» произведения — это зримое воплощение творящей авторской мысли.
Слово «постройка» приведено здесь вполне осознанно. Не только по причине его лингвистической родственности понятию «строй». Образная ощутимость метафоры сохраняет чувство действительного бытия изображенного. Неслучайно о «постройке» романа говорил даже Лев | Толстой7 — едва ли не самый могущественный из творцов художественной объективности.
Толстовская «постройка», однако, предельно далека от «конструкции».
Тезис конструктивности искусства в истории нашей науки связан, как известно, с деятельностью ОПОЯЗ а. Здесь не место говорить о сущности опоязовсвсих теорий. Тем более, что они многократно интерпретировались их последователями и противниками. Замечу только момент, стоящий на смысловой периферии явления. Как будто бы даже не слишком весомый и все же — показательный.
Вторжение ОПОЛЗИ в бытие академического литературоведения было подчеркнуто «громким». Интонации эпатажа, почти веселого вызова (особенно характерные для В. Шкловского, для ранних статей Б. Эйхенбаума) свидетельствовали о молодой талантливости теоретиков, играющих беззаконными концепциями.
Современные последователи опоязовцев вполне серьезны, а потому и безусловно (без остатка) механистичны, гоюскосгны. Они демонстрируют образцы «порождающей поэтики» — некой шкалы «приемов выразительности», гарантирующей пользователю предельную точность ( анализа. Ибо «правильным может быть разложение только на такие составляющие, из которых его потом можно было бы собрать по некоторым общим правилам»8.
Невозможность, да и ненужность такой «правильности» вряд ли требует доказательств: мысль о глубинной иррациональности первоэлемента искусства — символа9 — сегодня в числе аксиом. См. его замечание о романе «Анна Каренина»: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» {Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1928-1964. Т. 62. С. 377).
8 Жолковский А. К., Щеглов Ю. К Работы по поэтике выразительности. М, 1996. С. 51.
9 Аверинцев С. С. Символ // КЛЭ. М., 1971. Т. 6. Стлб. 826-831.
Не оспаривает ее (а возможно, и просто не замечает) и весьма авторитетный для нашего времени принцип анализа текста — деконструкция. Его соблазн — в обещании не «правильности», а безграничных возможностей анализа, допускающего любое смещение художественной системы.
Свобода деконструкции, однако, по суш своей — свобода, мнимая. На выходе метод дает результат, враждебный самому духу творчества, ^— разрушение. Результат закономерный: цена деконструкции — отказ от представления, лежащего в основе любой живой эстетической концепции, — от восприятия произведения как нерушимой целостности.
Итак, мы попытались «защитить» предлагаемый термин апофати-чески — через цепь сопутствующих ему ограничений.
Возможно ли, однако, прямое, «позитивное» описание его объема?
Думаю, возможно. Особенно если начинать его с разговора о произведениях эпических: постройка явлена в них почти зримо. Хотя и здесь (как обычно в сфере искусства) ощутимое исходит из некой порождающей плазмы — смысловой субстанции, противящейся определению.
В нашем случае ее можно было бы условно назвать статусом героя. Это представление писателя о сущности человеческой личности и о главных способах ее художественного воплощения — те внутренние границы, которые намечают «пространство» пушкинского героя, приметы «лица» у Достоевского либо облик «толстовского человека». (См. статью «О статусе героя в творчестве Пушкина»).
Центральный «пласт» художественного строя — композиция произведения или, точнее, весь комплекс приемов, тяготеющих к этому дос-Ь таточно широкому понятию. Сюда входит, прежде всего, то, что некогда обозначалось словом архитектоника, — наиболее устойчивые, как бы исходно заданные элементы структуры произведения: авторское членение художественного материала, система действующих лиц, состав преобладающих мотивов.
Другая сфера композиции — начало, которое пристально рассматривает в своих теоретических штудиях Б. М. Эйзенштейн и для обозначения которого там предлагается термин-метафора — «ход строения вещи»10. Искусствовед, очевидно, имеет в виду ту общую динамику произведения, которая образует в частности и композицию сюжета. Причем сюжет берется здесь и в узком, и в широком смысле — как развитие
10 Эйзенштейн Б. М. Неравнодушная природа // Эйзенштейн Б. М. Избр. произведения: В 6 т. М., 1964. Т. Ш. С. 46. событий и как последовательность смены значимых моментов содержания.
Последнее, однако,.переводит нас в область другой категории — в круг проблем способов повествования. Здесь же описание строя произведения становится весьма затруднительным вне конкретного анализа текста. Вообще проблема пересечения названных категорий (строй произведения и приемы повествования) еще требует специального исследования; займемся пока более очевидными сторонами вопроса. I
Внутренний строй произведения существеннейшим образом определяется его родом и жанром. Отсюда — выбор оптимальных путей литературоведческого анализа. . Наиболее явная граница разделяет в этом плане произведения эпические и лирические. В последних (особенно, когда речь идет об отдель-; ном стихотворении) внутренний строй произведения почти совпадает с его внешним выражением — с текстом как таковым. Значимым становится сам характер смены и варьирования семантических, ритмических, фонетических комплексов. Мы оказываемся перед необходимостью так называемого целостного анализа.
Произведения эпические (тяготеющие, как правило, к расширенному объему) предполагают иной способ рассмотрения — в принципе ас-,пектного. В его основе может лежать вычленение какого-то фрагмента текста (достаточно автономного) либо сосредоточенность на какой-то из сторон художественного целого.
Думаю, на этом рубеже размышлений уже возможны некоторые выводы — предварительный итог сказанного.
Итак, внутренний строй произведения — единство всех формальных его компонентов, обусловленное живым единством ( авторской личности.
Мы говорим о строе внутреннем, поскольку зримо явленные элементы постройки в произведении спаиваются тем по большей части «невыразимым», что таится в области эмоционально-смыслового подтекста.
Композиция, -— сказано в уже цитированной нами работе С. М. Эйзенштейна, — «построение, которое в первую очередь служит тому, чтобы воплотить отношение автора к содержанию и одновременно заставить зрителя так же к этому содержанию относиться»11.
Пресловутое единство формы и содержания при таком подходе вы
11 Там же. С 62. ражает себя с подчеркнутой непреложностью. Если же все-таки попытаться абстракгао развести понятая, станет ясно, что компоненты формы стремятся максимально означиться, — иначе они просто не могут существовать. Сливающая же их смысловая субстанция если не «бесплотна» в точном смысле, то во всяком случае не вмещается в рациональные обозначения.
Как уже говорилось, внутренний строй произведения существенно зависит от фактора рода и жанра, в еще большей степени — от той речевой формы, в которой оно выдержано. Этой зависимостью и определяются, в первую очередь, конкретные пути литературоведческого анализа, в принципе различного, когда он протекает в сферах поэзии либо прозы.
Квинтэссенция поэзии, — несомненно, лирика. Особый вид литературоведческой работы — статья, посвященная одному стихотворению. В нашей науке уже существует классика этого жанра, как и первоклассные его мастера: Д. Е. Максимов, Е. Г. Эткинд, М. Л. Гаспаров, В. А. Грсх-нев, С. Н. Бройгман и др. Намечается (хотя, насколько мне известно, она до сих пор никем не зафиксирована) и своеобразная «шкала» задач, возникающих в процессе такого исследования.
Первая из них — рассмотрение стихотворения как имманентно существующего, замкнутого целого12.
Над этим первым уровнем анализа нарастает второй, отвечающий специфической сверхзадаче: выяснить на материале явленного черты более широкой общности — того, что называют авторским «почерком», неповторимым поэтическим лицом. Сверхзадача несет в себе сложность особого рода: при кажущейся своей очевидности, она предполагает необходимость додумывания, а значит, содержит опасность связанного с таким додумыванием произвола. Сложность проистекает и из неясности направления, в котором должно протекать такое додумывание. Впрочем, в нашем случае это вторая трудность почти снимается единством общего «задания». Оно коренится в специфике рода. При анализе каждого из отобранных стихотворений мы стремились зафиксировать те пути, — собственные у каждого большого поэта, — на которых преодолевается
12 Специфические черты такой целостности выявляет Т. Сильман (см.: Сшь- . ман Т. Заметки о лирике. Л., 1977); историческую эволюцию лирических форм в русской литературе исследует J1. Гинзбург (см.: Гинзбург Л. О лирике. Изд. П. Л., 1974). низбежная в лирике теснота реального объема вещи, те средства и приемы, при посредстве которых совершается переход от локальной конкретики образов — в беспредельность потенциально присутствующих лирических миров.
Наиболее очевидны эти пути у Тютчева тридцатых годов. (См. статью «О стихотворении Тютчева "Как океан объемлет шар земной,."»). По отношению к названному стихотворению вообще нет надобности говорить о факте перехода. Миниатюра прямо воспроизводит «пейзаж < вселенной»; в качестве составляющих выступают романтические образы-символы: «океан», «сны», «ночь», «волны», «волшебный челн». Вереницу венчает момент, рождающий чувство, близкое катарсису:
Небесный свод, горящий славой звездной, Таинственно глядит из глубины, — И мы плывем, пылающею бездной Со всех сторон окружены13.
Последние четыре стиха, — писал Некрасов, — удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет»14.
При восприятии этого стихотворения читательскому воображению приходится воссоздавать не картину космоса (она воссоздана самим поэтом), но реальную опору лирического сюжета. По-видимому, это плавание на лодке по водной глади, отражающей звездное небо.
Поэтическое лицо Тютчева — «самой ночной души в русской поэзии»15 — проявляется в этом стихотворении с почти прямой непосредственностью.
Иначе совершается путь в лирическую необъятность на пространстве стихотворения Пушкина «Лишь розы увядают.» (См. статью «О не- { оцененном лирическом шедевре Пушкина» У/ Болдинские чтения. Нижний Новгород, 2000. С. 58-65).
Мы остановились на этой миниатюре, поскольку она до сих пор по-настоящему не оценена (даже не замечена в достаточной мере). Между тем анализ этого стихотворения позволяет почувствовать смысловую наполненность пушкинской «чистой красоты», внутреннюю весомость пушкинской легкости.
Как и Тютчев, Пушкин строит произведение на традиционных символах. Или, точнее, на образах, концентрирующих традиционные мифы
13 Тютчев Ф. Стихотворения. M.-JL, 1969. С. 136.
14 Некрасов N. А. Полн. собр. соч. и писем: В 12т. М„ 1950. Т. 9. С. 212.
15 Блок А Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1962. Т. 5. С. 25. «увядающая роза», «Элизий», «Лета», «волны сонны». Но по ходу развертывания стихотворения традиционное преображается, возникает пейзаж бессмертия — образ вечности, дарованной каждой человеческой душе, жаждущей этой вечности.
Муза Некрасова — как известно, жилица совсем иного мира, безусловно прозаического. Ситуация, на которой строится стихотворение «Похороны», могла бы дать материал для типичного очерка из народной жизни (статья «Стихотворение Н. А. Некрасова "Похороны"; Лирический сюжет и жанровая форма»). И однако же перед нами подлинная, по-новому высокая поэзия. Преодоление «прозы» совершается здесь крайне необычными средствами. Одно из них — неясно мерцающее автобиографическое начало; оно сообщает неожиданное тепло образу лирического персонажа.
Этот «чужой человек», принесший самоубийством «страшную беду» забытой Богом деревеньке, по ходу развития сюжета обретает странно знакомые черты. Не просто родовые приметы «барина», «лишнего человека», «скитальца», бесприютного в собственной стране. Узнается и нечто более индивидуальное: умерший был охотником, с жителями небогатого села его связывали отношения, похожие на дружбу, — любил «ребятишек» («Ты ласкал их, гостинцу им нашивал / Ты не спрос отвечать не скучал»), «нескупо» ссужал порохом мужиков-охотников.
Обогащенная деталями, как бы всплывающими в памяти безымянного рассказчика, история «вольной кончины» «бедного стрелка» начинает восприниматься как одна из проекций судьбы лирического героя. Картина народных похорон — эта мистерия прощания и прощения — ложится в общую раму невысказанных размышлений о бездне, разделяющей человека культуры и людей «земли». Произведение озаряет горестная и отрадная утопия преодоления этой бездны. Ее воплощение — фольклорно-похоронный плач, преображенный уже тем, что он посвящен человеку , никогда прежде не выступавшему в роли его героя.
Так, попытка наметить черты поэтического лица художника приводит к необходимости учитывать хронологический пласт культуры, к которой он принадлежит. При обращении к Некрасову на первый план выходят социально-социологические моменты мироощущения эпохи. В других случаях определяющими оказываются качественно иные пласты культуры, то, что стоило бы назвать общей «стилистикой» чувствования и выражения. Она почти полярна в лирике пред-пушкинской и в поэзии нового времени. Так, у Батюшкова лирическая эмоция высказывает себя с несколько архаичной обстоятельностью (статья «Стихотворение "Тень друга" в контексте элегической поэзии Батюшкова»), У Ахматовой — с жесткой сдержанностью, в той обостренной и одновременно закрытой манере, по которой узнается тип реакций человека времени войн и революций (статья «О лирических сюжетах Пушкина в стихотворениях Анны Ахматовой»). У Пастернака — с напряженной импрессионистической «прерывистостью», тем более заметной, что она совмещается с ультра-традиционным жанровым полем — балладой (статья «Баллады Б. Л. Пастернака»),
Разговор о шкале задач, возникающих в процессе анализа лириче- | ского произведения, подвел нас к естественному рубежу темы. Подвел закономерно — в согласии с теми динамическими потенциями, которые отвечают природе лирического рода. Важнейшая среди них — потенция расширения локального лирического пространства. Осуществляется такое расширение, как правило, двумя путями. Либо через форму лирического цикла (с середины XIX в: — книги стихов). Либо — в создании нового жанрового образования, промежуточного между стихотворением и поэмой.
Первая из этих форм, вполне традиционная, давно осознана теоретически. Вторая — тоже имеющая достаточно длительный срок существования (хотя и несоизмеримый с историческим бытием цикла) — до сих пор не описана, даже не названа. Поэтому начну с нее.
Время ее возникновения в русской литературе — 10-е годы XIX в., полоса завершения процесса перестройки системы лирических жанров. К этому хронологическому рубежу складывается канон новой лирики. Его опознавательный знак — малый объем произведения. Этот по видимости внешний признак отражает «ядро семантической структуры лирики» — момент личностного постижения истины, сопутствующее ему «состояние лирической концентрации»16. j
На фоне лирического канона возникают произведения, в которых нарушается это определяющее его свойство, — «Осень» Пушкина либо «Осень» Баратынского, «Валерик» Лермонтова, «Рыцарь на час», «Железная дорога», «О погоде» Некрасова, «Мельницы», «Город», «Высокая болезнь» Пастернака и др. Сами поэты ощущали выделенность этого образования, отсюда — неканонические подзаголовки, а порой и названия — «Отрывок» (Пушкин), «Сатиры» (Некрасов), «Эпические мотивы» (Пастернак).
В поисках общего наименования решаюсь предложить для стихотворений этого типа определение несколько громоздкое, но достаточно точное — большая лирическая форма (статья «Большая лирическая
16 Силъман Т. Заметки о лирике. Л, 1977: С. 6: форма в русской поэзии. Генезис и характер развития (к постановке вопроса»).
При анализе произведений этого рода проблема их внутреннего строя по-особому актуальна. Отказ от лаконизма свидетельствует о новом соотношении субъективного и объективного начал — картин жизни внешней и внутренней. В этом своем качестве большая лирическая форма демонстрирует рост реалистических тенденций в поэзии. Неслучайно особенно широко она представлена в творчестве Некрасова. Хотя именно у него возможен и отличный от указанного смысловой облик произведения этого типа.
Так, расширенный объем «Рыцаря на час» заполнен не столько картинами внешней жизни, сколько отражением душевного процесса. Состояние лирической концентрации сосредоточивается здесь не в одной кульминационной точке, но охватывает целую вереницу эмоциональных вершин. Внутренний строй произведения отражает непрерывный рост эмоционального напряжения; лирическая субстанция пребывает в своей родовой чистоте (статья «О структуре большой формы в лирике Некрасова ("Рыцарь на час")»).
Чаще, однако, сам факт бытия большой лирической формы проявляет потенции сближения лирики и эпоса, более того — поэзии и прозы, при несомненной экспансии последней.
Вторая из названных нами форм укрупнения лирики, цикл, — в отличие от большой лирической формы — сохраняет коренные качества лирики в неприкосновенности.
Расширение, точнее, «возрастание» смысла, возникающее в контексте цикла, не нарушает автономии входящих в него стихотворений. Не тушит и свойственной им отдельной смысловой заданное™. Так, в «Сумерках» Баратынского сложно «перекликаются» произведения начала и конца книги — «Последний поэт» и «Рифма». Причем «Рифма», содержащая мысль о спасительном воздействии поэзии, не отменяет трагических выводов «Последнего поэта». В свою очередь, «Ахилл» — с его надеждой на душевную поддержку «живой веры» — не снимает безнадежности стихотворения «На что вы, дни! Юдольний мир явленья.» (статья «Сборник Е. А. Баратынского "Сумерки" как лирическое единство»).
Строй «сюиты» в цикле (выражение И. М. Тойбина) создается в глубинном соответствии с природой лирики как таковой. Ее родовое свойство — прерывистость, «пунктирность». В этом плане лирика несет в себе начала полифонизма, понятого иначе, чем у Бахтина и его последователей, — не множества субъектов, а многообразия смыслов, тяготеющих к обособлению. Такое обособление может даже превратиться в противостояние — как, к примеру, у Пушкина в соотношении стихов, обращенных к императору Николаю («Стансы», «Друзьям»), и его же послания «В Сибирь» или «Пророка» и хронологически сопутствующего ему «Поэта». Но даже если дело не доходит до противоречия столь явной остроты, «многосоставность» высказываний лирического субъекта сообщает лирическому потоку эффект соприсутствия нескольких голосов.
Это своеобразнейшее свойство лирического рода изучалось пока крайне мало. Не место рассматривать его и сейчас. Но хотя бы упомянуть о нем следует. От него намечается путь в область больших поэтических форм, в особенности же — к пушкинскому роману в стихах.
Характер повествования, композиция, сюжет «Евгения Онегина» в последнее десятилетие неоднократно становились объектами научного изучения. Не ставя перед собой грандиозной задачи описания системы его внутреннего строя в целом, я преследовала цели гораздо более скромные — исследование отдельных сторон этой системы.
Такое исследование имеет, как известно, самое прямое отношение к постижению характера целого. Более того, в качестве предварительного условия оно предполагает наличие интуитивного представления о природе целого и в свою очередь корректирует его (так называемый герменевтический круг).
В нашем случае эта мысль может быть проиллюстрирована анализом внешне «проходного» эпизода пушкинского романа — «Песни девушек» (статья «Прием песенной вставки в романтических поэмах Пуш- ( кина и в романе "Евгений Онегин"»).
Внимание к эпизоду было рождено, прежде всего, фактом повторяемости приема: песня, ориентированная на фольклорную экзотику, — обычный компонент байронической поэмы. Знанию сопутствовало предположение: особый строй романа в стихах должен существенно изменить прием, пришедший сюда с наследством романтической поэмы.
Действительно, налицо явное различие в этом плане межау «Онегиным» и хронологически наиболее близкими к нему «Цыганами».
В поэме, где развитие сюжета предопределено динамикой «роковых страстей», песня Земфиры, концентрирующая такую страсть, воспринимается как сигнал близящейся катастрофы. Она лежит на магистрали действия: обнажая его пружину, провоцирует трагический взрыв.
В «Онегине» — со свойственной ему «пунктирной» связью эпизодов («"Онегина" воздушная громада») — роль песни в принципе иная. Здесь эпизод пения — прежде всего частичка фона, противостоящего душевной жизни героини. На данном моменте действия это противостояние заявляет о себе с подчеркнутой остротой.
Татьяна в ожидании Онегина переживает минуты волнения чрезвычайного. Пение «по барскому наказу» дает живой контраст ее состоянию. Песня, таким образом, призвана наметить и заполнить собой сюжетную паузу; героине ее смысл в эту минуту вполне безразличен: она слушает — не слыша.
Читатель, однако, должен заметить то, чему героиня внимает «с не-бреженьем». Известно, что Пушкин перебирал варианты песенного текста. Последний устроил его в силу каких-то оснований. Можно попытаться приоткрыть их (разумеется, с большой долей приблизительности), поставив «Песню девушек» в контекст романного целого.
Суть в том, что традиционный в своей фольклорной окрашенности эпизод содержит важнейший жизненный урок, адресованный героине. Он демонстрирует образец исконно женского поведения — кокетства^ но не искусственного, светского, а естественно-природного.
Действие романа — на последнем его этапе — вберет в себя и этот будто походя брошенный штрих. Он отзовется в том, как Татьяна — законодательница зал — строит свои отношения с влюбленным в нее Онегиным. При всей своей искренности (или, точнее, высокой подлинности) героиня ведет с ним своеобразную игру:
Она его не замечает, Как он ни бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, В гостях с ним молвит слова три, Порой одним поклоном встретит, Порою вовсе не заметит <. ,.>17.
Слово «не замечать» на небольшом пространстве текста фигурирует дважды. Подчеркнутое невнимание к Онегину, меняющемуся на глазах, вызывает даже подобие авторского укора, характерно обращенного ко всему женскому полу:
Бледнеть Онегин начинает: Ей иль не видно, иль не жаль; Онегин сохнет <. >
17 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. М., 1937. Т. 6. С. 179. А Татьяне
И дела нет (их пол таков) <. .>18.
Постоянно подчеркивая человеческую исключительность своей героини, Пушкин, однако, не останавливается перед тем, чтобы ввести эту исключительность в контекст жизненно повседневного.
Так, внешне незначительный, но выделенный автором фрагмент романа в стихах .оказывается внутренне соотнесенным с его сюжетной магистралью19.
Причиной специального внимания к какому-либо из эпизодов «Онегина» может быть не только его. композиционная обособленность. Иногда работа начинается с . необходимости просто уточнить толкование того или иного момента романного действия. В частности — смысл известнейшего из эпизодов: в отсутствие Онегина Татьяна читает в ею кабинете оставленные здесь книги. .,."
Очертания этой ситуации в нашем восприятии привьгчно искажены. Авторитетом Белинского утверждена мысль: в «молчаливый кабинет» героиня приходила неоднократно. Между тем пушкинский текст свидетельствует: за чтением книг Онегина Татьяна проводит один дет, — и эта, возможно, не слишком правдоподобная временная веха немаловажна. Она дает основание заново подумать о характере сюжетосложения романа в стихах, в принципе отличного от сюжетики позднего реалистического русского романа. А также об особенностях статуса пушкинского героя (статья «Татьяна в кабинете Онегина»),
Онегин входит в систему целого, организованного его именем, не только как реально действующий персонаж. Представления об его личности дополняются образами, существующими как бы в пределах виртуального пространства (если ради наглядности позволено использовать это сугубо сегодняшнее выражение).
18 Там же. С. 179.
19 В комментариях к роману предлагаемая нами трактовка отсутствует. В. Набоков обращает внимание на то, что Пушкин колебался, как определить отношение Татьяны к песне — как внимание либо невнимание к ней {Набоков Б. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Перевод с англ. СПб., 1998. С. 341). Ю. М. Лотман, отмечая общую контрастность «Песни девушек» и по отношению к чувствам героини, и в сопоставленности с рассказом няни, утверждает, что она ориентирована на свадебную лирику со свойственной ей символикой жениха — «вишенья» и невесты — «ягоды» (Лотман Ю. М, Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980.
С. 232).
В «Письме» Татьяны такой образ создается по модели европейского сентиментального романа («бесподобный Грандисон»).
В «вещем» сне — в соответствии с колоритом разбойничьей песни.
В эпизоде чтения Онегин обретает черты «современного человека» — «москвича в Гарольдовом плаще». Истина личности не совпадает ни с одной из этих проевдий, но дополняется ими как своего рода смысловыми пределами. Облик героя, расширяясь, теряет неподвижность^ смещается как отражение в водной ряби, но не утрачивает изначальной заданное™.
В этой связи следует оговориться. Не могу согласиться с мыслью, высказанной Ю. Н. Тыняновым и развитой его последователями, что пушкинский персонаж являет собой единство чисто формальное — собрание разнородных черт, «обведенное кружком его имени»20.
Центральные герои пушкинских произведений (не только Онегин, но и Алеко, и Самозванец, и Гринев), действительно, обладают некой особостью строя личности. Она отделяет их от фигур позднего русского реалистического романа, но не равняется феномену исчезновения индивидуального характера. В момент изначального определения лица пушкинские герои сохраняют квоту неопределенности. Это «белое» пространство проясняется в ответ на требования события, порождая значимые (а порой — и непредсказуемые) черты и поступки (статья «Статус героя в пушкинском повествовании»).
Но изначальная недосказанность, спасающая пушкинских героев от жесткой детерминированности, отнюдь не беспредельна. Пушкинский человек остается собою — в самых неожиданных проявлениях своего характера. Онегин — ив состоянии духовного преображения — «не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума». Пегруша Гринев и в «чудных обстоятельствах» — «старинный человек», носитель ясного сознания и незамутненной совести. Самозванец и в расчетах хитроумного честолюбия хранит верность своей импульсивно импровизаторской природе.
Не только широта образа пушкинского героя, — творческая свобода самого автора ни в коей мере не равна смывающей все рубелей относительности.
Царством такой относительности — смысловой, эмоциональной, формальной — представляется иногда мир «свободного романа». Мыслям такого рода противостоит анализ одной из сторон этого романа, до сих пор не оцененной в ее структурной роли, — исследование места
20 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 417. сентенций в художественной ткани «Евгения Онегина» (статья «Сентенция как речевой жанр в структуре романа "Евгений Онегин"»).
Типовые черты онегинской сентенции создаются соединением в ее пределах устойчивого, привычно принятого суждения с размывающей его стихией ограничений и «поправок». Сентенция «разбухает», теряет предписанный ей лаконизм и соответствующую ему смысловую задан-ность, сближается — и по интонации, и по строю — с лирическим отступлением. И все же, взятые в их совокупности, сентенции в «Онегине» I образуют некий полюс устойчивости — бытовой, философской, нравственной. Той устойчивости, что у Пушкина по-разному выявляется на f уровнях идеологическом и формальном: дает основания Анне Ахматовой назвать автора «Каменного гостя» «моралистом»21 и определяет повышенную четкость пушкинской композиции — эффект строя, не снимающего ощущения игры жизни.
Изучение особенностей внутреннего строя романа в стихах делает естественным перенос внимания на роман прозаический. Хотя, по слову Пушкина, их и разделяет «дьявольская разница». Впрочем, эта разница ощущается в наибольшей степени, если иметь в виду европейскую прозу XVIII — начала XIX вв. В центре же нашего внимания форма, гораздо более поздняя, лишенная «правильности» классического канона, — роман Достоевского.
Доминанта строя такого романа, с моей точки зрения, не полифонизм, а идеологичносгь, возведенная на уровень структуры; роман Достоевского понимается нами, таким образом, не по Бахтину, а скорее — по Энгельгарту (в соответствии с исходными моментами его концеп- ( ции).
Центральное направление нашего анализа определяется интересом к проблемам композиции — сферы, где внутренний строй произведений большого объема осуществляет себя наиболее наглядно. Как уже говорилось, возможны два подхода к самому понятию «композиция»: на уровне статических элементов произведения (вопрос о членении и пропорциях) и в динамике — как проблема «хода строения вещи» (Б. М. Эйзенштейн). Разумеется, в исследовании конкретного произведения эти подходы до какой-то степени совмещаются; речь может идти лишь о преобладании одного из них.
Так, при изучении «Преступления и наказания» внимание было от
21 Ахматова А. А, Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. П. С. 133. дано по преимуществу архитектонике вещи (по Эйзенштейну, ее «статике» — «членению и пропорциям»). Нет необходимости доказывать, что для Достоевского они отнюдь не формальны. Вопрос лишь о том, как выражается в этих основополагающих компонентах постройки глубинный, предельно подвижный дух произведения. ;
Ограничимся для начала наиболее очевидным. Базис герменевтического анализа — медленное чтение, фиксирующее, прежде всего, после-^ довательносп» расположения художественного материала. По отношению к «Преступлению и наказанию» оно дает немаловажный результат: становится более ясным один из самых сложных моментов трактовки романа — соотнесенность полярных мотивов преступления (статья «О сюжетно-композиционном строе романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"»).
Художественное пространство первого из них — первая часть романа. «Убить для других» — таков для Раскольникова центральный смысл эпизодов, предваряющих преступление. Здесь — стержень мысли героя, нерв, пронизывающий события, объективно между собой не свяг занные. Итог всей их цепи — сцена, акцентированная особенным своим положением: единственная среди эпизодов первой части, она выведена из хронологического ряда. Это припомнившийся Раскольникову разговор в трактире. В речах безымянного студента мысль об оправданности «гуманного» преступления не просто аргументируется; она доводится до непреложности формулы («. .да ведь тут арифметика!»).
Второй мотив преступления («убить для себя») в первой части романа не формулируется. Он возникает здесь лишь спорадически — как идеологический подтекст охватывающих героя вспышек злобы, внезап-^ ных сломов от величайшего сочувствия страдающим к презрительному отторжению от них («Да пусть их переглотают друг друга живьем, — мне-то чего?»). Автором, однако, эти вспышки не комментируются. А потому могут быть восприняты как одна из многих «невнятиц» душевной жизни человека, оказавшегося во власти сбивчивых ощущений. Понимание того, что стоит за такими сломами, приходит ретроспективно, черпается из материала, развернутого лишь в третьей части романа.
Часть открывает описание первой встречи Раскольникова с Порфи-рием Петровичем. Ядро этой сцены — статья Раскольникова «О преступлению). Центр статьи — «наполеоновская теория», философский фундамент второго мотива убийства.
Сам факт изложения этой теории лишь в центре романа, как бы вопреки хронологии (статья, как узнается здесь, была написана за полгода до событий первой части), имеет собственный внутренний смысл. Второе — философское по преимуществу -— обоснование преступления «всплывает», когда в нем появляется настоятельная надобность. Психологическая. Сюжетная. Идеологическая.
Ко времени встречи с Порфирием первый мотив преступления Рас-колышковым почти изжит: вместе с «воШью»-проценгщицей он убил одну из тех, ради которых задумывалось страшное дело, убедился в невозможности помогать «другам» из старухиных денег, более того — в своей неспособности просто делить с этими «другими» жизненное про- * странство. В романном действии возникает некое подобие паузы: Раскольников готов донести на себя.
Новое дыхание герою и роману в целом сообщает факт, который я решилась бы определить как имманентное развитие центральной идеи: обнаруживается ее вторая сторона — содержание, потенциально присутствующее, но до определенного момента почти не явленное. Не берусь судить о реальной динамике замысла Достоевского (хотя показательно, что проект повести, изложенный в письме Каткову, завершается на ситуации, близкой к финалу второй части романа). Мой вопрос сейчас — смысл расположения художественного материала в окончательном тексте. И здесь мы уже подошли к возможности первых выводов.
Широкая развернутость на пространстве первой части романа формулы «убить для других» убеждает в ее весомости. Это не позволяет свести побуждения Раскольникова, сказавшиеся в формуле, на уровень фикции («самообмана», — как следует из концепции Ю. Ф. Карякина). Отношение героя к тем «другим», в ряд которых ставит его самого ход событий на первой стадии их развития, отмечены несомненной подлинностью.
Уровень душевной жизни делает Раскольникова наследником высо- ' ких героев романтизма (статья «О романтическом "пласте" в романе "Преступление и наказание"»). Вместе с тем присутствие в романе двух полярных сторон идеи, то их соотношение, когда одна выступает в роли потенции, другая же — в качестве явленной реальности психического бытия, превращает двойственность в перманентное свойство личности героя. Суть этой двойственности рассматривается нами в контексте проблемы психологизма Достоевского (статья «К вопросу о психологизме Достоевского»). Одновременно двойная природа идеи, одушевляющей героя, осознается как опознавательный знак некоего «избирательного сродства». По этой примете узнаются художественные концепции, оказавшие влияние на ядро замысла Достоевского, — будь то «Письма о "Дон Карлосе"» Ф. Шиллера или статья Белинского о «Борисе Годунове» Пушкина (статьи «Об одном из источников замысла романа "Преступление и наказание"», «Идеологический комплекс "Преступления и наказания"» и «Письма о "Дон Карлосе"» Ф, Шиллера).
В целом же — вернемся к началу наших размышлений о «Преступлении и наказании» — архитектоника, понятая как статика композиции, оказывается у Достоевского одним из самых вещественно-явных выражений бытия художественной идеи.
Несколько по-иному, более непосредственно и прямо, осуществляет ^ ее сюжетная динамика.
Мы изучаем ее на материале романа «Идиот» (статья «О сюжетно-композиционном строе романа "Идиот"»). Выбор именно этого произведения обусловлен целым рядом разнокачественных причин. Ближайшая -среди них (хотя и не решающая) — тот факт, что наиболее устойчивые компоненты «Идиота» убедительнейшим образом представлены в известной работе А. П. Скафтымова22. Сюжетная система романа исследована на этом фоне гораздо менее основательно. А именно в этой сфере лежат главные «загадки» «Идиота». Прежде всего — проблема статуса героя, его окончательной оценки. В работах последнего десятилетия она приобрела неожиданную остроту. Безусловно позитивное понимание образа «князя Христа» сейчас заново подвергается сомнению23. И снова со стороны носителей ортодоксального мировоззрения, — правда, на этот раз не коммунистического, а православного.
Сопротивление этой переакцентировке (в пределе своем она может привести к отрицанию человеческого идеала Достоевского) естественно черпает аргументы в сфере сюжетики романа. История жизни и душевной гибели героя — самое полное воплощение динамики его духа; в ней его живое «оправдание» . Ь Помимо всего сказанного, внимание к сюжетной сфере «Идиота» соответствует специфике его положения в системе творчества Достоевского.
В отличие от «Преступления и наказания», наиболее близкого к «Идиоту» хронологически и структурно, — центр этого романа не идея
22 Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафты-мов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 23-86.
23 Касаткина Т. А. «Рыцарь бедный.»: Пушкинская цитата в романе Достоевского // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 1999. № 1.
С. 301-308; Кириллова И. А. Христос в жизни и творчестве Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. 14. СПб, 1987. С. 26—45.
24 Именно в этом плане общий смысл романа Достоевского рассматривается в уже указанной книге Г. С. Померанца. С. 255-301. героя, но личность, взятая во всей ее иррациональной целостности. Соответственно и центральный момент сюжета не «дело» — замысел и поступок со всеми вытекающими из него последствиями. Суть происходящего в «Идиоте» в гораздо большей степени рассосредоточена, подвижна. «Ход строения вещи» определяется процессом воздействия необыкновенной души на всех, кто с ней соприкасается. Главным в романе оказывается то трудно определимое, что выражает себя как дух и строй человеческих отношений.
Погружение в эту предельно изменчивую субстанцию убеждает, что действие романа создается взаимопроникновением динамических величин разного качества. В основе всего — встречное движение двух полярных сил. Роман открывает приход «князя Христа» к людям. Его тяготение к ним недвусмысленно; психологические побуждения незамутненно просты. Ответное стремление «других» к князю сложно и разнохарактерно. Его порождают импульсы разного уровня.
Низший — движение, почти лишенное направленности. Это — колебания бесконечных интриг, сфера Лебедева, Вари Иволгиной, отчасти Ипполита. Их деятельность — или, скорее, суета — мало влияет на поступки главных героев. Но создает для них постоянный фон — колорит «века пороков и железных дорог». Так демонстрирует себя энергия всеобщего разъединения, борьба всех со всеми, «антропофагия».
Самое яркое ее проявление — соперничество, кипящее вокруг двух женщин. Настасья Филипповна и Аглая — по чувству, которое они возбуждают вг окружающих, —- источники движения, противонаправленного гармоническому воздействию князя.
Весь этот вихрь разнородных побуждений сливается в общий поток — свойственное всем, но исключительное в глазах каждого тяготение к «князю Христу». Центростремительное движение поглощает междоусобицы и окрашивается ими. Диалектика взаимодействия полярных сил — той естественной и цельный, что исходит от князя, и многосоставной, меняющей цвет и качество, которая движется ему навстречу, — определяет все повороты романного сюжета.
На разных его стадиях баланс соотношения этих сил различен.
В первой части романа явно преобладает гармоническое начало. Вереница первых встреч Мышкина с остальными героями романа разворачивается как лестница его блистательных побед. Причем смысл каждой из них не равен духовному завоеванию. На протяжении разговора князя с новым знакомцем меняется вся атмосфера общения — от потенциальной вражды к состоянию духовного братства. (Яснее, чем везде, эта динамика явлена в первом разговоре с Рогожиным). Добрая власть Мышкина над стихией человеческой души кажется на этой полосе романного действия поистине безграничной.
Коррективы вносит финал первой части — едена вечера у Настасьи Филипповны. Здесь впервые Мышкин — не победитель: он не в силах удержать Настасью Филипповну от решения стать «рогожинской». Суть, однако, не в обязательности зафиксированных побед. Конклавы в мире Достоевского вообще не имеют победителей — как землетрясения или извержения вулканов. Происходящее на вечере ужасно не только в его конкретных результатах. Метания Настасьи Филипповны намечают новый рисунок отношения к Мышкину со стороны окружающих его людей. Теперь ими будет руководить не безусловная тяга к князю, но разрушительный ритм притяжений и отталкиваний. Его источник — противоречие, лежащее, по Достоевскому, в основах земного бытия. В известной его записи от 16 апреля 1864 г. сказано: «Человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре»25.
Герои романа, поддавшись порыву страстной тяги к тому, кто воплощает в их глазах извечный идеал, потом столь же страстно мстят ему и себе за невозможность удержаться на его уровне.
С наибольшей остротой обнаруживает этот общий закон сцена встречи соперниц. Вихрь разрушения, пронизывающий все происходящее, здесь столь силен, что на мгновение подчиняет даже героя. В пределах этой сцены князь выступает как орудие разъединения. Он принимает условия противопоказанной ему ситуации выбора. В результате, пытаясь спасти Настасью Филипповну, наносит страшный удар Аглае.
Неорганичность для Мышкина этой навязанной ему роли демонстрирует финал — сцена ночного бдения соперников возле тела убитой. Заметим, автору — при всей экстраординарности происходящего — важен не только и не столько сам факт объединения, со-присутствия антиподов. Остановка на уровне факта может привести к неверным его толкованиям, в частности, к мысли, что, по Достоевскому, герой несет на себе часть вины за случившееся.
Думаю, однако, что Мышкин виновен в катастрофе не больше, чем любой из живущих (ведь сказано же Зосимой: «. .всякий перед всеми за всех и за все виноват»).
Ключ к развязке «Идиота» — не прагматика фактов, а го ощущение великой мистерии, вневременной высоты, которое пронизывает финальную сцену. Совершающееся являет собой торжество трагической гармонии. Только в этом надбытовом (более того — наджизненном) про
2S Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.:В30т. Л., 1980. Т. 20. С. 173. странстве «князь Христос» может осуществить то, ради чего послан в мир.
Но эта же напряженнейшая тональность сцены делает невозможным после нее сколько-нибудь серьезное «продолжение» — развитие событий. В отличие от остальных романов Достоевского, «Идиот» замкнут абсолютно, «закруглен» по модели зеркальной симметрии. Эта завершенность не оставляет надежды на возвращение Мышкина к людям. Но при всей горечи такого финала, роман в целом не оставляет чувства | безнадежности. Причина — в художнической магии, озаряющей лицо героя.
Дело в том, что князь Мышкин изначально не равен истине, которую представляет. Безграничность, просвечивающая сквозь фигуру героя, раздвигает четкие грани романной постройки.
Отсюда же — и потенция расширительно-автономного смысла слагающих роман эпизодов. Один из них — рассказ генерала Иволгана о его службе у Наполеона в захваченной французами Москве (статья «К интерпретации одного из эпизодов романа "Идиот"»).
Выбор фрагмента большой вещи в качестве материала для самостоятельного анализа может происходить не только в соответствии с авторским членением (как выбор композиционно обособленной части произведения). Иногда определяющим оказывается и критерий тематический. Особенно если тему «закрепляет» специфический стиль ее реализации. Именно так был выделен нами аспект изображения праведников у позднего Достоевского (статья «Поэтика образов праведников в поздних романах Достоевского»),
Знак отграничения здесь — не тема как таковая, но необычная тональность при подаче некоторых характеров — эмоциональная аура | умиления.
Само понятие «умиление», восходящее к трудам Отцов Церкви (оно именуется ими «дар слезный»), в двадцатом веке рассматривалось, как правило, в рамках культурологии и религиозной философии (работы Н. С. Арсеньева, С. С. Аверинцева). В собственно литературоведческую сферу оно внесено сравнительно недавно26. Однако, при истолковании поздних романов Достоевского обращение к нему просто необходимо.
Аура умиления предполагает здесь прежде всего соответственный облик причастного ей героя (странник Макар, старец Зосима). Облик реализуется в сопутствующем герою художественном материале — в частности в содержании историй, сопровождающих праведника. Огсю
26 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 1999. С. 71-72. да же — воплощающая это содержание стилистика.
Анализ образов Макара Долгорукова и Зосимы в контексте поэтики умиления позволяет оспорить упрек, привьгшо адресуемый Достоевскому, — мысль о художественном несовершенстве фигур, создающих в его романах полюс позитива.
Художественная манера, в которой выдержаны эти образы, на фоне зрелого русского реализма, действительно, крайне необычна. Но редко-гстное не означает творчески неудачного. Чего стоит, например, образ летней ночи, возникающий в рассказе Макара:
Восклонился я, милый, главой, — говорит он Аркадию, — обвел кругом взор и вздохнул: красота везде неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет — расти травка Божия, птичка поет — пой птичка Божия, ребеночек на руках у женщины пискнул — Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик! И вот точно в первый раз тогда, с самой жизни моей, все сие в себе заключил»27.
Повествование о героях умиления — в силу особенного своего колорита — попадает у Достоевского в тот пласт литературы, где проза наиболее тесно соприкасается с поэзией.
Изучение внутреннего строя произведений, лежащих в сферах поэзии и прозы, закономерно выводит к проблеме взаимоотношения этих сфер, их противостояния и взаимотяготения.
Самосознание прозы на фоне поэзии совершается в русской литературе при посредстве Пушкина — в его прямых высказываниях о природе прозы, в его творческой практике. Высказываний этих сейчас касаться мы не будем: о них говорилось неоднократно. Иное дело пушкинский художественный мир, поистине неисчерпаемый. Аспектное сопоставление художественных систем «Евгения Онегина» и «Капитанской дочки» имеет непосредственное отношение к занимающей нас проблеме (статья «"Евгений Онегин" и "Капитанская дочка". Единство и полярность художественность систем»).
Стих и проза, создающие «обличье» этих произведений, несут в себе качественную характеристику художественной мысли. Характеристику во многом парадоксальную. Сопоставление обнаруживает значимое переключение признаков, традиционно связанных с каждой из этих сфер, и не менее значимое итоговое их единство.
Роман в стихах демонстрирует мир жизненной прозы. Но демонст
21 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. ХШ. С. 290. радия эта по сути вполне «безопасна»: силы стиха, лиризма, обаяние любовного сюжета удерживают изображение в границах «поэтического». Предметный мир романа (за немногими исключениями, куда входит сцена съезда гостей у Лариных), — прекрасен. Тогда, когда оживает утренний Петербург. И когда Москва встречает возок провинциального семейства. И даже в завораживающе страшные минуты последних приготовлений к дуэли.
Помимо уважения к жизни действительной, поэзия питается здесь \ творческой энергией совершающегося открытия, пьянящим чувством собственного всемогущества.
Голая» (выражение Л. Толстого) проза «Капитанской дочки» тоже не чужда этому чувству. Но оно здесь скромнее, неприметнее. Страшное и обыденное становится поэтическим, если окрашивается в фольклорные тона. Или подается так, что вызывает умиление. Один из его источников — временная дистанция, как бы переводящая изображение в другой масштаб. Умиление оказывается ключом, открывающим мир «милой старины». В повести, рисующей этот мир, и в стихотворном романе, отражающем сознание человека нового времени, разными способами достигается единый итог: жизнь обыкновенная, но взятая в ее художественной подлинности, утверждается как гармония.
Зачем, однако, ввиду этого всепоглощающего знания полярные пути? Прозаизация стиха? Идеализация прозы?
Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» воссоздают два лица, два сущностных начала русской жизни: мир интеллектуально-духовной изощренности — личностной, изменчивой до неуловимости, и бытие массовое, традиционное не только в своих патриархальных основах, но и в сотрясающем патриархальность мятеже. |
В последующей русской литературе эти начала дадут единую художественную картину, образуют безысходное противостояние «Героя нашего времени» или «сопряжение» «Войны и мира». Но это станет возможным лишь после того, как Пушкин определил каждое из этих начал в его самодовлеющей отдельности.
Проблема сопряжения поэзии и прозы не теряет актуальности и в эпоху позднего русского реализма. Наиболее интересным в этой связи представляется мне роман Достоевского. Именно по причине его внешней сугубой прозаичности.
Язык, почти обыденный, мелочная детальность в передаче бытовой «подноготной», сложная разветвленность сюжетных линий, — проза у Достоевского не просто осуществляется; она как бы демонстрирует себя самое. Тем важнее возникающая в недрах этого мира тяга к поэзии. На языке поэзии герои выражают здесь высшие свои потенции; автор же — при его посредстве — создает круг символических образов нравственно-философского порядка, (работа «Романы Достоевского и поэзия»).
Вторжение поэзии в прозу осуществляется у Достоевского двумя принципиально разными путями.
В одном случае именно как вторжение: стихотворный фрагмент, включенный в речь героя, противополагается бытовой обстановке, обыденно-простой авторской речи.
Другой путь — внутреннее сближение прозы и поэзии, преображение прозы по модели структур, типичных для поэзии. Формы, возникающие на этом пути, многообразны, а подчас и непредсказуемы. Здесь и особого рода ореол, окружающий героя (Мышкина, Макара Долгорукова, Зосиму), и необычная постановка центрального лица, сообщающая ему некоторые свойства лирического «я» (Раскольникова, Аркадия Долгорукова), и композиционное обособление моментов повествования, обладающих повышенным зарядом эмоциональной энергии, — создание «нервных узлов», эквивалентов поэзии в прозе.
Образования этого рода аккумулируют эмоциональный заряд, разлитый в повествовании. Призванные вызывать высокое волнение читателя, «нервные узлы» поэзии оказываются «горячими местами» (выражение Достоевского) художественного текста. Однако излучаемая ими энергия не являет собой силы сюжетного напряжения. «Нервные узлы» обычна лежат рядом с сюжетными магистралями. Чаще всего это небольшие вставные новеллы специфического содержания.
В «Преступлении и наказании» — романе, отмеченном наибольшей стремительностью целенаправленного действия, — пространство, отделяющее узлы повышенного напряжения от сюжетного стержня, минимально. Эквиваленты поэзии здесь — сны героя; в наибольшей мере — первый (убийство лошади) и третий (повторное убийство старухи). Первому свойственна почти нестерпимая яркость; третьему — фантастическая зыбкость, ориентация на известные читателю образы «балладной» поэзии.
В рамках, лежащих между «Преступлением и наказанием» и «Карамазовыми», характер эквивалентов поэзии несколько иной. Содержание причастных к ним вставных новелл все дальше отходит здесь от стержня главного действия. В «Подростке», например, одна из важнейших «историй» этого рода даже поручается персонажу, в событиях почти не участвующему, — Тршпатову. Автономные сюжеты завязываются на чем-то подчеркнуто «постороннем» по отношению к насущным делам и интересам героев. Их центр — ориентированность на «каноническую ситуацию» (термин Г. В. Краснова)28 — ситуацию, уже известную по реально существующему произведению (картина «золотого века» в «Бесах» и «Подростке») или поданную как сюжет возможного произведения («картины» Мышкина и Настасьи Филипповны в «Идиоте», «штучка» Лямшина в «Бесах», опера Тришатова в «Подростке»),
Поток представлений и ассоциаций, берущих начало от такого «постороннего» образного гнезда, необыкновенно расширяет поле произведения, освобождает реалистическую прозу от опасного для нее прагматизма.
В искусстве существует род, обладающий особенной, давно замеченной близостью к поэзии, — музыка. Методы, выработанные музыковедением, сегодня плодотворно используются в процессе литературоведческого анализа
Я не имею в виду проблемы мелодики стиха. Это сфера достаточно формальная, граничащая с такой специфически замкнутой областью гуманитарной науки как стиховедение. Речь идет о художественном материале, по видимости гораздо более доступном, неоднократно бывшем предметом традиционного литературоведческого анализа, но поддающемся такому анализу в явно недостаточной мере, — о строе новелл и пьес Чехова.
Несомненную услугу литературоведению в этом случае могут оказать приемы, заимствованные из арсенала музыковедения, — в частности метод шведского ученого Нильса Нильссона, связанный с понятием «техника блоков»30. Пользуясь его основами, мы анализируем художественную ткань новеллы «Архиерей» (статья «О новелле А. П. Чехова^ "Архиерей"»). Выделение в рассказе определенного рода предметно-эмоциональных комплексов («блоков») намечает строй вариаций, близкий развитию темы в музыкальном произведении. Основа для такого выделения — первоначальная характеристика общей тональности вещи.
28 Краснов Г. В. Каноническая ситуация в сюжете эпического произведения // Русская литература XIX в. Вопросы сюжета и композиции. Горький, 1975.
29 См. в частности работы Н.М. Фортунатова: Архитектоника чеховской новеллы. Горький, 1975; Композиция чеховского рассказа и некоторые проблемы искусствоведения // Вопросы сюжета и композиции. Межвузовский сб. Горький, 1980.
30 Nilsson NilsAkz. Studies in Cekhov's Narrative Technigue. The Steppe and. The Bishop. Stockholm, 1968.
В «Архиерее» эта тональность предельно сложна и подвижна. Эмоциональное поле рассказа создается столкновением полярных настроений-тем. Одна — светлая — возникает из слияния нескольких мотивов: высокого счастья религиозного призвания, радости подступающей весны, тепла воспоминаний о детстве. Вторую — темную — образуют ощущения болезни, тяжесть нелепостей русской жизни, горечь уходящего бытия. р Развитие контрастных тем выводит к моментам катарсиса. При этом истина дается преосвященному Петру так, что из нее не может быть вынесена какая-либо конкретная польза — ни для него самого, ни для близких ему людей. Счастье великого духовного открытия совмещается с болью последней потери — утраты жизни. Возникает тот «музыкальный» итог вещи, для передачи которого в принципе недостаточны логические ее определения.
Несколько по-иному приемы музыковедческого анализа «работают» при изучении строя чеховской пьесы — прежде всего, «Вишневого сада», «симфоничность» которого была замечена уже его современниками.
Доминантой подхода в данном случае становится выделение в строе произведения особенностей, которые роднят его со структурой со-натно-циклической формы (статья «Черты музыкальности в структуре пьесы "Вишневый сад"»).
Четыре акта пьесы — четыре стадии в развитии определенного жизненного состояния31.
Общая тональность первого акта — подвижная, капризно-изменчивая. На фоне пульсирующего эмоционального напряжения безусловно господствует одна тема — мотив узнавания родного гнезда. Вторая тема, сопутствующая первой, — хлопоты будней, заботы тех, кто встречает мать и дочь. На вершинах напряжения появляется возможность слияния обеих тем в едином развивающемся образе. Его. опознавательные знаки — «дом», «сад», «родина».
Второй акт «Вишневого сада» воспринимается как сюжетная пауза. Главная тема первого акта оставлена, почти запрещена. Натолкнувшись на внутренний тупик (ужас близящегося аукциона), мысль героев уходит вглубь и вширь, берет реванш в исповедях и «русских» разговорах. Соотношение первого и второго акта сродни смене частей сонатно-циклической формы: от быстрого allegro первой — к певучей замедлен
31 См. об этом: Полоцкая Э. А. Развитие действия в прозе и драмах Чехова // Страницы истории русской литературы. М., 1971 . С. 330-338. ности второй.
В третьем акте во многом восстанавливается структурный принцип первого — параллельное развитие двух тем: сквозной, лирической, связанной с Раневской и садом, и мозаичной темы будней. Теперь, однако, темы эти уже не сосуществуют, а активно противостоят друг другу. Каждая из них напряжена до предела, особенно тема будней, обернувшихся суетой нелепого бала. Через нее действию задается новый ритм; возникают аналогии,с музыкальным ckerzo.
Последний акт «Вишневого сада» несет в себе абсолютный итог действия; отсюда его сложная соотнесенность со всеми предшествующими,' Наиболее явно — с сюжегикой и атмосферой первого акта. Перевернутое сходство обнаруживается в крупном (приезд — отъезд, встреча — проводы) и в мелочах (вплоть до упоминания мороза в три градуса). В том, что бросается в глаза (эпизод Пищика, приехавшего вернуть долг) и что присутствует как намек (первая сцена — монолог Лопахина, которого забыли разбудить, отправляясь к поезду; последняя — монолог забытого е доме Фирса). Чехов использует прием, близкий принципу зеркальной репризы, обычно организующей финал сонатно-циклической формы. Последняя часть произведения строится как напоминание, прощальный повтор всех ранее звучавших мотивов.
Вместе с тем сама задача завершения требует, по Чехову, высокой ясности. Главная тема пьесы в последнем акте выступает как единственная. Будни больше не противостоят лирике. Чувство прощания с садом пронизывает все моменты готовящегося отъезда. Возникает расширительный, синтетически-музыкальный смысл последних эпизодов. Огромное значение имеет в этом плане авторская ремарка, прямо переключающая от слов к звукам, («звук лопнувшей струны, замирающий, печальный», далекий стук топора по дереву).
Мера реальности и символизма, свойственная этим звукам, распространяется на весь финал пьесы. Композиционный строй, основанный на принципах, сближающих литературное произведение с музыкальным, предполагает восприятие особого типа — более отвлеченное и одновременно более непосредственное, чем привычно логическое понимание.
Внутренний строй словесно-художественного произведения — при всем поистине неисчерпаемом богатстве его форм и вариаций — оказывается, как мы стремились показать, явлением достаточно рациональным. На этом основывается принципиальная возможность его аналитического изучения — исследования, дающего в итоге несомненный «прирост» в постижении конкретного смысла художественного текста. Но чем глубже удается в этот смысл проникнуть, тем сильнее ощущение
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Книги:
3. РОМАНЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО И ПОЭЗИЯ
Учебное пособие кецкурсу. Л., 1986.
2. СТАТЬИ О ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ
Книга первая. Владимир, 1998.
Содержание:
I. Автор, герой, традиция
Статус героя в пушкинском повествовании
Об автобиографическом подтексте двух эпизодов в произведениях Пушкина
Пушкинская традиция в комедии Гоголя «Ревизор»
II. О поэзии
Сентенция как речевой жанр в структуре романа «Евгений Онегин»
Татьяна в кабинете Онегина
О приеме песенной вставки в романтических поэмах Пушкина и в романе «Евгений Онегин»
Образ стихии в поэме «Медный всадник» (Тема Невы и наводнения)
Из истории пушкиноведения. Мотив «женских ножек» в поэзии Пушкина
Стихотворение «Тень друга» в контексте элегической поэзии К. Н. Батюшкова
Элегии Е. А. Баратынского 1819—1824 годов (К вопросу эволюции жанра)
Сборник Е. А. Баратынского «Сумерки» как лирическое единство
О стихотворении Е. А. Баратынского «Все мысль да мысль! Художник бедный слова.»
О стихотворении Ф. И. Тютчева «Как океан объемлет шар земной. .»
О некоторых особенностях поэтики Н. А. Некрасова
Стихотворение Н. А. Некрасова «Похороны». Лирический сюжет и жанровая форма
О структуре «большой формы» в лирике Н. А. Некрасова («Рыцарь на час»)
О лирических сюжетах Пушкина в стихотворениях Анны Ахматовой
Баллады Б. Л. Пастернака
3. СТАТЬИ О ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ
Книга вторая. Владимир, 1999. 246 | Содержание: III: О прозе
Базаров — «pendant» с Пугачевым. Пушкинская традиция в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»
Об одном из источников замысла романа «Преступление и наказание»
О сюжетно-композиционном строе романа «Преступление и наказание»
О романтическом «пласте» в романе «Преступление и наказание» К вопросу о психологизме Достоевского
Идеологический комплекс «Преступления и наказания» и «Письма о "Дон Карлосе"» Ф. Шиллера
О сюжетно-композиционном строе романа «Идиот» К интерпретации одного из эпизодов романа «Идиот» (рассказ генерала Иволгина о Наполеоне)
Об одной из глав романа «Братья Карамазовы» («Черт. Кошмар Ивана Федоровича»)
Поэтика образов праведников в поздних романах Ф. М. Достоевского (Пафос умиления и характер его воплощения в фигурах стран-|ника Макара и старца Зосимы)
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и традиции русской классики
IV. На пересечении поэтического и прозаического начал «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка». Единство и полярность художественных систем
Роль стихотворной вставки в системе идеологического романа Достоевского
Лирическое начало в повести Ф. М. Достоевского «Кроткая»
V. Литература и музыка
О новелле А. П. Чехова «Архиерей»
Черты музыкальности в структуре пьесы «Вишневый сад»
VI. Маленькие статьи и заметки
Статьи:
1. Метод и стиль лирики Е. А. Баратынского // Русская литература. Л., 1968. № 1. С. 96-106.
2. Миниатюра в русской лирике первой трети XIX века (Батюшков, Баратынский, Дельвиг, Пушкин) // Ученые записки. Серия «Литература». Вып. IV. Владимир, 1969. С. 67-95.
3. О некоторых особенностях стиля поздней лирики Баратынского // Вопросы литературы. Владимир, 1972. С. 25-44.
4.0 внесубъекгных формах выражения авторского сознания в лирике Баратынского и Тютчева // Вопросы литературы. Вып. 9. Владимир, 1975. С. 68-85.
5. Через противоречия — к гармонии (заметки о поэтике пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад») // Литература в школе, 1986. № 2. С. 5861.
6. О числе «два» и роли бинарных структур в художественной системе «Пиковой дамы» // Проблемы современного пушкиноведения. Вологда, 1989. С. 3-19.
7. О неоцененном лирическом шедевре Пушкина // Болдинские чтения. Нижний Новгород, 2000. С. 58-65.
Подписано в печать 16.07.2001. ф-т 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л.2,00. Тираж 100 экз. Заказ № 183.
ЦОП типографии Издательства СПбГУ. 199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 6.