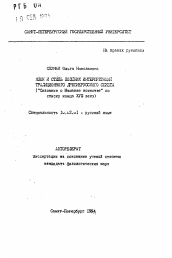автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01
диссертация на тему: Язык и стиль поздних интерпритаций традиционного древнерусского сюжета ("Сказание о Мамаеве воинстве" по списку конца ХVIII века)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Язык и стиль поздних интерпритаций традиционного древнерусского сюжета ("Сказание о Мамаеве воинстве" по списку конца ХVIII века)"
рг Б V}«
ОГ!»
п 1.,и'л л • -САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
СГИЧАК Ольга Николаевна
ЯЗЖ И СТИЛЬ ПОЗДНИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ТРАДИЦИОННОГО ДРЕВНЕРУССКОГО СЕЕТА ("Сказание о Мамаеве воинстве" по списку конца ХУШ века)
Специальность Io.u2.ijI - русский язык
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических иаук
Санкт-Петербург 19314
Работа выполнена на кафедре русского языка Санкт-Петербургского государственного университета.
Научный руководитель - доктор филологических наук,
профессор E.D. Колесов
Официальные оппоненты - доктор филологических наук,
ведущий научный сотрудник О.Д. Кузнецова - кандидат филологических наук, доцент М.Б. Хрымова
Ведущая организация - Новгородский государственный
университет
Защта состоится "/О " ûjym^ï'i 1994 г. в часов
на заседании специализированного 'совета К.^62,57.34 по присуждению ученой степени кандидата филологических наук в Санкт-Петербургском государственном университете по адресу: I99I54, Санкт-Петербург. Университетская набережная, д. 7/9.'
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке имзни A.M. Горького Санкт-Петербургского государственного университета.
Автореферат разослан
Ученый секретарь кандидат филологичёс-
специализироЕанного совета ких наук доцент
U.C. Котова
Объектом исследования реферируемой работы является текст, датированный 1785 годом и названный "Сказание о Мамаеве воинстве"* (далее - СУВ). Список включен в состав старообрядческого сборника-конволюта, хранящегося в научной библиотеке Сыктывкарского государственного университета, и представляет собой позднюю интерпретацию традиционного древнерусского сюжета о событиях I28u г. Бытование популярного древнерусского сюжета в старообрядческой рукописной градации - факт знаменательный, поскольку культура русского старообрядчества представляет собой такой особый "тип народной культуры, где письменный книжный язык и соответствующее тексты являются для этой культуры наряду с устными ее полноправными формами" (Никитина С.Е.), СМВ являет собой пример ганра, принадлежащего "зоне пересечения" устной и письменной форм, тексты которой демонстрируют их очевидное взаимодействие на уровнях стиля, традиции и функции.
Литературная история СМВ исследована М.З. Мелиховым, который "отличительной особенностью" произведения определил "множественность его источников и соединение отдельных книжных мотивов, встречающихся в памятниках Куликовского цикла, с фольклорными - песенными и былинными, восходяпяыи, по-видимому, к устным преданиям о событиях конца ХУ-ХУП вв., с переосмысленными элементами обрядовой народной магии".
Источники. СМВ занимает особое место в кругу устных и письменных памятников Куликовского цикла. Центральным и наиболее популярным произведением цикла литературно-письменных произведений, представленным большим количеством редакций и списков, является "Сказание о Мамаевом побоище" (далее -СИП); оно послужило источником и для СМЬ. Анализ ответных параллелей позволил М.В. Мелихову соотнести текст Сыктывкарского списка с Распространенной редакцией СМП.
Езаимодействие литературно-письменных произведений, в частности, "воинских" повестей с устным народным творчеством очевидно, и в этом усматривается преемственность самого твор-
х Текст GdB опубликован М.Б. Мелиховым. См.: Труды отдела Древнерусской литературы. Т. 42. - Л., 1969. С. С89-4«3.
ческого процесса. Уже списки ХУЛ в. отразили значительное влияние фольклора; в свою очередь, устные тексты, так или ина»е связанные с событиями 128о г., имели связь с литературным повествованием (Дмитриев Л.А.), Куликовская битва нашла и непосредственное отражение в ряде устно-поэтических произведений. Так, важное место здесь занимает текст, записанный А. Харитоновым в Шенкурском уезде Архангельской области и вошедший в сборник "Народных русских сказок" А.Н. Афанасьева как сказка "Про Мамая безбожного" (далее - МБ). "Народной обработкой книжной повести в редакции Синопсиса", попавшей в народную среду "через лубочные картинки", считал МБ С.К. Шамбинаго; этой же точки зрения придерживался Л.А. Дмитриев. Вслед за Б.Я. Проппом, определявшим данный текст как историческое предание, С.Н. Азбелев рассматривает связь МБ с ОЛП как весьма относительную, возможно, обусловленную каким-то "недошедшим чрезвычайно сокращенным извлечением из его Распространенной редакции", и определяет № -как героическое сказание. Исследование литературной истории СМ5, проведенное М.В. Мелиховым, включает сопоставительный анализ текста Сык- • тывкарского списка с МБ. Независимо от "невыгодной" хронологической последовательности функционирования сопоставляемых текстов (МБ записано позже времени составления (НЕ), значимой оказывается их сюжетная и стилистическая соотнесенность.
Важным для проводимого исследования является и упоминание С.Н. Азбелева еще об одном устном тексте, посвященном Куликовской битве, - о сербской народной песне "Бо] Руса са Тата-рима", записанной в 1891 г. М. Кордунашем. Отличительным мотивом песни является иная, нежели в известных нам устных и письменных произведениях Куликовского цикла, трактовка образа великого князя: Дмитрий Иванович готов сбежать, сдать свое государство. Этот особый мотив соотносит данный текст с аналогичным б 04Б. Но мнению С.Н. Азбелева, текст предания, отразившийся е СДП, текст героического сказания (МБ) и текст песни не только по хронологии записи, но и по существу отражают в такой последовательности этапы сюжетной эволюции. Таким образом, МБ (или вариант данного текста) действительно может рассматриваться как один из предполагаемых устных источников СМЕ.
Своеобразие СМВ, обусловленное, с одной стороны, переплетением разноисточниковых мотивов, с другой стороны, наличием в тексте совершенно оригинальных мотивов и эпизодов, определило и своеобразие языка и стиля памятника.
Цель» исследования является анализ функционирования и взаимодействия в тексте СМВ разностилевнх элементов: книжных, народно-разговорных, элементов деловой речи. Актуальным является изучение стилистической функции элементов разных языковых уровней. Слово как "переменная" единица текста, проявляющая свое значение в контексте "на уровне сочетания-формулы" (¡\олесов Е.В.), является предметом исследования.
Учитывая сюжетные и формально-стилистические особенности СМБ, определены следующее задачи исследования. Во-первых, определение соответствия текста Сыктывкарского списка образцу литературно-письменных "воинских" повестей с присучит им "эталонными" формулами. С этой целью проводится сопоставительный анализ СМВ со списками его литературного источника - СМП. Бо-вторых, определение состава и стилистической роли в тексте сыктывкарского "Сказания" того фонда поэтической фразеслогии фольклора, который, составляя своеобразие .фольклорных текстов, является и ярким свдительством воздействия народно-поэтической речи на язык и стиль памятников письменности. Е-третьих, исследование функционирования в тексте СМВ элементов деловой речи, и наиболее показательным в этом отношении является анализ так называемой "административной" лексики, отражающей формирование и развитие социально-политичесяих обозначений, а также использование в языке памятника элементов устойчивого "формуляра" деловой речи. Наконец, важность исследования формально-стилистических особенностей оригинальных мотивов и эпизодов ШЕ, наиболее ярко демонстрирующих своеобразие памятника.
. Актуальность исследования. Изучение языковых и стилистических особенностей позднего письменного памятника, представля-шдего интерпретацию традиционного древнерусского свкета, актуально при определении временных и территориальных факторов создания и бытования подобных текстов, при характеристике особого типа народной словесности, представленного в атноконфес-сиональных группах.
- б -
Новизна исследования. На примере изучения языка и стиля одного памятника в сопоставлении с устными и письменными источниками показано переплетение разНостилевых ялементов в тексте, определяет?« его оригинальность и своеобразие и обусловленных особым - народно-литературным - типом словесности.
Практическая значимость работы видится в возможности использования результатов исследования при изучении языковых и стилистических особенностей произведений, включенных в единый рукописный сборник, а также произведений однотематических и единовременных. Определенную помощь данная работа может оказать при изучении вопроса развития и бытования жанра "воинских" повестей в новое время.
Основными методами исследования являются традиционные описательный и сравнительно-исторический в совокупности с методом комплексного анализа.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседании научно-методического семинара кафедры русского языка Сыктывкарского государственного университета (апрель 1992 г.), а также излагались в докладах на Всероссийских научных конференциях по проблемам духовной народной культуры (май I99u г., май 1994 г.).
Структура и объем работы определяются целью и задачами исследования. Дюсертация.состоит из введения, трех частей, заключения, списков источников, справочной и научной литературы.
Б первой части - ""Сказание о Мамаевом побоище" как литературный источник "Сказания о Мамаеве воинстве"" - проводится сопоставительный анализ использования формально-стилистических средств в Сыктывкарском списке и списках различных редакций СМП.
Раздел I.I посвящен "воинским формулам", составляющим сю-жетно-стилистический стержень жанра "воинских" повестей Древней Руси. В работах A.C. Орлова обозначен "набор" таких постоянных формул, определена возможность варьирования их е кон-
кретных текстах, лексических замен составляющих компонентов. Обязательным и регулярным при этом остается как само наличие стержневых "воинских формул", так и традиционность их метонимически-образного характера. Отмечая безусловное взаимодействие "книжных" повестей'и произведений "народно-поэтического вида",, A.C. Орлов определял основным источником специфических еосл commune'.. литературу "иноземную". В поздних работах исследователь не столь категоричен и отмечает значительное влияние устной поэзии на язык и стиль исторической беллетристики.
Дальнейшее изучение вопроса связи^книжных и устно-поэтических произведений воинского характера привело исследователей к выводу об их очевидном взаимовлиянии.
Списки САП традиционно следуют образцу литературно-письменных "воинских" повестей, реализуя как схему боя (центральное в композиции "общее место"), так и отдельные формулы, сю-жетно организуете текст. Е ШБ классическая схема боя отсутствует; более того, фрагмент, непосредственно связанный с описзиием сражения, нельзя характеризовать как цельный, логически выстроенный и оформленный. Формула, обозначающая помощь небесной силы, составляющая основу фрагмента, реализуется в сочетании божие разгневание и сопрягается в контексте с испытанием своеобразной воинской приметы. Е ., списках СЛП такте вводится испытание приметы: видения-предзнаменования являются энаном победы русского войска благодаря божьей помолу. Испытание приметы в сыктывкарском "Сказании" совершенно иное: стреляние из лука, результат этого действия (т.е. как падают стрелы) очевидным образом связывают фрагмент с народно-поэтическими текстами, что подкрепляется и "утроением" действия (великий князь триады стреляет "по перемене стрел", и только в третий раз стрелы падают "ладно": "ке .песцами к татарам, ушки к русским"), а также наличием народно-разговорных образований ,
Отдельные "воинские формулы" реализуются в контексте СЫБ, однако их языковое оформление существенным образом отличается от аналогичных в сопоставляемых списках литературного источника. Так, формула описания множества войска реализуется в СМЕ и в "лаконической форме" - сила несчетная и несметная, и
в развернутой описательной конструкции - не могут столко еилы сметать, не могут умом подумать, чтобы вся сила сметить. Первая формула - пример синонимической пары, наличие' которых свойственно языку фольклора; вторая также содержит народно-разговорные элементы (глагол сметать, трансформированное в живой разговорной речи фольклорное тавтологическое сочетание думу думать), вариантные формулы в ИЛ оформлены иначе: "лаконическая форма" представлена синтагмами книжно-литературного характера (напр., неисчетно много мнокество въинства его силы) , часто включающими "точное" числовое обозначение (напр.« бяше иуь вящше двоюсотъ тысящ). Или другой пример - уподобление битвы кровавому пиру и символический обра з смертной чаши, пронизывающие все "воинские" повести древней Руси, связывающие их с книжной я устно-поэтической традицией, в СМВ своеобразно контаминированы в устойчивой синтагме - испить крововуи
Показательным для характеристики своеобразия С.1Б явилось сопоставление эпизода поединка, являющегося "общим местом" для списков СМП и Сыктывкарского списка и берущего свое начало из устных эпических произведений. Анализ формально-стилистических средств, использованных в данном фрагменте, позволил оценить СМЗ как текст, наиболее полно сохраняющий особенности устной эпической традиции, а также активно использующий модели делового стиля при образовании необходимых наименований.
Б разделе 2.2 рассматривается состав и функционирование в СМП и ШВ так называемой "воинской" лексики (наименования оружия и снаряжения, обозначения воинских подразделений и т.п.). Сопоставительный анализ позволяет определить своеобразие Сыктывкарского списка в использовании данной лексико-те.матаческой группы. Так, в тексте не отмечено специальной лексемы, обозначающей войну, битву (в СИЛ - брань/побоище/бой/битва/рать/ война/сЬча! ; наряду с общеупотребительным в книжных "воинских" повестях и устных эпических произведениях наименованием воинского подразделения сила используется и индивидуально-авторское образование - воинское/воискоз. Наименования оружия и снаряжения функционируют в контексте сыктывкарского "Сказания" в сочетании с постоянными эпитетами, характерными для .устно-поэтической традиции: тугой лук, острый/булатный меч,ост-
рые/булатные сабли, палица железная, шеломы злаченые. Отмечается в (ИБ'и особое сочетание - платье булатное, не зафиксированное ни в литературно-письменных памятниках, ни в устных текстах, В целом состав и функционирование "воинской" лексики в СМЕ обусловлены влиянием былинных текстов и подчинены стили' стцческим задачам повествования.
Раздел 1.3 посвящен анализу стилистической функции лексических вариантов по спискам СМП и СМБ. Сюжетно-композициоиные особенности сыктывкарского "Сказания", отракдюп^е в тексте памятника разиоисточниковые мотивы, обусловливают относительно небольшое количество парзллельных с МП "мест"; при этом боль-аее число лексических замен представляют в разночтениях глаголы. Сопоставление вариантов позволило оценить замены СМВ как элементы народно-разговорной речи (напр., съврдщн - в СМП,■ снять - в СМВ; повели - в СМП, дозволь - в СМВ; (не)подобати/ (иметь) дерзновение - в СУП, (как можно) умом подумать - в СМВ), представленные иногда наиболее архаичным вариантом (совершить посольство - в СМП. справить посольство - в 0»1£; има-аи побЪдита - в СИ, будет верх - в СМВ), а также вариантом, свойственным устно-поэтическим текстам (христианская (Христова) вера/православная вера/святая вера - в СМП, крещенская вера• - в СМВ).
В разделе 1.4 рассматриваются состзе и функционирование в сопоставляемых списках СУП и СМВ "административной" лексики, позволяющей судить о формировании и развитии социально-политических понятий и отношений. Употребление в текстах данной лексико-темати"еско{) группы обусловливается реализацией бинарной оппозиции свой-чужой, свойственной средневековому мышлению а отраженной в древнерусской литературе. Б этой связи показательно, например, использование лексемы земля в СМБ, которая представляет здесь немаркированный оппозит (земля Русская - земля Половецкая), поскольку такое функционирование данного наименования, по утверждению Б.П. АдриановоП-Перетц, "согласуется с употреблением в языке ХП века". Однако в списках СИП лексема земля используется только по отношению к своей, Русской земле. Б то же время наименование страна во всех сопоставляемых списках закреплена только за чужой стороной. При этом контексты не дают возможности проследить улотребле-
ние оппозитз сторона (противопоставление стрзна-сторона как реализация означенной оппозиции, по наблюдениям Т.Н. Кандау-ровой, действенно для памятников письменности Х1-Х1У вв.), однако определенная закрепленность и постоянное употребление именно трат-лексемы подтверждает ее немаркированность, чем, конечно, и обусловлено ее дальнейшее закрепление в языке в качестве единственно возможного средства выражения данного значения. Показательно, что только в Сыктывкарском списке свободно используется наименование государство, являющееся более поздним вариантом к книжному слову отечество, употребляемому в текстах СМП.
Оппозиция Дмитрий Иванович - Мамай характеризуется, как правило, во всех текстах закреплением за именем Дмитрия Ивановича титула великий князь, за именем Мамая - царь (в некоторых списках СЫН Мамай может именоваться и князем). При этом обозначение великий князь отражает реальную ситуацию и характеризует оппозит свой, тогда как наименование царь (закрепившееся в русском языке как официальный титул главы Русского государства в ХУ1 в., на что указывает В.Я. Черных) является немаркированным членом противопоставления. Определенным образом развивает данную оппозицию пара госудзрь - царь как средство выражения обращения. При этом употребление элементов противопоставления в некоторых списках СМП обусловлено стилистической задачей, ' .тогда как для контекста сыктывкарского "Сказания" такая контекстуальная авторская установка не свойственна.
Противопоставление русские воины - татарские воины также подчинено реализации средневековой оппозиции свой-чужой. Важно указать при этом, что общеродовым понятием, немаркированным оппозитом здесь является лексема князь, «тс, вероятно, обусловлено древнейшим значением слова, т которое указывает И.Л. СрезневскийС »родичь', т.е. происходящий от рода, затем -первый в роде, начальник рода ), в котором "соединялась еще идея о благородстве".
Примечательным оказывается и использование эпитетов, сопровождающих имена Дмитрия Ивановича или Мамая, русских или татарских еоинов. В употреблении эпитетов отмечается определенная закономерность, проявляющаяся в немногочисленности характеристик "положительных" (т.е. своих-) персонажей и многообра-
зии характеристик персонажей "отрицательных" (т.е. чужих). что, вероятно, основано на самом соотношении понятий добро-зло в средневековом мышлении, когда добро постоянно, а зло -многолико. Таким образом, взаимоотношения "положительных" и "отрицательных" эпитетов отличаются и в СМП, и в С4В системностью, основанной на главном противопоставлении - мевду справедливой и истинной христианской религией и всякой другой, противопоставленной этическим и нравственным канонам православия.
Сопоставляемые тексты ОШ и СМЗ не дают возможности проследить реализацию противопоставления русские.жены - татарские жены. Однако значимым оказывается употребление в контексте СИВ наименования госудапские жены (христианские) , имеющего .общеродовое значение и составляющего более поздний вариант к отмеченному в списках ШП наименованию нарочитые жены.
Таким образом, сопоставительный анализ "воинских формул", параллельных мест и лексических замен, различных лексико-те-мзтических групп по спискам СМП и СМЗ не позволяет отнести Сыктывкарский список к традиционным литературно-письменным "воинским" повестям. Обнаруживается^ значительное влияние на сюжетно-композиционную и формально-стилистическую организацию текста устно-поэтической традиции, живой народной языковой стихия.
Ьо второй части реферируемой работы - "Поэтическая фразеология фольклора в "Сказании о Мамаеве воинстве" - рассматривается наличие и употребление в контексте сыктывкарского "Сказания" того фонда языка фольклора, который определяет традицию устного поэтического творчества и является главным свидетельством влияния на язык й стиль памятников письменности.
Раздел 2.1 посвящен конструкциям с эпитетами. Предлагается краткая история изучения вопроса о происхождении эпитета, изучения проблемы так называемого "бессознательного (или механического) переноса", исследования методов и приемов анализа языка фольклора. Основополагающим в реферируемой работе является взгляд на соотношение понятий "кародно-раэговорный язык" и "язык фольклора" как связь внутридиалектную. Среди сочетаний с эпитетами, употребленными в С^В, отмечены древнейшие, сохраняющиеся во многих фольклорных текстах (напр., малые де-
ти, черный ворон, буйная голова и др.). 3 также сочетания с относительно новыми и контекстуальными эпитетами (напр., вольные казак-л, черная схима, темная к ели я).
Б разделах 2;2 и 2.3 рассматриваются состав и функционирование в контексте СМБ репрезентативных и синонимических пар. в Часть из них принадлежит к общефольклорному фонду поэтической
фразеологии (напр., отец и мати. ро^ и племя, спор и задоз. несчетная и несметная, не знать и не ведать), часть является принадлежностью определенных устных жанров и обусловлена спецификой их содержательной.структуры (одевать и обувать, поить и кормить, добр и здрав). Лексемы могут объединяться в репрезентативные или синонимические пары в условиях контекста (напр., быть лицем и возрастом, грамоты и ярлыки, князи и бояре, дроблив и '/боязлив, волхвовать и жеребиевать).
Раздел 2.4 ггэсвящен сочетаниям с числительными. Анализ таких сочетаний в контексте СМВ позволяет предполагать наличие авторской установки (возможно,- заложенной в тексте оригинала) на принцип фольклорной поэтики - "утроение" функций и действий, т.е. на восприятие' числа "три" как имеющего условно-символическое значение.
Таким образом, анализ состава и функционирования в ШВ поэтической фразеологии фольклора позволяет судить о значительном влиянии языка фольклора на язык и стиль памятника, на усвоение составителем сыктывкарского "Сказания" принципов устно-поэтической традиции,
Третья часть.работы посвящена исследованию формально-стилистических особенностей оригинальных мотивов и эпизодов С51Б. Анализ показал, что в основе их - живая разговорная речь, с элементами и обиходно-бытового языка, и народно-поэтического языка, отражающая также и особенности' народно-религиозных воззрений. Так, мотив трусости, страха великого князя перед нашествием Мамая, резко отличаюа^й Сыктывкарский список от &Ш, оформлен неизменной формулой - силос был богатьгоь. (а) сердцем •. до об лив, убоязлив. Дупевное состояние горя, отчаяния (великого князя, Мамая) -реализуется в контексте 'СИВ устойчивой синтагмой падает (пал) на сырую, землю, терзает свои (у себя) черные кудри. Интересным является наличие в контексте Сыктывкарского
I
списка оригинального эпизода подсчета татарского войска, когда
русский князь "оборачивается" черним вороном, что дает основания предполагать сохранение э народней культуре мифологических представлений, отраженных в древнейшей эпической поэзии. Показательным для CMS является и употребление прилагательного черней , являющегося в условиях контекста рдзнофункциональным. В сочеттнии черный ворон оно имеет символическое значение, и, участвуя в создании символического образа, сохраняет в СМВ свое исходно "мифологическое" начало. В сочетании черные кудри прилагательное также неноминативно, выполняет оценочную функцию, хотя в условиях контекста ее не проявляет; выступая как элемент речевой формулы, данное прилагательное употребляется в функции постоянного эпитета. Б сочетания черная схима прилагательное используется в основной, номинативной функции; однако в контексте, во взаимодействии с сочетанием темная келия участвует в создания символического образа монастырской жизни. Аналогичную картину наблюдаем при анализе функционирования в контексте сыктывкарского "Сказания" прилагательного темный. Е сочетании темные князи оно сохраняет свою оценочную функцию; в сочетании темная келия употребляется как номинативное, но в контексте выполняет функцию символизирующую.
Оригинальные эпизоды провиденциального содержания отражают в контексте СМВ главным образом народно-религиозные представления. Особое место в этом отношении занимают два оригинально развитых в Сыктывкарском списке эпизода, связанных с посещением святых обителей - Троице-Сергиева монастыря ("общее место" для всех списков СШ1 и СМВ) х Чудова иокастыря. C.S. Никитина, исследовавшая отражение народных религиозных представлений в текстах духовных стихов, определила, в частности, что комплекс Троицы в них представлен "одним лицом" - Иисусом Христом, соединяющим по своим функциям и Бога Отца, и Бога Сына, и Святой Дух;-при этом в духовных стихах Иисус Христос почти всегда имеет эпитет царь небесный. Именно такая этикетная форма используется и в тексте сыктывкарского "Сказания": призывай на помощь господа бога царя небесного Исуса Христа. Построенное на основополагаю-щх оппозициях Иис.ус Христос - сатана (реже дьявол), рай - ад. небесная сила (ангелы, архангелы, апостолы, святые) - войско сатаны (беси) народно-религиозное сознание отражается в духовных стихах персонифицированно, наделяя оппозиты вполне опредё-
ленными функциями. Словесное оформление функций оппозитов значимо и для СМВ. Так, обитающая в раю (или в царстве небесном, на небесах) небесная сила (где сила употребляется в значении 'войско*, противопоставленное войску, силе неверной), "нисходят на землю, чтобы вмешаться в человеческую жизнь", при этом "человек может их видеть, ощущать их помощь". Кроме того, ангелы (как представители небесной силы), "типичным действием" которых является способность летать, сходят на землю "не по своей воле: они посланы или сосланы". Именно такое понимание мироустройства отражено во фрагменте монастырской трапезы в Сыктывкарском списке. Зормульныш для ганра духовных стихов являются и использованные автором CiL сочетания творить молитву, служить молебны.
Еажным при анализе данных эпизодов является и использование не свойственных общей народно-разговорной основе повествования книжных лексем убожество, пришествие, путь, функционирование подобных образований в контексте сыктывкарского "Сказания" обусловлено контекстом, подчинено стилистической задаче. Так, например, только контекст определил употребление лексемы путь, поскольку в другой, описательной части повествования, не требующей этикетности, автор использует слово дорога.
¡í числу оригинально развитых в контексте. CÍE мотивов, наиболее ярко демонстрирующих своеобразие СЛБ, относится, например, .мотив, обозначающий время прихода Мамая на Русь. Если Е списках СМП это обозначение вводится'в повествование весьма опосредованно (в речи Мамзя: "Ни един хлеба нз паши - да будете готовя на русские хлебы"), то в тексте СМБ содержится прямое указание, также введенное в речь Мамая: "И я буду на Русь воевать святыя Руси, к/огда/ у вас на Руса овес кудряв да баран мохнат". Оборот, реализующей мотив; имеет пословичный характер и указывает на время прихода Мамая (осень) характерными признаками осени, наиболее важными для русского крестьянина. Приняв утверадзние, что все пословицы и поговорки делятся на две группы по способу соотношения с действительностью, видим, что Формула СИ относится к группу, которая "открыто, прямо и наго высказывается о реальном мире" (Снегирев И., Левашов S.A.). A.C. Орлов, исследуя стиль "воинских" повестей, замечает, в частности, "то в календарной поэзии возможны два типа "изображения времен года";
формульную синтагму сыктывкарского "Сказания" возмокно отнести к типу изображения "в образе людских работ, соответствуюпдах поре года".
Пословичный характер носит в СМЗ и мотив, обозначающий необходимость сбора всех русских людей на битву с Мамаем: "...собирай ты силы и великое воинство, и бери ты от трех двух, а в три двора оставляй по единому человеку".
Таким образом, подобные оригинально развитые мотивы в контексте СМ В обязаны, главным образом, влиянию со стороны народно-поэтической речи. При этом значимой оказывается большая соотнесенность данных мотивов с МБ.
Б целом анализ формзльно-сталистических особенностей оригинальных мотивов и эпизодов сыктывкарского "Сказания" показал, что основу их составляет народно-разговорный язык, значительным оказывается влияние устной поэтической традиции.
£ Заключении диссертации содержатся общие итоги исследования, опреДеляюале своеобразие памятника, обусловленное взаимодействием в тексте разностилевых элементов.
Безусловное влияние литературного источника (СЫП) отрази- . лось на использовании в СЛЗ "воинских формул", составляющих йх; сюттчп« "воинских" повестей Древней Руси. Однако сопоставительный анализ их состава и функционирования по спискам СИЛ и СМВ не позволяет отнести Сыктывкарский список к числу традиционных литературно-письменных "ноин:хих" повествований, поскольку, с одной стороны, иног! оказывается их сижетно-компо-эиционнпя роль (напр., отсутствие традиционной схемы боя), а с другой - формзльно-стилистиче-кая организованность (в основе -нэродно-разговорные элементы я устно-поэтические принципы). Ле.чсико-темати;,ескал группа "воинской" лексики в СМ Б по сравнению с СМИ также отличается составом: а Сыктывкарском списке- она предстазлена народно-разгоэсрнкми образованиями и наименованиями, составленными по образцу элементов делового стиля.
Значительное влияние на язык и стиль сыктывкарского "Сказания" оказала устная народная традиция. Воздействие фольклорной поэтики, использование элементов языка -йольклооа, принципов стилистической организации устно-поэтического текста отразилось как в цельных оригинальных эпизодах, развитии отдельных мотивов, так и з лексических заменах параллельных с литературным источ-
ником мест, е использовании фонда поэтической фразеологии фольклора. В целом исследование языка и стиля ШВ позволяет определить его как народно-литературное повествование, обусловленное, в частности, существованием особого типа народной словесности, созданного на основе переплетения устной и письменной традиции и сохраняющегося, превде всего, в отдельных этнокон-фессиональных группах.
Ряд положений диссертации изложен в следующих работах:
1. Сличая О.Н. И стилистической характеристике лексики "Сказания о Мамаеве воинстве" (Сыктывкарский список конца
ХУЛ1 в.) // Устные и письменные традиции в духовной культуре народа: тезисы докладов. Сыктывкар, 1990. С. 137-138.
2. Спичак О.Н. Некоторые осрбенности языка и стиля "Сказания о Мамаеве воинстве" (по Сыктывкарскому списку конца ХУШ в.) // Источники по истории народной культуры Севера: межвузовский сб. науч.тр. Сыктывкар, 1991. С. 47-5Б.
3. Спичак О.Н.' "Административная" лексика в "Сказании о Мамаевой побоище" //'Духовная культура: проблемы и тенденции развития: тезиса докладов. Сыктывкар, 1994. С. 34-36.