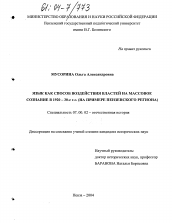автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Язык как способ воздействия властей на массовое сознание в 1920-30-е гг.
Полный текст автореферата диссертации по теме "Язык как способ воздействия властей на массовое сознание в 1920-30-е гг."
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.Г. Белинского
На правах рукописи
Мусорина Ольга Александровна
ЯЗЫК КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В 1920-30-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА)
Специальность 07. 00. 02 - Отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Пенза 2004
Работа выполнена в Пензенском государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского.
Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
Наталья Борисовна Баранова
Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
Сергей Александрович Яковлев;
кандидат исторических наук, доцент Олег Васильевич Ягов
Ведущая организация: Тамбовский государственный технический
университет
Защита состоится 13 мая 2004 года в 15.30 на заседании диссертационного Совета К.212. 185. 01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Пензенском государственном педагогическом университете им. В.Г. Белинского по адресу: 440026, Пенза, ул. Лермонтова, 37.
С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского.
Автореферат разослан « ■fO » C'i/ivflsti'LtiL- 2004г.
Ученый секретарь диссертационного совета кандидат исторических наук, доценту В. И. Первушкин
¿007 - 4
/7/ЗЯ
2512711
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. Процессы, связанные с глобализацией и вхождением в информационное общество, заставляют по-новому взглянуть на события прошлого. Исторический анализ показывает, что успешная манипуляция массовым сознанием достигается умелым использованием языковых средств, определенной языковой политикой. Современные методы и способы воздействия на массовое сознание основаны на тех же принципах, что и идеологическая работа партии большевиков на различных этапах ее правления. Анализ деятельности властей по использованию языка в качестве орудия манипуляции массовым сознанием, а также реакции адресата помогут понять тенденции и методики современной борьбы за умы и противостоять негативному влиянию.
Состояние русского языка, вызывающее в наши дни всеобщую озабоченность, является закономерностью, вытекающей из логики развития советского тоталитарного государства. В 20-30-е гг. XX века и на рубеже XX и XXI веков в обществе и в языке происходят схожие процессы: построение новой модели государственного устройства и «оправдание» выбранного пути посредством воздействия на граждан "через язык. Актуальной задачей является обоснование механизма взаимовлияния социального и языкового факторов и анализ этого феномена на конкретном историческом материале.
Еще одним аспектом, предопределяющим актуальность исследования, является так называемый" международный фактор. В 1948 г. Совет национальной безопасности США утвердил директиву «Цели США в отношении России». Этот до* кумент заложил основы нового вида войны, где оружием служит информация, а борьба идет за целенаправленное изменение массового сознания. Задача заключалась в утверждении в массовом сознании таких стереотипов, которые позволили бы манипулировать и населением страны, и ее правящей верхушкой. В информа-** циойной войне одним из видов оружия является язык.
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ выступает массовое сознание 1920-30-х годов.
ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ является внедрение идеологизированной модели языка, регуляция функционирования и развития языка (языковая политика), реакция массового сознания на языковое воздействие в первые послереволюционные десятилетия.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования является анализ воздействия властей на массовое сознание посредством языка в 20-30-х гг. XX века. Для ее решения были поставлены следующие задачи:
- анализ сущности понятия «язык эпохи» в историческом контексте совет' ского общества;
- рассмотрение социально-экономических условий, определяющих характер языка в 20-30-е гг. XX века;
- исследование основных характеристик языка как социального явления в 20-30-е гг. XX века;
- анализ деятельности органов власти Пензенского региона по внедрению идеологизированной модели действительности посредством языка;
- исследование отношения населения региона к языковым нормам эпохи;
- интерпретация основных итогов и доминант процесса насаждения идеологизированных языковых стсрсотипов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАМКИ РАБОТЫ. Мы рассматриваем Пензенский регион как условное историко-краеведческое понятие, включающее территорию, которая исторически, географически и административно связана с Пензой и Пензенской областью. В исследуемый нами период (1920-30-е гт.) административный статус Пензенского региона неоднократно менялся:
> Пензенская губерния (до 1928 г.);
5- Округа Средне - Волжской области (1928-30 гг.);
> Подчиненные Самаре районы (1930-37 гг.);
> Часть в составе Тамбовской области (1937-39 гг.);
Пензенская область (образована 4 февраля 1939 г. с новыми границами).
Пензенский регион является типичным регионом европейской части России. Здесь так же, как и в других регионах, социально-иолишческие изменения происходили позже, чем в столице, однако достаточно четко прослеживаются все основные тенденции того или иного процесса.
Выбор территориальных рамок был обусловлен и тем, что особенности экономического, социального, политического и культурного развития Пензенского региона определялись многонациональностыо населения. Это накладывало отпечаток как на ход социалистического строительства, так и на практику деятельности местных органов власти. Специфичной была и социальная структура региона. Культурная отсталость населения, сравнительно небольшая прослойка квалифицированных рабочих и специалистов, наличие аграрного перенаселения, безработица создавали дополнительные трудности и, по нашему мнению, определяли стереотипы и особенности массового сознания в регионе.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ РАБОТЫ ограничены 20-30-ми гг. XX века, периодом, когда определилась и установилась модель советского государства в целом. Безусловно, 1930-е гт. являются наиболее характерным периодом с точки зрения степени зрелости системы воздействия на массовое сознание. Но специфика исследуемой проблемы такова, что для адекватной оценки роли языка в воздействии на массовое сознание необходимо обращение к двум послереволюционным десятилетиям.
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ. Еще в XIX веке появились труды, в которых отмечалось влияние переломных моментов в истории народов (в частности революций) на язык эпохи'. Интерес к языку как инструменту социальной власти связан с развитием научных идей, изменявших подход к изучению общества. Специфической сложностью анализа степени исследованности темы является то, что она в основном попадала в поле зрения не историков, а философов, политологов, социологов, лингвистов. Среди исследований феномена массового сознания, в том числе в условиях тоталитаризма, ключевое место занимают идеи и труды Р. Барта. Он высказал мысль о том, что язык - это власть. Он объясняет это тем, что "языковая деятельность подобна законодательной, а язык является ее кодом"2.
Р. Барт рассматривал роль языка в создании современных мифов, тиражируемых средствами массовой информации, и поставил вопрос и о так называемой суггестивности мифа, под которым он фактически понимает массовое сознание, откликающееся на вербальные формы внушения.
' Лафарг П Фраииучский языь до и поос реполюинм. М , 1987. См Структурализм ча и протип М , 197С 115
В настоящее время следует выделить объективные и эмоционально ровные исследования в рамках американской русистики, одним из ярких представителей которой является Ш. Фицпатрик. Предметом ее научных изысканий является послереволюционная Россия, в том числе сталинская Россия в 1930-е годы1. В своих фундаментальных трудах «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» (М., 2001) и «Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-с годы: город» (М., 2001) и в ряде других статей и монографий автор исследует взаимодействие повседневного и чрезвычайного в 1930-е годы, описывает пути и способы, с помощью которых советские граждане пытались- вести обычную жизнь в необычных условиях. В центре исследований Ш. "Фицпатрик - комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus сталинской эпохи. И хотя Ш. Фицпатрик не рассматривает языковую политику властных структур в качестве инструмента создания человека советского, она не обходит вниманием смену культурной модели общества, в связи с чем рассматривает процесс замены личных имен и географических названий. Ш. Фицпатрик вплотную подходит к мысли о том, что у властей существовало как бы несколько языков: один язык обслуживал диалог партии с народом, другой существовал для того, чтобы сообщать то, что было на самом деле. В работе «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» есть разделы «Восприятие и оценка», «Образ Сталина в деревенской молве», в которых автор рассматривает языковую реакцию крестьян на голод и политические события. Эти разделы, свидетельствующие о двойственности крестьянского сознания и о природном здравом скептицизме и сарказме, имели большое значение для нашего исследования2. Ряд выводов Ш. Фицпатрик связанных с социально-экономическим фоном языковой политики и топонимикой, мы использовали в нашем исследовании.
Отображение революционных событий через призму языка мы находим в статье Д. Дж. Рейли «Изъясняться по-большевистски», или как саратовские большевики изображали своих врагов»3. Статья построена на материалах Саратовской губернии, ставшей после Октябрьской революции ареной ожесточенной гражданской войны. Автор показывает, как большевики при помощи «социального слова повседневной политики» истолковывали события гражданской войны в своем регионе, оправдывая растущее насилие со стороны советских властей, и как карикатурно изображали оппозицию этому насилию.
Д.Дж. Рейли считает, что дискурс большевиков включал в себя, кроме набора идей и символов, два новых, потенциально противоположных партийных языка (под языком ученый подразумевает словарный состав, синтаксис и содержание,
1 Fit'zpatrick S / After NEP: The Fate of NEP Entrepreneur, Small Traders, and Artisans in the "Socialist Russia" of the 1930s//Russian History. 1986 Vol. 13.№ 2-3; Ascribing Class: The Construction of Social Identity of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917-1921. Cambridge, 1970: The cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992: Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921-1934. Cambridge, 1979: How the Mice Buried the Cat: scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // Russian Review. 1993. Vol. 52, Lives under Fire. Autobiographical Narratives and Their Challenges in Stalin's Russia // De Russie et d'ailleurs. Melanges Marc Ferro. Paris, 1995; Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s //Slavic review. 1996. Vol. 55. №1.
2 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001. С. 89-91, 321-331.
1 Рейли Д Дж. «Изъясняться по-большевистски», или как саратовские большевики изображали своих врагов» Н Отечественная история. 200). №5.
т.е. то, о чем позволялось тогда писать). Признавая, что формулировка упрощена, автор называет один язык «внешним» (язык партийных газет, публичных собраний, агитационной литературы и устной пропаганды), а другой - «внутренним» (язык секретных и конфиденциальных донесений, не предназначенных для обнародования). Для нас ценным представляется замечание ученого о том, что члены партии могли пользоваться как «внешним», так и «внутренним» языком в зависимости от того, к кому они обращались. В нашем исследовании идея получает дальнейшее развитие в виде диалога «власть-народ», где власть обладает монополией на номинацию явлений окружающего мира, в том числе на изображение прошлого. Д.Дж. Рейли отмечает, что большевики присваивают себе право выступать от имени тех социальных групп, которые они считают привилегированными. Для этого используются определенные стилистические приемы, приведшие к становлению четкой языковой политики.
Частично исследуемая нами проблема была затронута в книге американского историка Р. Пайпса «Россия при большевиках»1, который наряду с другими вопросами рассматривает политику большевиков в отношении религии и культуры. В пк; (е «Культура как пропаганда» автор не обошел вниманием язык данного периода. Отобранный историком языковой материал позволяет судить об изменениях в массовом сознании солдат и крестьян после событий Октября 1917 г.
Мысль о том, что русский язык в советском обществе является в своем роде специфическим явлением и представляет цель и результат политики властей по воздействию на массовое сознание народа, высказывается и анализируется в трудах французского историка А. Безансона. В вышедшем у нас сборнике статей «Советское настоящее и русское прошлое» автор предлагает свой взгляд на события середины Х1Х-конца XX веков в России. Многие выводы, сделанные ученым, могут показаться спорными и категоричными. Однако в одной из статей в главе «Компромисс в сфере языка» А. Безансон также пишет о том, что так называемый советский язык представляет собой сосуществование и борьбу разных языков. Причем речь опять идет не о разных языковых стилях и не о языках разных социальных групп, а о компромиссе между языком партии и языком народа.
Основной причиной, по мнению А. Безансона приведшей к образованию советского языка, является феномен идеологии как определяющего фактора советской системы. Но мы в корне не согласны с его утверждением, что идеология как феномен возникает лишь в исключительных обстоятельствах. В истории человечества А. Безансон обнаруживает лишь два примера: гитлеризм и ленинизм. Ученый высказывает мысль о том, что в России «переносчиком» микроба идеологии становится интеллигенция. Западные - немецкий и французский - элементы идеологии проникают в русскую мысль и через славянофилов, и через западников. А. Безансон определяет основную функцию идеологии после прихода к власти: создание "ирреальности, миража того, чего нет в реальности. Важнейшим инструментом идеологии является Слово, которое всегда есть слово лжи". По определению ученого, советская идеологическая система - это логократия - царство лжи2. Мы не склонны разделять полностью эту резкую оценку, поскольку существовали и объективные причины возникновения советской идеологии в том виде, в каком она существовала в 1920-30-х гг.
' Пайпс Р. Россия при большевиках М., 1997
2 Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998 С 239-241.
К ученым, которые подчеркивают чисто внешний характер влияния общественных факторов на язык, относится Э. Бенвенист, который вслед за другими повторял, что революция 1917 г. в России привела к изменению всего общественного строя в нашей стране, а язык, тем не менее, остался прежним. Критикуя точку зрения Э. Бенвениста, советский исследователь P.A. Будагов считает, что после Октября 1917 г. изменилась сфера и характер функционирования языка, в первую очередь литературного языка1. Мы согласны с этой оценкой, но следует добавить, что изменение общественного строя, изменение социальных условий жизни совпали с заменой общественных идеалов. Скорее даже зарождение и развитие новых общественных идеалов происходило в царской России, а язык (речь) выразителей (носителей) этих идеалов не мог не отличаться от языка других членов общества, и когда произошло изменение общественного строя, выразителей идей революции (добровольно или принудительно) становилось все больше, их язык стал языком эпохи. Новые общественные идеалы принесли новые ценности, изменилось мышление русского народа, которое отражено в языке.
Роль «нового языка» как орудия тоталитарного подчинения была осознана лишь после того, как аналогичный «язык» сформировался в гитлеровской Германии. Хотя его исследователи и пользовались терминологией, привязанной к конкретному месту и времени (в основном используя введенное в 1946 г. В. Клемперером название «язык Третьего Рейха» (Lingua Tertii Imperii) или Nazi-deutsch), структурное сходство, а зачастую и тождественность обоих феноменов не могли остаться незамеченными.
В 1948 году Джордж Оруэлл в повести «Год 1984-й» подробно описывает «тоталитарный язык», созданный на базе английского, и изобретает для него название - Newspeak (в русском переводе книги - новояз). Вслед за книгой, приобретшей мировую известность, этот термин входит во многие языки (например, в польском языке, например, прочно укоренилось понятие nowomowa), где он и используется в настоящее время для обозначения языка, по функции своей тоталитарного, противопоставляемого естественному языку, выполняющему роль средства человеческого общения.
Немецкий ученый-филолог В. Клемперер в своей книге «LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога» дает свое объяснение того, что огромные массы населения Германии (причем не только «простой народ», но и интеллектуалы, аристократы) были в течение 12 лет «охвачены безумием», последствия которого всем известны. В. Клемперер подходит к проблеме именно со стороны языка: во многом успех гитлеровского режима он объясняет сознательным использованием нацистами языка в качестве орудия духовного порабощения целого народа.
Среди представителей русского зарубежья нельзя не отметить М. Геллера. Кго концепция представлена в книге «Утопия у власти» (1982), написанной в соавторстве с А. Некричем и посвященной истории СССР с 1917 г. до наших дней, а также в статьях «Новояз в 1984 году» (1983) и «Революционный плакат как знак советского языка» (1983).
В советский период тема идеологизации языка не получила широкого освещения в историографии в связи с господствующей идеологической установкой на то, что русский язык является языком межнационального общения, свободным от сословных «церемоний». Тем не менее, необходимо отметить, что и в это идеологи-
' Будагов P.A. Избранные научные труды. М.. 1997. С 117
7
зированное время в Советском Союзе существовала целая философская школа, которая рассматривала язык как систему знаков, свидетельствовавших, в том числе, и об идеологических предпочтениях. Речь идет о так называемой Тартусс-кой школе, признанным главой которой был Ю.П. Лотман. В понимании Ю.П. Лот-мана язык включал в себя не только вербальные формы, но и жесты, манеру одеваться, визуальные формы1. Частично мы использовали этот подход в нашей работе.
Среди работ философов и социологов, уделявших внимание историческим аспектам социальной функции языка, - труды H.H. Козловой, рассматривавшей социальную судьбу крестьянства посредством обращения к дневниковым записям, хранящимся в архивах2. Не будучи историком, исследователь, тем не менее, использует методы и средства исторической науки.
В рамках культурологии к подобной теме обратился B.C. Елистратов. В центре внимания его исследований - взаимосвязь национальных и языковых проблем. Языковые изменения особенно четко видны на фоне изменений других сторон жизни общества. B.C. Елистратов приходит к выводу о том, что так называемые «национальные проблемы» актуализируются примерно в одни и те же периоды, что и проблемы снижения языка. Это периоды нестабильности как на «макроуровне» (система межнациональных отношений), так и на уровне отношений социальных, отношений между группами, странами, корпорациями. Происходит актуализация, или легализация, того, что тщательно скрывалось доминирующей идеологией стабильной эпохи. В основном это устные тексты (брань, инвективы, сниженный минифольклор), которые «нарабатывались» в течении стабильной эпохи, а теперь становятся объектом исследований, входят в литературу, средства массовой коммуникации. То же происходит и с комплексом национальных конфликтов: они *
«признаются», затем «обсуждаются» и т. д.
Исторические сюжеты встречаются в работах известного специалиста по общественным связям Г.Г. Почепцова. Так, говоря об имидже политика, он обращается к примерам, связанным с темой нашего исследования. Правда, в основном эти « примеры относятся к истории гитлеровской Германии, иллюстрируя использо-ва-нис фашистами языка в качестве средства манипуляции.3
Одним из исследователей массового сознания является С.Т. Кара-Мурза. Правда, его книги носят скорее публицистический характер и не всегда содержат научный аппарат1. Тем не менее, в его трудах можно найти некоторые сюжеты, связанные с проблемой нашего исследования. Безусловно, позиция, занимаемая С.Т. Кара-Мурзой по отношению к реформам в современной России, весьма резкая, но интерес представляет его аргументация. Он пишет, что «нынешняя смута в России стала возможна после внедрения нового способа господства - манипуляции сознанием. Ломают наши традиции, засоряют родной язык. Мы перестаем видеть реальные угрозы своим жизненным интересам»5. В своих трудах он
1 Погмлн ЮП Семиотика кино. Таллинн, 1973.
' Козлова ! I Н Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора М , 1996 ' 11очепиов Г Г Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. Киев, 1994; Он же Национальная безопасности стран переходного периода Киев, 1996; Он же. Имидж от фараонов до президентов Киев, 1997
* Кара-М\рза СТ Советская цивилизация От начала до Великой победы М„ 2002 ; Манипуляция сознанием и России сегодня М., 2001; Манипуляция сознанием М, 2002 . Истмат и проблема Восток-Запал М 240"' , Идеология н мать ее наука М . 2002 . Краткий курс манипуляции сознанием М , 2002
4 Кара-Мч^а С Т Краткий курс маннпуляиии сознанием М , 2002 С 17
пытается показать механизм манипуляции и «главные мишени, на которые направлены атаки манипуляторов».1
Проблема массового сознания не получила должного воплощения в научных трудах советских историков. Причиной этого, по нашему мнению, является то, что эта проблема не вписывалась в официальную идеологическую схему. Единственной работой по этой тематике была монография Б.Ф. Поршнева «Социальная психология и история»2. Иногда встречались сюжеты, связанные с модой на новые .имена и географические названия в конце 1920-30-х гг., в трудах по истории культурной революции3.
Проблема массового сознания учеными-историками в нашей стране стала исследоваться практически только с 90-х гг. XX века. Существует ряд работ по истории культуры, которые с полным правом можно отнести к историографии массового сознания, например монографии И.И. Голомштока, Е. Громова4. Одним из первых тему массового сознания затронули JI.A. Гордон и Э.В. Клопов5. В последние годы эта проблема стала уже одной из традиционных тем исторических исследований. Мы не будем перечислять труды и имена исследователей массового сознания вообще, остановимся лишь на тех работах, где затрагивались проблемы языка.
Среди первых исследований проблемы массового сознания можно назвать работы Е.С. Сенявской6. Хотя Е.С. Сенявская и не использует в названии своих трудов термин «массовое сознание», их содержание позволяет отнести эти работы к исследованиям именно этой проблемы. Тема комплексного воздействия владей на массовое сознание в 30-е гг. XX века была раскрыта Н.Б. Барановой7. В ее трудах есть ряд сюжетов, связанных с использованием языка в идеологических целях.
В последние годы появился ряд трудов по исторической анфопологии, где за-тро-нута в основном тема массового сознания.8 В этих работах изменения, происходящие с человеком в социальном смысле, иногда связываются и с изменениями в языке.
Однако, проблемы языка в исследованиях, посвященных социальной истории, затрагиваются лишь вскользь. В лучшем случае языку посвящено несколько сюжетов или максимум 1г2 страницы. Большей частью темой языка занимались, как уже подчеркивалось выше, филологи, используя редкие исторические сюжеты для лингвистических, выводов. Из наиболее полных филологических исследований можно назвать работы И.А. Купиной и Т.М. Николаевой.9
От постановки проблемы массового сознания в целом и пересмотра сущности идеологической работа исследователи закономерно перешли к анализу отдельных стереотипов массового.сознания и механизмов их возникновения и формирования.
1 Кара-Мурза С.Т. Краткий курс манипуляции сознанном. М., 2002. С. 9.
1 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М„ 1966.
См., например: Всселоп А.Я. Борьба Коммунистической партии за проведение культурной революции в деревне в годы коллективизации. Л., 1978.
' Голомшток И.И. Тоталитарное искусство. М., 1994; Громов Е. Сталин: власть и искусство. М , 1993.
* Гордон Л.А., Клопов Э В. Что тго было?: размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-годы. М., 1989.
* Сенявская Е.С. Фронтовое поколение: нсторико-психологнчсское исследование. М.. 1996. Она лч Человек на войне' опыт историко-пснхилогической характеристики российского комбатанта А Отечеством
иая история. 1995. №3.
' Баранова Н.Б. Мифологизация массового сознания. М., 1996; Ома же. Власть и воздействие на м,и совре сознание в 30-е гг. XX века Дисс .. д-р истор. наук. М., 1997.
* См.. например: Боброва 0.10 Основы исторической психологин. Спб. 1997., Шкуратов В Л. Исто рическая психология. М.. 1997,
' Купина И.А Тоталитарный язык словарь и речевые реакции. Екатеринбург-Пермь. 1991.11икол.юв > Т.М Лингвистическая демагогия М.. 1998
В этом анализе одно из важнейших мест занимает исследование идеологической функции языка. Этому посвящена книга Б. Сарнова «Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма». Б. Сарнов исследует не только официальный язык советской эпохи, но язык, бытовавший в массах как противоядие, благодаря которому общественное сознание не поддавалось губительному воздействию языка власти в частности и давлению властей в целом. Книга содержит богатый фактический материал, хотя ее вряд ли можно полностью отнести к классическому научному жанру1.
Весомый вклад в изучение процессов и событий 1920-30-х гг. вносят пензенские историки и краеведы. Например, в работах по истории развития экономики, промышленности и рабочего класса Пензенского региона можно найти социально-экономические основы языковых трансформаций. Следует отметить труды H.A. Ша-рошкина". Исследованию крестьянского движения и коллективизации посвящены монографии В.В. Кондрашина3.
В качестве отдельного блока необходимо назвать труды пензенских исследователей, посвященные культурному строительству. Несмотря на то, что тематика э < работ не совпадает с темой нашего исследования, они сыграли определенную роль в нашем анализе, во-первых, потому что язык является частью и основой культуры; во-вторых, в этих работах есть сюжеты, связанные с проблемой языка.
Одной из таких работ является статья В.В. Балахонского «Провинциальная культура и объяснение событий российской истории»4. Автор размышляет о том, что "в языке как общественном явлении отражаются состояния и изменения культурных, социальных, личностных образований". Среди работ, пензенских историков одной из близких к теме исследования является монография JI.IO. Федосеевой «Рабочие Поволжья и культурное строительство в регионе во второй половине 1920-х - середине 30-х годов» (Пенза, 2000 г). В монографии затрагиваются проблемы ликвидации неграмотности, повышение квалификации и культурного уровня рабочих, рассматривается роль библиотек, газет и различных форм художественного творчества в развитии духовной культуры рабочих. Кроме того, в последующих публикациях автор продолжает анализировать ход ликвидации неграмотности среди рабочих, состояние рабселькоровского движения5. Тему ликвидации неграмотности в предвоенные годы рассматривают Т.Н. Кузьмина и H.A. Шарошкин6.
Распространение грамотности и развитие сети начальных школ освещается в работах В.А. Власова, например в статье «Начальная школа Пензенской губернии на рубеже XIX-XX веков (сборник «Отечественная культура и развитие краеведения», Пенза 2001 г), а также в его концептуальной работе «Школа и общество»7.
' Сарнов Б. Наш советский новояз Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002.
1 Шарошкин H А Промышленность и рабочие Поволжья о 1920-е годы. Пенза, 199R.
' Кондрашин В В Крестьянское движение п Поволжье в 1918-1922 гг. М., 2001; Кондрашин В, ПеинерД Голод■ 1932 1933 голы в сопетской деревне. Самара-Пенза, 2002.
1 Балахонский В R Провинциальная культура и объяснение событий российской истории // Российская провинция XV11I-XX веков реалии купьтурной жизни / Материалы 111 Всероссийской научной конференции (Пенза. ^-29ик>ня 1995 г ) Пенза. 1996 Кн 2. С 227-228
* См например Федосеев*! Л Ю Ликвидация неграмотности рабочих Поволжья во второй половине
lO''O-х середине 1930-^ годов !! Исторические записки Межпузовский сборник научных трудов. Выпуск
6 ' "-над. 2002. С 81-9?
'' Кузьмина T 11, Шарошкин И А Проблема ликвидации неграмотности среди рабочих Пензы и области в предвоенные годы (1ЧЗК июнь 1941)» Идеалы и реальности культуры российского города / Материалы IV городской научно-практичеион конференции Пенза, 2003 С. 103-107
1 Власов В а Школа и обии-сз^о Поиски путей обновления образования Вторая половина XIX первая треп, XX л Пекы 1998
Эти работы являются примером того, что тема языка как бы незримо всегда присутствовала в трудах историков, хотя непосредственно и не получила должного внимания, вероятно, в силу своей некоторой нетрадиционности для исторических исследований.
Таким образом, проблема языка как отражения массового сознания, с одной стороны, и способа воздействия на него, с другой стороны, в отечественной историографии не нашла своего освещения и может считаться неизученной.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертации определяется тем, что исторические исследования языка' как социального явления фактически не предпринимались ни в масштабах страны, ни в масштабах региона. Отдельные аспекты этой проблемы присутствуют лишь в качестве второстепенных сюжетов в работах, посвященных культуре и идеологии. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпринят исторический анализ массового сознания 1920-30-х гг. через призму языка как социального явления. Позитивный момент новизны проявляется в том, что рассмотрены Особенности массового сознания и в контексте мировой истории, а не только в рамках национальной истории. На конкретном фактическом Материале МЫ рассматриваем язык как средство воздействия на массовое сознание.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основополагающим методом исследования выступает диалектический, позволяющий установить закономер! ость происходящих в обществе изменений и прогнозировать непосредственные и отдаленные результаты и последствия изучаемого явления. Методологическую основу диссертации составляют:
- принцип историзма, который состоит в изучении событий и явлений в их динамике и хронологической последовательности;
- приицип системности, позволяющий рассматривать общество и язык как социальные системы, каждый элемент которых может быть понят только после рассмотрения того, какую роль он играет по отношению к другим элементам;
- принцип динамичности, применяемый для анализа изменений социальных систем;
- принцип диалогизма: взаимодействие властных структур и членов общества рассматривается нами как диалог, в котором власть выступает инициатором с целью воздействия на массовое сознание.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретическим фундаментом исследования явились труды отечественных и зарубежных философов, социологов, культурологов и лингвистов, связанные с социальными проблемами языка.
Теоретической основой исследования послужили выводы, сделанные выдающимися лингвистами XIX-XX веков: И.А. Бодуэном де Куртенэ, Е.Д. Поливановым, Л.П. Якубинским, В.М. Жирмунским, Б. А. Лариным, A.M. Селищевым, Г.О. Винокуром.
В ходе проведенного нами анализа исторического материала мы исходили из концепции современной когнитологии. В основе когнитологии, научного направления, сложившегося в 60-х гг. XX в., лежит гипотеза о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой и действуют в рамках одной общей задачи. Поэтому в ряде работ ученых - когнитологов сам человек рассматривается как активный преобразователь информации1.
Устная речь не всегда совпадает с истинными мыслями говорящего или пишущего, что особенно важно при анализе идеологии и массового сознания 1920-30-х п..
1 Велнчковский В.М. Современная когнитивная психология М.. 1982; Познание и его ПОТ.'.О.* Ч."-1П Тезисы международной научной конференциию М., 1994; Фомиченко Л.Г Когнитивная модель просодических интерферируемых систем. Волгоград, 1996.
поэтому концепции семиотики также являются теоретической основой диссертации. В современном мире семиотика приобрела особое значение. Об этом свидетельствует тот факт, что армейские офицеры Великобритании изучают семиотику в военной академии в рамках курса по освещению средствами массовой информации военных действий .
Кроме того, в исследовании мы опирались на труды современных психологов, занимающихся теорией манипуляции. Один из виднейших отечественных исследователей массового сознания - Д.В. Ольшанский. В его монографии «Психология масс» есть глава, посвященная эволюции психологии масс в истории человечества. В том числе он рассматривает психологию масс при социализме. Мы использовали тезис Д.В. Ольшанского о том, что «социализм в своих наиболее известных социально-политических формах изначально и совершенно откровенно определял себя как массовую формацию психологии масс»2.
ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Тема исследования предопределила иерархию использованных нами источников. Исследователи проблем индустриализации, коллективизации критикуют официальные публикации 1930-х гг. за несоответствие реалиям жизни: «Журналы 30-х гг. часто приносят разочарование. Можно перерыть годовую подшивку журнала «Социалистическая реконструкция сельского хозяйства», так и не встретив фигуры реального крестьянина»3. Для нашего же исследования, наоборот, официальная пресса той эпохи имеет важное источнико-вое значение, поскольку дает представление о языке власти, о Том идеальном варианте языка, который насаждался в предвоенное десятилетие. В рамках работы над диссертацией были изучены журналы: «Советский музей» за 1931, 1935, 1937 4
гг.; «Коммунистический Интернационал» за 1935 г.; "Искусство и жизнь" за 1937 г. "Литература и искусство" за 1931 г.; "Большевик" за 1931, 1932, 1935 гг.; "Самодеятельное искусство" за 1932 гг.; "Звезда" за 1935 г.; "Исторический журнал" за 1937 г.; "Творчество" за 1937 г.; "Знамя" за 1934г.; "Под знаменем марк- • сизма" за 1934, 1937 гг.; "Огонек" за 1929, 1930 гг.; "Советский театр" за 1931 г.; "Антирелигиозник" за 1929 г.; "Красный библиотекарь" за 1932 г.; "Советская юстиция" за 1934 г.; "Журналист" за 1932 г.; «Крокодил» за 1933 - 1936, 1939 гг.; «Наши достижения» за 1932 -1934 гт.
Огромную роль в нашем исследовании играли газеты, поскольку они одновременно дают представление и о языке власти, и о языке, которым пользовались люди, обращаясь к властям, так как в это время всячески поощрялось движение раб-и селькоров. Их непрофессиональные заметки, письма в газеты позволяют также судить о языке тех лет. В диссертации нами использованы материалы следующих газет: «Правда» за 1935, 1936, 1937 гг.; «Известия» за 1933-1938 гг.; "Литературная газета" за 1934-1938 гг.; а также региональных изданий - «Волжская коммуна» за 1935-1938 гг.; "Средневолжский комсомолец" за 1928-1935 гг.; "Сталинский клич" за 1938-1941 гг.; "Социалистический штурм" за 1933-1937 гг.; "Трудовая правда" (орган губкома РКП и губисполкома, позднее окружных и городских организаций ВКП(б)) за 1930-32 гг.: "Сталинское знамя" (орган Оргбюро ЦК ВКГТ(б) и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской
1 См Комсомольская праяда. 1998 29 августа
'Од.....анский Д В Психология масс СПб 2002. С. 106
Фицпа1рик III Сталинские крестьяне Социальная история Советской России в 30-е годы деревня. М.2001 С 161
области и Пензенского горкома ВКП(б)) за 1939 тт.; "Молодой ленинец" (образован в 1920 г. как орган Пензенской губернской организации комсомола. В 1920-ые гг. газета неоднократно меняла свое название) за 1940-41 гг.
Обширный материал для анализа дают архивы. Большое значение для нашего исследования имели письма властям, во множестве сохранившиеся в архивах. Жанр этих писем различен: в основном это всевозможные ходатайства, жалобы. Наиболее тягостное впечатление производят доносы, но по ним можно проследить, в какие слова облекали граждане свои обращения к властям. Протоколы заседаний партийных ячеек, заявления коммунистов и т.д. также явились источником исследования.
Большой материал мы нашли в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фондах Наркомата РКИ, редакции газеты «Известия», Центрального совета профсоюзов, ВЦИКа, коллекции листовок советского периода, коллекции открыток советского Периода, Министерства просвещения РСФСР.
В Государственном архиве Пензенской области (ГАПО) нами изучены фонды Пензенского городского комитета партии, Пензенского окружного комитета ВКП(б); Башмаковского районного комитета КПСС, Хованского волостного комитета ВКП(б) Сердобского уезда! Исполнительного комитета Пензенского городского совета народных депутатов, Кузнецкого окружного комитета ВКП(б), Исполнительного комитета Рамзайского сельского совета народных депутатов Пензенского района, Первичной партийной организации Варваровского сельсовета Каменского района, облоно, губоно, личного архива Е.И. Цибузгиной.
Мемуары также явились источником проведенного анализа. Мы обращались к воспоминаниям А. Авдеенко, О. Адамовой - Слиозберг, Г. Александрова, П. Ангелиной, C.B. Афанасьева, М.А. Багаева, А. Бусыгина, В.И. Вернадского, С. Гсрш-берг, А. Жида, И.Ш. Кабановой, JI. Либединской, Н. Мандельштам, А.Г. Манькова, C.B. Михалкова, М. Поляновского, М.И. Пришвина, Ф. Чуева, И. Эренбурга. Весьма ценными для нас оказались появившиеся во множестве в последние годы издания анекдотов, в которых встречаются и анекдоты исследуемой нами эпохи.
Специфика темы исследования предопределила значимость такого источника, как литературные произведения и публицистика. Среди авторов использованных нами произведений и классики социалистического реализма М. Горький, Н. Островский, М; Шолохов, Э. Багрицкий, И. Ильф, Е. Петров, М. Зощенко, и многие другие; ставшие символами своей эпохи, творившие по законам времени и причисленные властями к «инженерам человеческих душ».
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается в возможности включения его результатов в обобщающие исследования по истории советского государства. Кроме того, так как русский язык - это не только язык, на котором говорит большинство населения Российской Федерации, но и орудие деятельности политиков, журналистов, преподавателей, проповедников, то на основе проведенного исследования могут быть выработаны определенные реко-мен-дации по возможному влиянию слова на массовое сознание.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
Социально-экономическая и политическая обстановка в СССР в 1920-30-е гг. способствовала появлению «советского языка» как языка новой эпохи, языка власти.
Условиями становления «советского языка» были: деклассация общества, миграция, индустриализация, коллективизация, сравнительно низкий уровень общей культуры и грамотности.
Возникновение «советского языка» явилось результатом целенаправленной деятельности властей по идеологизации массового сознания.
Специфика массового сознания 1920-30-х г., основными чертами которого являлись бинарность, ориентация на будущее, коллективизм, двойственность и т.д., способствовала становлению этого языка.
Языковая манипуляция массовым сознанием проводилась по таким каналам, как система образования и политического просвещения, массовая культура, средства массовой информации и идеологизация бытовой жизни. Основными приемами языкового воздействия выступали речевой стиль, определенные стилистические приемы, способы наименования реалий повседневной действительности и т.п. посредством «советского языка».
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и выводы исследования изложены автором в ряде публикаций. Они докладывались и обсуждались на всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях. Результаты иссле-дования были обсуждены на заседании кафедры истории и права ПГПУ им. В.Г. Белинского.
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновываются актуальность и научная значимость темы, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, очерчиваются его хронологические и территориальные рамки, рассматривается историография темы, приводится оценка научной новизны и практической значимости работы.
Первая глава "Динамика языка как социального явления в 1920-30-е годы" состоит из двух параграфов.
В первом параграфе раскрывается сущность языка как социального явления и рассматриваются социально-экономические и психологические условия языковых трансформаций в 1920-30-е годы.
Мы исходим из того, что советская цивилизация выступает одним из вариантов (ветвей) в развитии мирового сообщества, который наряду с западной цивилизацией представляет историческую ступень на пути к достижению информационного общества. В процессе социализации значительное место отводится не только экономическим факторам, а так называемым вторичным факторам - образованию, культуре, семейным отношениям. Среди механизмов социализации значительное место занимает язык.
Исследование показывает, что язык обеспечивает семиотическое единство общества: члены определенного языкового сообщества адекватно реагируют на вербальные и невербальные символы и строят свое поведение согласно этим символам.
Огромную роль в становлении и развитии советского государства сыграл язык. Советский язык сформировал сознание человека советского. Пропагандистские штампы, клише, взятые из документов того времени, несут немалую смысловую нагрузку Одновременно, будучи взятыми из реалий 1920-30-х годов, они играют роль своеобразных социальных и политических индикаторов.
Анализ показывает, что в результате взятия власти язык большевиков превратился из языка группы в язык народа, что значит, - подчинил себе все общественные и частные сферы жизни. Каждая социальная группа символизирует и защищает свои
ценности, в том числе и тип героического поведения. В советском обществе образ героя стал массовым, тиражируемом. Стремление людей во всем походить на образец, в том числе'и в языковом смысле, послужило основой динамики языка.
Так называемый язык эпохи выполняет следующие функции: историческую, системообразующую, информационную, коммуникативную, дифференцирующую, художественную и функцию семиотического единства общества. Комплекс этих функций лежит в основе способов и механизмов воздействия на массовое сознание через язык. Советский язык выполняет каждую из этих функций, что позволяет нам рассматривать его в качестве самостоятельного исторического явления - языка эпохи тоталитаризма. Советский язык, как и многие процессы и явления сталинского периода, явился отражением отношений между партией и народом. Партия вела диалог с народом, пользуясь одним из своих языков - «внешним», который обслуживал официальные партийные и производственные собрания, агитационные и разъяснительные мероприятия, занимал газетные полосы.
Исследования показывают, что язык этот начинает зарождаться в XIX веке, когда вместе с революционной идеологией вырабатывается новый стиль речи, необходимый для пропаганды идей революции в массах.
После пролетарской революции 1917 г. в стране начался поиск новых идентич-ностей, который сопровождался процессом превращения крестьянина в некрестьянина и должен был привести к формированию человека нового типа - человека советского, одна из многих черт которого - политическая культура - включала умение говорить на языке большевиков. Именно советский язык образовал семиотическое и информационное пространство, в котором существовала «новая историческая общность» - советский народ.
1928 год считается "началом развернутого наступления социализма по всему фронту". Политика, которую проводили большевики в 1920-е годы, не сумела решить многих проблем, стоявших перед страной, не отвечала полностью задачам ее модернизации. Поэтому большинство людей связывало свои надежды с ускорением строительства социализма. В ходе этого процесса складывались традиции, нормы поведения, принципы воспитания и принуждения, определившие советское общество и советский образ жизни на долгие годы вперед.
Языковые трансформации происходили в период 1920-30-х годов при следующих социально-экономических условиях: деклассация населения, масштабная миграция, индустриализация, коллективизация, низкий уровень общей культуры и грамотности.
Исследования показало, что деклассация и миграция огромных масс населения привели к тому, что люди утратили свои корни, а вместе с ними языковые навыки своей социальной группы: им требовалось овладеть общим для всех языком - языком власти. "Новояз" был своеобразной языковой маской, служившей для социальной мимикрии, ведь различие языков является социальным различием. В годы первой пятилетки более 10 миллионов крестьян переехали в город и стали наемными работниками. Они стремились преодолеть это социальное различие. Молодые люди стремились обрести свое место в обществе и начинали с подражания, имитации, с поиска новой манеры держаться, говорить и ходить. Коллективизация и индустриализация усилили эту тенденцию; кроме того, идеологическое обоснование этих процессов привело к дальнейшей политизации и военизации языка, лексическим изменениям в языке. Большое влияние на языковые процессы оказал тот факт, что, несмотря на огромные усилия, предпринимавшиеся властями по ликвидации неграмотности, уровень грамотности и общей культуры был сравнительно низок.
Во втором параграфе анализируются такие направления деятельности властей, как ликвидация неграмотности, введение цензуры и государственной монополии на печать. Причем мы рассматриваем эти процессы в контексте их влияния на формирование массового сознания народа в изучаемый период.
Анализ показал, что идеология сталинской модели государства представляла собой политическую мифологию. Эта идеология характеризуется своим языком, который предстает как объект воздействия в одном случае и как субъект ("язык власти") - в другом. Языковое строительство началось с реформы русского правописания 1918 года, которое сопровождалось перестройкой сознания. Полнейшая стандартизация письменной речи повлекла за собой единообразие речи устной. Все пользовались одним и тем же языковым стилем, одними и теми же клише. Принцип партийности подразумевает приверженность определенным идеям, воплощение этих идей на практике, вербовку в свои ряды все большее число сторонников. Для достижения этих целей необходима идеология партий, ее воплощение в языке (речь, образы, знаки и т.д). Таким образом, сначала язык, речь должны были быть подчинены целям и задачам революционной борьбы, а затем подчинить себе все большие слои населения.
Советская власть контролировала массовое сознание путем введения цензуры и государственной монополии на печать. Самым первым законодательным актом после прихода большевиков к власти был декрет о закрытии «контрреволюционных» газет. В 1920-е годы власть вырабатывает систему способов контроля за информацией, поэтому для данного периода характерна частая сменяемость количества и названий газет, а также преобладание, но еще не полная монополия офи- 4 циального языка власти на страницах изданий. В начале 30-х годов ситуация начинает меняться, и газетный язык все больше приобретает такие характеристики, как полная законченность и неоспоримость высказываний.
Для того, чтобы включить все население страны в семиотическое поле власти, »
партия и правительство развертывают борьбу с неграмотностью. И хотя в стране много несогласных с политикой партии, много разочарованных результатами «социалистический преобразований», цель в основном достигнута: и согласные и несогласные начинают пользоваться языком большевиков, принимают правила словесных игр.
Задача советского правительства состояла не только в том, чтоб научить неграмотных читать и писать, сколько в том, чтоб научить их, через грамотность, правильно думать. Обучение грамоте становится обязанностью, долгом, налогом, который требовало государство. Отказ от выполнения этой обязанности становился преступлением. В 1926 г., когда была проведена первая при Советской власти перепись населения, выяснилось, что "ликвидировали безграмотность" 5 миллионов человек. Это значило, что темп обучения населения страны грамоте после революции, несмотря на декрет, остался примерно таким же, как и до революции. Темпы эти значительно ускорятся в 1930-х гг., но это будет связано с интенсивной индустриализацией и урбанизацией.
Например, по итогам съезда уездных чрезвычайных комиссий по ликвидации бе ' рамотности сообщалось, что работа по ликвидации безграмотности шла все время «очень неравномерно». Таким образом, власти сами отмечают кампанейский характер ликбеза, отразившийся в различных месячниках, неделях, штурмах, походах, эстафетах и т.д.
После постановления о введении всеобщего обязательного начального обучения политика центральных властей делает акцент на системное и планомерное вовлечение в образовательный процесс подрастающего поколения. Вплоть до конца 1930-х гт. борьба идет по двум фронтам: начальное, неполное среднее образование для детей и подростков и перманентная борьба «за превращение пролетарской Пензы в город сплошной грамотности» силами общественности и по предприятиям, новостройкам, частям РККА, жактам, домам и частным квартирам».
В диссертации сделан вывод о том, что в начале 1930-х гг. основная масса населения Пензенского региона (так же в целом по России) была включена в семиотическое пространство власти путем преодоления элементарной неграмотности, обязательного обучения для детей и возможности, а часто необходимости повышения уровня грамотности. Системы воспитания и образования были главными механизмами внедрения новой семантики в сознание людей при всех тоталитарных режимах. Эти системы были призваны вовлечь человека чуть ли не с самого рождения в процесс постоянной идеологической обработки. Буквально с яслей внедрялась в сознание человека политическая мифология: все, что противоречило этой мифологии, решительно отсекалось. Основы коммунистической идеологии включали умение, выражаясь словами С. Коткина, "говорить на большевистском языке", т.е. знание советских обычаев и ритуалов, правил ведения собраний и языка газет, культуры этикета.
О том, какое значение имело слово для властей, говорит учреждение цензуры. Тоталитарное государство не может существовать без информационной диктатуры. Чем больше замкнут мир этого государства, тем больше у него шансов на выживание. Главной задачей является лишение граждан возможности соотносить официальные мифы с реальность. Тайна способствовала вере в чудесное, являвшейся важным компонентом массового сознания. Советские граждане не имели возможности знать о состоянии дел в мире и поэтому недооценивали достижения других народов, твердо веря, что все лучшее, что у них есть, создано ими самими, а весь остальной мир лишен этих благ.
Одновременно изменяются приоритеты языковой политики паргии. Объективные интересы государства требовали знания русского языка ото всех граждан страны. Хотя «сталинская» конституция и гарантировала равноправие всех народов и языков, на деле повышение роли русского языка шло параллельно с закрытием национальных школ и реформами орфографии и правои.^-ания национальных языков.
Проведенный анализ показал, что партийно-государственная номенклатура обеспечивала контроль над массовым сознанием и распространение социалистической идеологии посредством применения следующих средств языка: сведение всего многообразия языковых стилей к одному, широкое распространение аббревиатур и клише, употребление резких противопоставлений, выбор частоты употребления слов и конструкций.
Существование бесчисленного числа аббревиатур становится не просто продуктивным способом словообразования. Каждое сокращение несет в себе эмоциональную составляющую: те. кто пользуется сокращенным специальным названием, всегда обладают чувством превосходства над толпой бнаюдаря какому-то специфическому знанию. В 1920-30-е годы была сильна тенденция к сокращению наименований, к стяжению их в аббревиатуру: пачпрод, комбед, реввоенсовет, ЦК, нэп. Новые понятия и реалии требовали новых названий, но часто процесс приобретал уродливые формы. Существовало, например сокращение «Чусоснабарм» - чрезвычайно уполномоченный при Совете Обороны по снабжению армии.
В диссертации рассмотрена конкретная связь языка и основных идеологем, составлявших в совокупности идеологию 1920 - 30-х гг. В СССР спецификой идеологии, определившей ее высочайшую эффективность, было то, что она основывалась на мифах, давно укоренившихся в массовом сознании. Мифологемы стали идеологемами.
Одной из идеологем 1920-30-х гг. был футуронаправленность, т.е. направленность в будущее, ожидание «светлого будущего».
Документы показывают, что любое бытовое явление, соотнесенное с будущим, теряло принадлежность к настоящему, теряло свою сегодняшнюю значимость и превращалось единственно в материал для строительства этого будущего. Так, комсомольцы, боровшиеся с пьянством на пензенском велозаводе, назывались не иначе как «творцы грядущего». «Они проводили вечера здоровья, читали доклады и лекции о здоровом быте, о вреде алкоголя. Они ополчились против бильярдного зала и продажи пива из буфета при заводском клубе. Цеховая ячейка третьей мастерской на общем собрании решила закрыть бильярдный зал и прекратить продажу пива». Еще одна особенность идеологии 1920-30-х гт. - огромная роль образа врага. Большое значение в формировании образа врага в 1930-е гт. имел язык. Уже к 1937 г. борьба со злом составляла ведущее направление официальной политики партии. Если взять речевой поток того времени, то буквально бросается в глаза обилие негативных слов, ругательств, ярлыков. Об этом, в частности, говорили лозунги, проанализированные в диссертации.
Вот так интерпретировалась идеологема врага на местном уровне: «Пусть помнят фашисты, как говорит товарищ Сталин, что мы хотим мира, но мы не боимся угроз и на удар поджигателей войны ответим двойным ударом. Пусть фашисты запомнят эти слова товарища Сталина и не суют свое свиное рыло в наш советский огород. Ну, а если сунут, то советский народ не только рыло, но и всю их свиную тушу сотрет в порошок» (из ответа Пензенской делегации на XVIII съезде ВКП(б) на послание воспитанников школьного детдома).
С образом врага неразрывно связан образ героя. Советская идеология имела, кроме своей «демонологии», свой пантеон, который венчал, естественно, Сталин, дальше шли герои помельче. По сути, это отражало социальную иерархию. Модель строящегося в СССР тоталитарного государства была строго вертикальна и предлагала последовательные отношения господства и подчинения. Структуру из цепочки коллективов венчает понятие «рабочий класс», вершиной же является «авангард рабочего класса» - партия. По всей логике партийный лидер должен был олицетворять весь социум, являясь как бы его воплощением.
Следующей, весьма важной идеологемой было утверждение о руководящей роли непогрешимой партии. Для этого использовался термин «авангард». Это слово легло в основу оценки оправдания миссионерской, даже мессианской, цивилизаторской роли партии в советском обществе. Причиной самовыдвижения партии на эту роль было ее обладание марксистско-ленинской идеологией, своего рода эзотерическим знанием. Сталин относился к партии, как к ордену меченосцев.
Со времен гражданской войны и с легкой руки самого Сталина утвердилась мода на все военное, включая одежду и. прежде всего, язык. Язык изобиловал всевозможными военными терминами: авангард, борьба, бой, нападение, отступление, атака, штурм и т.д.
Весьма популярной в те годы была идеологема «ново.ю человека». Между тем, она была недалека от истины. Тоталитаризм породил тип «человека тоталитарно-
го». Среди причин, вызвавших его к жизни, одной из основных является процесс мифологизации массового сознания. К концу 1930-х гг. уже можно говорить о появлении «человека советского». Условиями его социального существования были полная информационная блокада общества, идеологизация всех сторон жизни, жесткие механизмы общественного управления, социальный романтизм и т. д. Под воздействием политических мифов и появляется чрезвычайно сложный комплекс разнообразных черт «человека советского». Естественно, что «новый человек» и говорил иначе, чем прежде. Формирование «нового человека» шло как бы с двух сторон: во-первых, это была целенаправленная идеологическая работа, во-вторых, воздействие реальной жизни, чаще всего находящейся в прямом противоречии с прививаемыми мифами и идеологическими нормами. В тех случаях, когда когнитивный диссонанс носил особенно яркий, острый характер, усиливалась и двойственность идеологической работы.
Исследование показало, что большинство людей привлекались к ответственности не за поступки, а, фактически, за слова. Слово было преступлением. Об этом свидетельствуют многочисленные доносы, сохранившиеся в архивах. В них, как о преступлениях, говорится именно о словах, неосторожно сказанных в присутствии кого-либо.
Партия большевиков и ее руководство выработали свой языковой стиль общения с народом. Стиль этот просуществовал до 1985-1991 гг. Советская идеология, воздействие властей на массовое сознание является советским вариантом «связей с общественность» по принципу, способам и методам.
Политизированный язык 1930-х гг. частично превратился из средства передачи информации в некую последовательность «павловских сигналов». Это предопределило то, что он состоял из привычных слов и предложений, словесных клише и образов, вызывавших определенные реакции массового сознания.
Вторая глава "Массовое сознание в 1920 - 30-е годы через призму языка" состоит из трех параграфов.
В первом параграфе речь идет о сущности и специфике массового сознания 1920-30 годов.
Изменение реалий повседневности, возникновение и утверждение новых форм бытия в деревне (колхозы и совхозы) и городе на производстве вовлекло за собой изменение сущности массового сознания, переход от крестьянского мировоззрения к миропониманию человека советского. Процесс этот начался в послереволюционный период и в основном завершился с принятием в 1936 г. «сталинской конституции»
Изменение массового сознания следует рассматривать не только в контексте отечественной истории, но и в контексте мировой. Для истории XX века характерны такие явления, как рост экономики, культуры, образования, урбанизации, социализации жизни человека. Массы стремятся к объединению в политические и общественные организации, на основе чего происходит формирование человека массы. В то же время, реалии советского общества 1920-30-х гг. соответствуют мировым тенденциям, в том числе в сфере развития языка. Таким образом, советский человек выступает как пример массового человека со всеми присущими ему чертами, включая и сознание.
Для массового сознания советских людей к концу 1930-х годов были характерны следующие черты бинарность, черно-белое восприятие мира, в котором 01-ром1гую роль играли идеологемы врага и героя, ориентация на будущее; коллективизм: милитаризация, двойственность; фетишизация вождя В главе анализируются воплощения тгих особенностей массового сознания п языке
Так, исследуя воплощение идеологемы коллективизма, мы сделали вывод о том, что само слово «личность» (важнейшее в юридическом лексиконе) приобрело оттенок классово чуждого термина. В бытовой речи оно нередко использовалось в качестве осудительно-иронического ярлыка, а всерьез уместным считалось лишь в применении к выдающимся историческим деятелям. И наоборот, слово «масса» приобрело аффирматиъную значительность. Оно нерасторжимо срослось с выражениями «народная», «трудящаяся», «революционная» и совершенно утратило изначально заложенный в него социально-критический смысл.
«Социалистическое наступление» началось по всем правилам военных действий с провозглашения фронтов: «фронта индустриализации», «фронта коллективизации», «траеторного фронта», «идеологического фронта», «культурного фронта», «антирелигиозного фронта», «литературного фронта»,,и т. д. Понятие «фронт» было применимо к любой области жизни. Создавалось впечатление, что страна представляла собой поле брани. Приведем ряд примеров выражений из партийных документов, подчеркнем, что зачастую они один в один совпадают с газетными заголовками: «Драться за урожай»; «Годичная борьба за выполнение Постановления ЦК ВКП(б) о школе»; «Фронт народного образования отстает от фронта социалистического строительства»; «В деле развертывания культурной революции партия добилась решающих успехов в беспощадной борьбе с классовыми врагами». •
Исследование показало, что состояние массового создания населения, обусловленное абсолютистской монархией, делало его крайне уязвимым и восприимчивым для идеологической обработки со стороны власти. Результатом воздействия на массовое сознание явилось миропонимание человека советского с целым рядом характерных черт, Такая ступень в развитии массового срзнания объясняется как традиционной для России системоцентристской моделью общественного устройства, так и горизонтами ожидания масс: ожиданием мирной жизни и светлого будущего, потребностью в сильном лидере, представлением о врагах как виновниках неудачной экономической политики властей. Мы пришли к выводу, что состояние массового сознания конца 1920-х начала 30-х гт. позволяло властям успешно использовать языковые средства манипуляции сознанием народа, превратив его в высоко идеологизированное сознание человека советского.
Во втором параграфе мы определяем каналы языкового воздействия и исследуем способы и приемы данного воздействия.
Основными каналами воздействия властей на массовое сознание являлись: система образования и, прежде всего, школа. Сюда же мы включаем и систему политического просвещения, массовую культуру, средства массовой информации, идеологизацию бытовой жизни, вторжение в обыденную жизнь людей.
Система политического просвещения была предметом постоянного внимания властей. Была создана сеть начального политпросвещения. К началу 1930-х гг., например, в Пензе было организовано 59 школ политграмоты сокращенного типа. Большое число членов партии занимались в кружках по «изучению марксистско-ленинской теории», т.е. изучение метатекстов имело массовый характер. Подобных кружков было множество: по изучению истории ВКП(б), ленинизма, политэкономии. В 1939 г. в Пензенской области было 1200 кружков по изучению марксизма-ленинизма.
Еще большие возможности для манипуляций с массовым сознанием давала школа. В середине 1930-х гг. местные власти региона рапортовали о том, что «100% детей школьного возраста охвачены начальной школой». На уроках рус-
ского языка, литературы, да и на остальных уроках дети получали знания, оформленные в идеологизированные клише. Подчеркнем, что мы не считаем сугубо отрицательным воспитательный процесс того времени. По крайней мерс, патриотическое воспитание дало свои результаты в годы Великой Отечественной войны. Власти внимательно следили за литературой, которую читали дети, за комплектованием школьных библиотек политической литературой.
Выясняется, что в 1930-е гт. язык служил средством создания мифической, виртуальной, желаемой властями картины мира. Причем зачастую «белое» называлось «черным» и наоборот. Парадоксом служило то, что эта виртуальная картина приобретала черты истинной реальности, а реальная картина становилась как бы ненастоящей. Так, на литературном вечере в одной из пензенских школ прозвучало: «Лишь с развитием колхозов у мужика душа встала на место». И это в 1933 г., когда деревня, по сути, терпела бедствие.
Средства массовой информации сыграли огромную роль в языковых процессах 1930-х тт. С повышением уровня грамотности развивалась сеть районных газет. За первую половину 1930-х гг. на территории, вошедшей затем в состав Пензенской области, возникло больше 30 районных газет. Это привело к резкой активизации рабселькоровского движения. В 1934 г. Пенза вышла на первое место в Средневолжском крае по распространению газет и журналов среди населения. В практику массовой работы входят коллективные читки газет. К началу 1940-х гг. в Пензенской области издавалось 14 многотиражных, 2 областные и 38 районных газет, разовый тираж которых составлял 155 тысяч экземпляров. Власти всячески поощряли рабселькоровское движение. В газетах были введены специальные рубрики «Вести из деревень», «Вести с предприятий», в которых помещали короткие письма рабселькоров. Зачастую они были похожи на доносы, и это вынуждало авторов скрываться под псевдонимами «Овод», «Очиститель», «Случайный», «Даешь», «Человек», «Свой», «Политпросветчик», «Жало», «Оса», «Красноармеец» или инициалами. В 1930-е гг. рабселькоры отказались от таких экзотических псевдонимов, которые использовались в 1920-х гг. («Призрак», «Устрашающий»). С одной стороны, письма рабселькоров безусловно заставляли местные власти обращать внимание на хозяйственные проблемы, с другой - создавали атмосферу «бдительности».
Следует обратить внимание на своеобразное жонглирование словами в период репрессий. В этом случае язык совершенно очевидно служит средством управления массовым сознанием. Так, несогласный с Центральным Комитетом партии или со Сталиным ведет себя как враг коммунизма. Можно таким образом, считать, что оппозиционер ослабляет ЦК, а значит и пролетариат. Он ведет себя как враг, а значит - как предатель, т.е. его можно объективно считать предателем. Чтобы массы уяснили, что нет разницы между формулировками «вести себя как предатель» и «быть предателем», им сообщали, что Зиновьев, Каменев, Бухарин или Троцкий были связаны с гестапо. В своей знаменитой речи на съезде Н.С. Хрущев сказал: «Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин давал возможноегь всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным... подвергнуть самым жестоким репрессиям». По сути, во многом репрессии были построены, как это ни странно чв\ чит, именно на словах (и диссертации мы приводим примеры ш пензенского архива).
Способом воздействия на сознание было и изучение своего рода сакральных текстов - прои ¡ведений, Маркса, Энгельса. Ленина, Сталина, партийных документов и постанов icHnfi. R 1938 г. вышел «Краткий курс истории ВКП(б)» разработанная и уложенная в определенные рамки концепция историческою процесса.
ставшая «священной книгой» сталинского социализма. Его выход в свет играл большую роль в утверждении мифа о вожде. «Краткий курс истории ВКП(б)» имел значение метатекста. К каждой главе «Краткого курса» издавался огромный том «Консультаций» - т.е., как бы толковник писания. Мегатекстом служила и биография Сталина, книги, статьи других вождей помельче: «Сталин и Красная армия» К. Ворошилова, «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья» Л. Берии. Сюда же относится и сборник «Встречи с товарищем Сталиным». Метатекстами считают тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях и имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников. В число таких текстов входят мифы и предания, библейские тексты, притчи, анекдоты, сказки, тексты художественной литературы.
Для культуры советской эпохи прецедентами были не столько сами тексты Маркса, Ленина, Сталина, а скорее их имена как символы, которые занимали ключевое место в ценностно-семантическом поле массового сознания. Действительно, эти тексты знали лишь на уровне названий работ, статей и отдельных цитат из них и использовали в большинстве своем в идеологических целях. Умение играть в новые словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена нужно для того, чтоб «вписаться» в общество. Язык - это власть, необходимо было овладеть языком власти, а тексты служили ставкой в социальной игре. Здесь также проявляется характерная для советской эпохи двойственность: с одной стороны, тексты вождей - святыня, с другой - эта самая святыня используется для реализации жизненных целей.
Катастрофические последствия первых лет «социального наступления», хаос и беспорядок в стране требовали от сталинского руководства предпринять какие-то шаги. Первые симптомы изменения политики можно проследить уже в выступлении Сталина перед хозяйственными руководителями 23 июня 1931 г. В этом сказывалось влияние наиболее прагматично настроенной части партийно-хозяйст-вснной номенклатуры. Непосредственные руководители производства стремились несколько ослабить напряжение, сложившееся в предшествующий период.
Одновременно меняется «внешний» язык партии. После выхода статьи Сталина «Головокружение от успехов» (март 1930 г.) в лексиконе партийно-государственного аппарата и органов печати появляется слова «организованность» как знак того, что партия выступает за проведение разумной полигики в отношении крестьянства. Вот несколько примеров их «Трудовой правды»: «За высшую организованность»; «Борцы за социалистический сектор»; «Колхозники дают пример организованности в подготовке к севу»; «Начинаем смотр организации труда в колхозах». '
Вообще, газетные статьи и их заголовки представляют собой интересный материал для анализа политических кампаний, прежде всего, с точки зрения их значимости.
Подчеркнем огромную роль средств массовой информации в формировании языка власти, языка-инструмента воздействия. Эта роль предопределялась, среди других факторов, и монополией государства на информацию. Речь идет о том, что язык практически всех печатных органов был одинаков. Система языковых стереотипов внедрялась «ковровым» способом, массово. Информационная диктатура открывает огромные возможности для манипулирования сознанием, с ее помощью бюрократия усиливает контроль над обществом. Распространение средств массовой информации (в 1920-30-е гг. - в основном печатного слова) позволило тота-
литерному государству образовать систему мощного воздействия на массовое сознание, создать целое специфическое миросозерцание на базе сужения сферы рационально-логического мышления, притупления критической мысли, иллюзорного преодоления реальных противоположностей, искажения ценностных ориентации. Последнее тесно связано с феноменом информационной диктатуры.
Прессой власти руководили практически повседневно и главное внимание уделяли идейному содержанию каждого слова. Периодически принимались постановления, касающиеся печати - такие, как, например, "О сельской, районной и низовой печати" (1931 г.). В этом документе была определена система мер по укомплектованию редакций газет "зрелыми партийными работниками, наиболее подготовленными рабселькорами".
Номинативная функция языка состоит в создании у носителей языка устойчивой языковой картины мира посредством наименования явлений и реалий повседневной жизни. Эта функция имеет психологический характер: люди склонным испытывать чувство тревоги, страха, неуверенности в себе, если сталкиваются с неизвестными фактами, явлениями, особенно в повседневной жизни. Именно эта особенность позволяет власти использовать язык как средство воздействия на массовое сознание народа.
К важнейшим способам воздействия на массовое сознание через язык мы относим следующие способы: выработка соответствующего целям и задачам власти речевого стиля и использование определенных стилистических приемов, построение средством языка социальной иерархии общества, наименование реалий повседневной действительности и географических объектов, языковое вторжение и контроль за личной жизнью индивидов, включая семейную коммуникацию.
Среди стилистических приемов, использовавшихся властями - употребление языковых клише. Язык не только творит и мыслит за человека, он также управляет его чувствами, руководит его душевной субстанцией. И если этот «образованный язык» состоит из «ядовитых элементов», то они проглатываются незаметно, вроде бы не оказывая никакого действия, но через некоторое время отравление налицо. Примеров множество: слыша изо дня в день, повторяя, что кто-либо - «враг народа», или, наоборот, «наш вождь и учитель», человек уже не может самостоятельно решить, правда ли это, и принимает данные характеристики личности без доказательств, на веру.
Самым жутким языковым клише полиыческого словаря советской эпохи считается термин «враг народа». Так в 1917 году Ленин обозвал своих политических противников. Потом он стал проявляться в некоторых постановлениях и декретах. Декрет ВЦИК 1918 г. «О поставках продовольствия» предлагал сопротивляющихся крестьян «объявить врагами народа». В начальный период становления системы тоталитаризма это словосочетание прочно вошло в язык. В 1927 году так Сталин назвал Троцкого, а за ним - других своих противников. В последующие годы радио и газеты этим термином клеймили всех жертв сталинских репрессий. Вскоре эта формула стала официальным юридическим термином- часовые, охраняющие места заключения, должны были произносить при смене, «под сдачей пост №... по охране врагов народа». Ответ: Пост№. .. по охране врагов парода принял». Формула эта была усвоена языком, народ поверил и принял ее, может быть, не слишком вникая в смысл понятия. Утверждению в языке этого клише способствовало и то, что власти обдуманно или инстинктивно выбрали именно это выражение Ленина: каждый арестованный по политическому обвинению в глазах миллионов людей становился не врагом Сталина, а именно врагом многих мил нюнов людей.
Кроме клише, представлявших собой цитаты из В.И. Ленина и И.В. Сталина, существовало множество слов, приобретших политический оттенок. Эти слова были весьма опасным оружием не столько в идеологической борьбе, сколько в борьбе не на жизнь, а на смерть с теми, кто был неугоден властям или их отдельным представителям. Эту закономерность быстро поняли многие люди, страдавшие завистью или питавшие неприязнь к кому-либо и использовали ее в доносах для расправы с соседями, коллегами, односельчанами. Так, несмотря на то, что слово «кулак» появилось еще до революции, в рамках кампании по раскулачиванию оно стало основой для высылки, а по сути для разрушения жизни целых семей, а в итоге и слоя крепких хозяев. Формально кулаками считались, зажиточные крестьяне, эксплуатировавшие других, а фактически, по слрвам Ш. Фицпатрик, любой, кто был непопулярен в деревне, мог быть заклеймен как кулак.
С репрессиями 1930-х гг. тесно связан такой языковой прием, как употребление фамилий во множественном числе. Это позволяло типизировать «врагов народа», «вредителей». Этот прием позже, в послевоенные годы, приобретет несколько иной оттенок и будет служить оружием в антисемитской кампании: «Бор-щаговские, Гурвичи, Юзовские поставили перед собой цель дискредитировать наше национальное по форме и социалистическое по содержанию искусство...».
Характерной чертой языка 1920 - 30-х гг. было появление неологизмов. Одним из таких слов стала «пятилетка». Первый пятилетний план был принят на XVI Партийной конференции в 1929 г. Усилиями пропаганды слово «пятилетка» стало одним из наиболее часто употребляемых.
Языковым каналом воздействия на сознание стала идеологизация повседневности. Так, анализ рекламы, в небольших количествах присутствовавшей в советской жизни, показывает ее тщательный подбор. Рекламировались товары, связанны с «культурной революцией»: музыкальные инструменты, грим, парики, тексты пьес, скетчей, частушек, учебники, шахматы.
Еще один языковой способ воздействия ярко виден на примере фольклора. Власти всячески пытались выдать исключительное за типичное. Так, сборники фольклора включали в разделы «Сказы», «Устные рассказы» идеализированные повествования «Как я в колхоз вступал», «Мы строили Магнитогорск», «Как мы колхоз организовывали» и т.д. В предисловиях указывалось, что «в этих сказах значительное место отводится показу нового отношения к труду, изменения облика Родины, подчеркивается организующая роль нашей партии....»; что они «воссоздают процесс вовлечения рабочих в строительство новых форм жизни, формирования социалистического сознания рабочих в их активной борьбе совсем старым, отживающим».
Мы не хотим подвергать, сомнению добросовестность ученых, собиравших фольклор, но на наш взгляд, здесь мы имеем дело со специфической чертой крестьян, имевших, как и власть, свой внешний язык и рассказывавших «городским» то. то они хотели услышать. Об этом свидетельствуют и рассказы о визитах «городских писателей», записанные автором. Существовали как два пласта фольклора - официальный и неофициальный. Об этом свидетельствуют исследования многих литературоведов.
Весьма действенным способом воздействия на сознание являлась советская массовая песня Мы считаем этот способ особым явлением в тогдашней жизни. Об этом явлении хорошо сказал В. Лебедев-Кумач в «Марше веселых ребят»: «Нам песня строить и жить помогает».
1920-30-е гт. стали эпохой переименований. Существовал обычай называть в честь партийных руководителей колхозы и предприятия, Улицам тоже присваивали имена политических лидеров или известных деятелей культуры. Безусловно, мода на переименования была связана не только с именами лидеров, но и со стремлением ознаменовать начало новой жизни. Особо отметим популярность названий, в которых в разных вариациях обыгрывается слово «красный» - Красная Поляна, Красный Кут, Краснополье и т.д. Имена собственные также несли на себе отпечаток нового языка. В большой моде были революционные имена или имена, связанны с научно-техническим прогрессом: Электрон, Эдисон, Баррикаде, Искра (от названия дореволюционной большевистской газеты), Ким (сокращенное «Коммунистический Интернационал Молодежи») и т. д. В 1920-30-е гг. популярными были производные от имени Ленина, как, например, Владлен (Влад-нмир Лен-ин) или женское имя Нинель. Некоторые называли дочерей Сталинами или Сталинками, но это все же было не слишком распространено, и повального стремления называть мальчиков Иосифами не замечалось. Смена национальных имен встречалась реже. В отличие от периода царизма, в середине 1930-х гт. мало кто отказывался от иностранного имени (некоторые, наоборот, брали себе такое имя), национальное, скажем татарское, имя на русское меняли не часто. Исключение составляли евреи; многие еврейские имена, служившие как бы напоминанием о черте оседлости, заменялись на русские: Израиль на Леонида, Сарра на Раису, Мендель и Моисей на Михаила, Абрам на Аркадия. Но чаще всего люди в середине 1930-х гг. меняли старомодные деревенские имена на современные городские, «культурные». Иногда люди присваивали себе другие имена или фамилии, спасаясь от преследования. Например, в ряде номеров газеты «Трудовая правда» за январь - февраль 1930 года рассказывалось об убийстве активистки в одном из сел Пензенской губернии. Интерес вызывает тот факт (хотя он вряд ли был единичным), что один из обвиняемых сменил свою национальную фамилию на русскую и стал Ивановым. Причина заключалась в том, что таким образом он пытался отмежеваться от раскулаченного отца и затеряться в другом районе России.
Особое значение приобрел такой языковой прием как повтор, имеющий суггестивное воздействие. Советская культурная система, по сути, представляла собой всеобъемлющую схему интерпретации феноменов, происходящих или потенциально возможных в обществе; она служила не просто инструментом истолкования феноменов, но как бы определяла форму и способ их существования - исключала одни феномены из поля зрения членов общества как неаутентичные с позиции власти, в отношении других выполняла работу по упрощению и «адаптации».
Деятельность властей как центральных, так и местных, можно назвать успешной по вышеуказанным причинам, хотя следует отметить, что она не являлась с самого начала четко спланированной и всеобъемлющей. Власти находили новые эффективные методы и способы идеологизации массового сознания в ходе "строительства социализма".
В третьем параграфе определяются итоги и доминанты взаимовлияния языка и массового сознания Можно сказать, что к началу 1940-х гг. выросло поколение, безоговорочно доверявшее официальной информации Зачастую языковые клише и стереотипы, насаждавшиеся официально, входили в повседневную жизнь и становились нормой. Для языковой ситуации ггого периода характерны такие яв-ле-ния, как замена вербальных символов, распространение аргоизмов, нецензурной брани, технизация и милитаризация лексики, перенасыщенность гиперболами.
Самообраз достойного человека включил говорение и писание на правильном языке. Те, кто поднимался по ступеням социальной иерархии, должны были участвовать в языковых играх эпохи и овладеть письмом как технологией власти. Игроки эти не были пассивны; они действовали, пытались играть сами. А для этого нужно было пользоваться клише идеологического языка эпохи даже при осмыслении собственной жизненной ситуации. Среди дневниковых записей партийного работника можно обнаружить вместо понятия «семья» - «ячейка государства». Несоответствующий идеалу получил такие наименования, как «не наш человек», «перерожденец», «отщепенец». У них нет иных языковых средств для самовыражения, так как это не нужно власти - диктатуре идеологии, которая обладает властью номинации, монополией на наименование элементов мира. С помощью новых слов люди стремились собрать распавшийся мир, самоопределиться, упорядочить события, дав им имя, включить в фонд эпохи.
Особое внимание нужно уделить специфическому месту нецензурщины в языке той эпохи. Борьба с нецензурной бранью получила особенно широкое распространение на новостройках, где был большой процент решительно настроенных комсомольцев. На самой известной комсомольской стройке 1930-х годов - Метро-строе - эта проблема стала особенно актуальной после мобилизации сюда девушек-комсомолок. На первых порах к нарушителям применялся штраф - по 10 коп. за каждое матерное слово или выражение. Но очень скоро выяснилось, что нужна целая армия контролеров, освобожденных от основной работы для сбора штрафов. К тому же у многих «острословов» штрафные суммы стали превышать месячную зарплату. Убедившись, что «красноармейской атакой» здесь ничего не добьешься, активисты решили перейти к долговременной моральной осаде с использованием «черных досок» и периодической печати.
Использование матерщины тесно связано со стилем руководства. Культ вождей всех масштабов лег в основу того, что руководители, используя командное руководство, стремясь быть решительными, считали для себя обязательными окрики, шум, брань, общаясь та гейм образом с подчиненными. Эта ситуация отразилась в анекдоте: «Что осталось от России? Подзаборные дети, заборные слова и заборная книжка».
С 1930-х годов в связи с усилением официального контроля за письменными текстами они становятся более нормативными, но устная речь, в первую очередь молодежный, армейский и другие жаргоны, благодаря постоянным массовым контактам представителей всех слоев общества с пенитенциарной системой находится под заметным воздействием арго. Арготическая лексика широко используется в неподцензурной художественной литературе.
Процессы, происходящие в советском обществе, не могли не отражаться на национально-языковой политике. Были нужны новые кадры из национальных меньшинств не только для решения культурно-образовательных проблем, но и для создания национально-государственного аппарата. Национальная интеллигенция, для которой этнический язык обладал высоким престижем, все больше редела в результате политических репрессий. Новая образованная прослойка каждого национального меньшинства, особенно ее партийно-административная часть, была двуязычной. при этом использование родного языка ограничивалось бытовыми ситуациями. В следующем поколении русификацая части образованного слоя оказалась неизбежной. Для партийно-государственного аппарата развитие национальных культур, и в частности языков, никогда не было целью. Целью было распространение новой идеологии. На XVI съезде ВКП(б) в 1930 году И.В. Сталин определил
задачи национальной политики: «Расцвет национальных по форме и социалистических по содержанию культур в условиях диктатуры пролетариата в одной стране для слияния их в одну общую социалистическую (и по форме и по содержанию) культуру с одним общим языком, когда пролетариат победит во всем мире».
Несмотря на то, что 1937 год считается официальной датой ликвидации неграмотности в СССР, десяткам народов пришлось заново учиться читать. Грамотное письмо на родном языке было уделом немногих, поскольку традиционные системы письма, и латиница, и сменившая ее кириллица для большинства языков подвергались постоянным графико-орфографическим реформам, так никогда и не прекращавшимся в ряде случаев.
К началу Великой Отечественной войны приблизительно 40% населения составляли люди, родившиеся и пырослпие при Советской власти. Естественно, что почти все они выполняли те задачи, которые поставили перед ними партия и правительство - обучались обычной грамоте и овладели грамотой политической. В обоих случаях главным и единственным для них стал большевистский стиль речи, явившийся основой советского языка. Иначе обстояли дела у старших поколений. Большинство носителей литературного языка либо покинули родину в первые послереволюционные годы, либо погибли в годы индустриализации и коллективизации, стали жертвами массовых репрессий. Они стали изгоями в новом обществе, преградой на пути социалистического строительства. Так как общемировые критерии образованности и культуры, такие как знание иностранных языков, поэзии, живописи и т.п., не соответствовали большевистским представлениям о пролетарской культуре. Оставшаяся часть населения, многим из которых к концу 1930-х гг. было 50-70 лет, была не в состоянии преодолеть неграмотность по вполне объяснимым психолого-педагогическим причинам: в их молодые и зрелые годы не было возможности получить образование, затем это стало для них трудной задачей. Однако, и это подтверждает силу воздействия партии на массы через слово, даже глубокие старики научились, говоря словами Д. Рейли, «изъясняться по-большевистски».
Вытесненная и сведенная на нет речь чувств, переживаний и ценностей, подменялась в тоталитарном государстве бездушным, политизированным рационалистическим словом.
В язык входит атеизм, он отрешается от прошлого, от истории. Процесс «обстругивания» языка стал повседневной з j цачей редакторов, которые запрещали молодым авторам употреблять сложные обороты речи. Язык сознательно занижали, элементизировали, нивелировали и обезличивали. Можно даже говорить о своеобразном кризисе речи, который демонстрируют горы политических опусов, появлявшихся на всех уровнях власти.
Одним из итогов языковых трансформаций стала «классовость» языка. Язык был перегружен словами, связанными с классами, классовым антагонизмом. Характерным примером служат материалы, появившиеся в связи со столетием со дня смерти A.C. Пушкина.
По замечанию Д. Оруэлла, новояз является не только средством выражения мировоззрения и привычек сознания, но и средством, делающим трудным выражение других мыслей. Другими словами, реальный мир заменяется сюрреалистическими видением мира. Новояз прекрасно подходил для мифологизированного общества. Реальность виртуального мира усугублялась и тем, что своеобразной болезнью 1930-х гг. была любовь ко всякого рода заседаниям. В архивах есть письма Средневолжского крайкома ВКП(б) секретарям райкомов, где резко ставится
вопрос о количестве и длительности заседаний: «... Бюро Чаадаевского парткома, например, считает возможным заседать по двое суток подряд с участием на заседаниях всех коммунистов - руководителей районных аппаратов...». Атмосфера постоянных заседаний способствовала укреплению в сознании стереотипов официальной речи, идеологических клише.
Идеологический язык переописывает мир, предлагает и внушает системы классификации, которыми пользуются и привилегированные, и непривилегированные. Сила классификаций в том, что они кажутся «естественными», например партия как сверхсубъект классифицирует людей на нужных и ненужных, и все пользуются классификацией «наш человек» - «не наш человек». Письмо в данном случае играет особо важную роль. Именно из-за того, что нормы письменной речи строже норм устной разговорной речи, на письме человек вынужден проявлять максимальную грамотность, то есть степень владения письменной речью.
Для пытающегося вписаться в общество это подтверждение своего присутствия, демонстрация того, что его маленький текст - только фрагмент Большого текста, написанного властью. Нормы этого письма лежат не в языковом поле, а в поле власти. Письмо - социальная технология власти: и правила письма, и слова, которыми человек пишет, не им заданы. Пользуясь готовыми клише, он играет в чужую властную игру. Но играя по правилам, налагаемым властью, пишущие и говорящие влияют на результат игры, так как присваивают чужой язык и распоряжаются им по-своему. И результат не совпадает с тем, что планирует власть. В практиках письма и высказываний обнаруживается Сопротивление, в основном немое, «доминируемых». В конечном итоге это приводит к тому* что человек пытается преодолеть «деревянный»' советский язык и пользуется литературным русским языком.
Интереснейшим источником представлений о языке, которым пользовались люди в 1920-30-е тт., являются письма - жалобы, названные исследователями «письма властям». Советские граждане были большие мастера по части писания жалоб, ходатайств, доносов и разных других писем властям. Они писали (как правило, индивидуальные, а не коллективные письма), а власти нередко отвечали. Этот канал связи между гражданами и государством функционировал лучше всех, предоставляя одну из немногих доступных им возможностей защитить свои интересы и возместить ущерб от тех или иных неверных или провокационных действий должностных лиц. Большой пласт писем связан с желанием рабочих улучшить технологии, дисциплину. Во многих содержатся жалобы передовиков производства на негативное отношение.
Характерной чертой языка 1930-х гг. была его технизация, он изобиловал техническими терминами. Обожествление техники - специфическая черта тоталитарных режимов.
Еще одним итогом языковой политики стало семантическое искажение, размывание и подмена понятий. Так, многие слова потеряли свой первоначальный смысл, приобретя новые оттенки.
Внутри языка власти зарождаются губительные для-него процессы. Строгий партийный контроль за письменной и устной речью, использование клише, повторов - все это приводит к тому, что часть общества учится читать между строк, делая выводы о действительном состоянии дел в стране, намеренно искажая тексты литературных произведений, по-своему расшифровывая аббревиатуры и т.п. Устное народное творчество, в том числе анекдоты, загадки, многие рассказы,
пьесы, пользуясь зачастую клишированным языком, тем не менее, обнаруживают несогласие с властью. Искусство сопротивления советской власти состоит в том, чтоб отбросить советский язык и вернуть себе человеческий.
Это доказывает появление в языке слов, как бы приземлявших идеологические постулаты и частично разрушавших иллюзорный мир благополучия. Эти слова составили целый пласт лексики, посвященный способам получения товара. Так, отражением всеобщего дефицита было употребление таких слов: «достать», «знакомства», «связи», «блат», «распределение», «распределитель». Из-за данного явления рождались парадоксальные словосочетания: «У нас открыли закрытую столовую». «Открытый буфет закрыт. С завтрашнего дня тут будет открыт закрытый буфет», «карточки», «жировки», «пайки», «спекуляция», к этому же времени относят появление легендарной «авоськи». В этом слове оаркаешчески отразилась надежда на внезапную удачу - вдруг будут что-то «давать» (еще одно слово из этого же ряда), «выбросили», «дают».
Анекдот - уникальный жанр народного творчества - самый массовый и самый демократичный. Он ярче других жанров словесности отразил в неприкрашенном виде жизнь 1930-х гг., выполняя функцию очищения сознания от мифов и политических штампов: «В деревне не поняли, что такое темпы, послали ходоков в Москву. Там объяснили: если у вас 10 коров, то на будущий год будет 50. Вернулись в деревню: Был один покойник - будет 5. Неурожай на 100 га - будет на 500». Для нас анекдот имеет огромную ценность как историческое свидетельство, как источник.
Свидетельством того, что нельзя считать народ полностью одурманенным идеологией 1930-х гг., были частушки, иногда очень живо реагировавшие на политическую ситуацию в стране.
В результате словесных игр складывались риторические коды как общественные правила говорения, формы повествования и речи. Создавался социальный (социоисторический) код как система правил высказывания об обществе и о самом себе, система наименования, почва для взаимопонимания между иначе разобщенными индивидами. Возникала общественная связь, на которой держалось советское общество. Общим языком пользовались все, даже те, кто был «не согласен», тем самым несогласный включался в систему.
Подчинение через овладение языком власти обладает и потенциалом освобождения от плена. Те, кто не участвовал в языковых играх эпохи, не овладевал новым языком как символическим капиталом, оказывался привязанным к месту во всех смыслах, продолжая жизнь в том же социальном и физическом пространстве. Они не могли подняться с нижних ступенек социальной иерархии.
В заключении диссертации подводятся итоги работы, делаются выводы обобщающего характера, к которым пришел автор в результате исследования
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
I. Мусорина O.A. Язык и актуальные проблемы развития общества // Материалы VI Международной научно-практической конференции "Вопросы планировки и застройки городов". Пенза: ПГАСА, 1999 С. 29-31.
2 Мусорина О А. Язык в транзитивном обществе // Материалы XXX Всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы современного строительства" Пенза-ПГАСА, 1999. С 128.
3. Мусорина O.A. СМИ и формирование нового общественного идеала в России I! Астуальные проблемы юридических наук / Межвузовский сборник, посвященный 200-летию МВД. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ, 2000. С. 76-79.
4. Мусорина O.A. Криминализация языка: сущность и предпосылки // Актуальные проблемы юридических наук / Ежегодный межвузовский сборник. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ, 2001. С. 87-90.
5. Мусорина O.A. Социально-экономические предпосылки языковых трансформаций в 20-е годы XX века // Актуальные проблемы юридических наук / Ежегодный межвузовский сборник. Выпуск 5. Часть 1. Саратов: Саратовский юридический институт МВД РФ, 2003. С.99-105.
6. Мусорина O.A., Пац М.В. Становление "языка власти" в России в 20-30 годы XX века // Сборник материалов ХХХП Всероссийской научно-технической конференции. Часть 2. Пенза: ПГАСА, 2003. С. 202-203.
ЯЗЫК КАК СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В 1920-30-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА)
Специальность 07. 00. 02 — Отечественная история
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Подписано п печать 12.04.2004. Формат 60x84/16. Вумага офсетная. Печать на ризографе. Усл. печ. л. 1,74. Уч ичд. л. 1,875. Тираж 100 экз. Заказ № 53.
Мусорина Ольга Александровна
Издательство ПГУАС. Отпечатано в цехе оперативной полиграфии ПГУАС. 440028. г. Пета, ул. Г. Титова, 28.
РНБ Русский фонд
2007-4 17138
2 3 АПР 2004
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Мусорина, Ольга Александровна
ВВЕДЕНИЕ.
1. ДИНАМИКА ЯЗЫКА КАК СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ В 1920 - 1930-Е ГОДЫ
1.1 Сущность языка как социального явления. Социально-экономические и психологические условия языковых трансформаций в 1920-30-е гг.
1.2 Язык в советской идеологии в 1920 - 1930-е гг.
2. МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ В 1920 - 1930-Е ГГ. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКА
2.1 Сущность и специфика массового сознания 1920 — 1930-х. Горизонты ожидания населения Пензенского региона.
2.2 Язык как средство воздействия властей на массовое сознание в предвоенное десятилетие.
2.3 Итоги и доминанты взаимовлияния языка и массового сознания
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Введение диссертации2004 год, автореферат по истории, Мусорина, Ольга Александровна
Актуальность темы. Процессы, связанные с глобализацией и вхождением в информационное общество, заставляют по-новому взглянуть на события прошлого. Пытаясь найти решение сегодняшних насущных проблем, отечественные историки и философы, государственные и политические деятели, публицисты обращаются к наследию прошлого, чтобы осмыслить и переоценить историю России XX века, особенно советский период. Великий историк В. О. Ключевский писал: "Почему люди так любят изучать свое прошлое, свою историю? Вероятно потому же, почему человек, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, оглянуться на место своего падения".1
Объективная оценка исторического развития России позволит прекратить затянувшиеся споры о том, было ли возникновение советского общества объективным и закономерным, либо оно исказило ход нормальных социально-исторических процессов в стране.
Язык имеет огромнейшее значение и для человека, и для общества в целом: "Падение человека влечет за собой падение языка".2 Существует и обратный процесс: "Падение языка влечет за собой падение человека".3 Вообще, значение языка в жизни человеческого общества доказывать не приходится, но нас интересует, насколько язык отражает состояние массового сознания и интенции властей. Ведь, по словам Э. Фромма, "язык как целое выражает отношение к жизни".4 Исследователи говорят о существовании особого мира слов — логосферы, включающего в себя язык как средство общения и все формы "вербального мышления", в котором мысли облекаются в слова. Язык есть своего рода средство подчинения. "Мы - рабы слов", - говорил К. Маркс. О роли языка в воздействии на массовое сознание говорилось много,
1 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. С.ЗЗ-34.
2 Эмерсон Р.У. Избранное. М., 1997. С. 19.
3 Бродский И. Статьи и письма. М., 1999. С. 217.
4 Фромм Э. Душа человека. М., 1992. С. 346. но еще нет комплексных исследований, посвященных именно этой проблеме в историческом аспекте. Тем не менее, именно эта проблема позволила бы показать роль языка в динамике: "Когда социальный класс использует язык тех, кто его угнетает, он становится угнетен окончательно. Язык не безобиден. Слова, когда мы их произносим, прямо указывают на то, что мы угнетены, или что мы угнетатели".5
Одной из характерных черт существования советской цивилизации является тотальный контроль государства над всеми сторонами жизни индивидов. Исторический анализ показывает, что успешная манипуляция массовым сознанием достигается умелым использованием языковых средств, определенной языковой политикой. Однако следует отметить, что современные методы и способы воздействия на массовое сознание (реклама, установление связей с общественностью) основаны на тех же принципах, психологических и лингвистических приемах, что и идеологическая работа партии большевиков на различных этапах ее правления. Поэтому разумный и критический анализ деятельности властей по использованию языка в качестве орудия манипуляции массовым сознанием, а также реакции адресата помогут понять тенденции и методики в современной борьбе за умы и противостоять негативному влиянию.
Политика, государство, власть традиционно играли ведущую роль в развитии российского общества в силу его исторических, культурных, территориальных, географических особенностей. Существование традиционно сильной, но разумной власти способно мобилизовать население и организовать его на проведение хозяйственных работ, защиту границ, колонизацию новых земель. Это требует поддержания в общественном сознании высокого авторитета государственной власти и ее носителей - князя, монарха, вождя и т. д. Политические идеи выступали важнейшим ресурсом государственной власти, создавая ее благоприятный образ в глазах населения. Весьма важное
5 Ангита X. Современный мир // Известия. 1993.27 апреля. значение здесь имеет язык, который несет на себе печать идеологии. Недаром библейское выражение гласит: "Вначале было слово".
Современное состояние русского языка; вызывающее в наши дни всеобщую озабоченность, является закономерностью, вытекающей из логики развития советского тоталитарного государства. В 20 - 30-е гг. XX века и на рубеже XX и XXI веков в обществе и в языке происходят схожие процессы: построение новой модели государственного устройства и "оправдание" выбранного пути посредством воздействия на граждан через язык. Актуальной задачей, следовательно, является обоснование механизма взаимовлияния социального и языкового факторов и анализ этого феномена на конкретном историческом материале.
Еще одним аспектом, предопределяющим актуальность исследования, является так называемый международный фактор. В 1998 г. исполнилось 50 лет с начала, по выражению В.А. Лисичкина и JI.A. Шелепина, Третьей мировой информационно-психологической войны. 18 августа 1948 г. Совет национальной безопасности США утвердил директиву 20/1 "Цели США в отношении России". Этот документ заложил основы нового вида войны, где оружием служит информация, а борьба идет за целенаправленное изменение массового сознания. Задача заключалась в утверждении в массовом сознании таких стереотипов, которые позволили бы манипулировать и населением страны, и ее правящей верхушкой.
В современном мире информация как никогда стала инструментом власти. В форме агитации и пропаганды информация стала главным рычагом управления людьми. В информационной войне одним из видов оружия является5 язык, который может служить средством "тихой" экспансии американской культуры и американских ценностей.
Многие исследователи, психологи, социологи, специалисты по информационным войнам говорят о том, что имеет место "информационно-культурная агрессия на базовую культуру россиян. Сегодня объектом экспансии является языково-знаковая система российского суперэтноса и именно на нее направлен информационный вектор разрушения".6
Американизация языка - проблема не только нашей страны. Многие страны Запада бьют тревогу, пытаясь как-то бороться с этим явлением. Для того, чтобы быть во всеоружии в информационном противоборстве, необходимо использовать исторический опыт и уроки истории.
Объектом исследования выступает массовое сознание 1920-30-х годов.
Предметом исследования является внедрение идеологизированной модели языка, регуляция функционирования и развития языка (языковая политика), реакция массового сознания на языковое воздействие в первые послереволюционные десятилетия.
Хронологические рамки работы ограничены 20 - 30-ми гг. XX века, периодом, когда определилась и установилась модель советского государства в целом. Безусловно, 1930-е гг. являются наиболее характерным периодом с точки зрения степени зрелости системы воздействия на массовое сознание. Но специфика исследуемой проблемы такова, что для адекватной оценки роли языка в воздействии на массовое сознание необходимо проанализировать и начало воздействия и его объективные факторы. Это предопределило обращение к двум послереволюционным десятилетиям. В ряде случаев мы обращались к предреволюционному периоду.
Территориальные рамки работы. Мы рассматриваем пензенский регион как условное историко-краеведческое понятие, включающее территорию, которая исторически, географически и административно связано с Пензой и Пензенской областью. В исследуемый нами период (1920 — 30-е гг.) административный статус Пензенского региона неоднократно менялся:
6 Россия у критической черты: возрождение или катастрофа. М., 1997. С. 104. Об этом же см.: Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода. Киев, 1996; Он же. Информационные войны. М., 2000; Он же. Психологические войны. М., 2000; Он же. Коммуникативные технологии. М., 2001; Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М., 1996.
- Пензенская губерния (до 1928 г.);
- Округа Средне - Волжской области (1928 - 30 гг.);
- Подчиненные Самаре районы (1930 — 37);
- Часть в составе Тамбовской области (1937 — 39);
- Пензенская область (образована 4 февраля 1939 г. с новыми границами).7
Среднее Поволжье является типичным регионом европейской части России; Здесь так же, как и в других регионах, социально-политические изменения происходили позже, чем в столице, однако достаточно четко прослеживаются все основные тенденции того или иного процесса.
Выбор территориальных рамок был обусловлен и тем, что особенности экономического, социального, политического и культурного развития Среднего Поволжья определялись многонациональностью населения. Это накладывало отпечаток как на ход социалистического строительства, так и на практику деятельности местных органов власти. Специфичной была и социальная структура региона. Культурная отсталость населения, сравнительно небольшая прослойка квалифицированных рабочих и специалистов, наличие аграрного перенаселения, безработица создавали дополнительные трудности и, по нашему мнению, определяли стереотипы и особенности массового сознания в регионе.
Историография проблемы. Еще в XIX веке появлялись труды, в которых отмечалось влияние переломных моментов в истории народов (в частности революций) на язык эпохи. Например, П. Лафарг в своих очерках "Французский'язык до и после революции" стремился показать, как повлияла французская революция 1789-1793 гг. на французский язык той эпохи.8 Лафарг подчеркивал глубокие изменения всего языка, хотя выводы строил на материале лексики (новые слова и словосочетания, новые значения старых слов). Блестящая работа П. Лафарга не давала ответы на вопросы о том, допустимо ли изменения в лексике отождествлять с изменениями всего языка,
7 Подробнее см.: Пензенская энциклопедия. Пенза, М., 2001.
8 Лафарг П. Французский язык до и после революции. М., 1987. которым изъяснялись до революции. Это первая работа, посвященная проблеме нашего исследования, хотя и на французском материале.
Интерес к языку как инструменту социальной власти связан с развитием научных идей, изменявших подход к изучению общества. Специфической сложностью анализа степени исследованности темы является то, что она в основном попадала в поле зрения не историков, а философов, политологов, социологов, лингвистов. Безусловно, исторические аспекты проблемы этих исследователей интересовали лишь постольку, поскольку они являлись черновым материалом для подтверждения их концепций современного общества и современного языка. Тем не менее, ряд тезисов этих авторов явился и теоретическим фундаментом нашего исследования, поэтому мы начнем обзор историографии именно с них.
Среди исследований феномена массового сознания, в том числе в условиях тоталитаризма, ключевое место занимают идеи и труды Р. Барта. Он высказал мысль о том, что язык — это власть. Он объясняет это тем, что "языковая деятельность подобна законодательной, а язык является ее кодом. В языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить. это значит подчинять себе слушающего; весь язык целиком есть общеобязательная форма принуждения".9 Являясь одним из классиков современной семиологии, после выхода в конце 1960-х гг. своих трудов "Основы семиологии" и "Система моды", он сузил поле исследований и ограничил его анализом знаковых фактов, усваиваемых людьми через язык.10
Более того, он рассматривал роль языка в создании современных мифов, тиражируемых средствами массовой информации, введя для понимания механизма языковой мифологизации термины "коннотация" и "метаязык". Метаязык у Барта представляет собой вторичную знаковую систему, для* которой первичный язык служит планом выражения; коннотация создает новые смыслы, присоединяя их к первичным. Барт поставил вопрос и о так
9 Барт Р. Избранные работы, М., 1994. С. 94.
10 См.: Структурализм: за и против. М., 1975. С. 115. называемой суггестивности мифа, под которым он фактически понимает массовое сознание, откликающееся на вербальные формы внушения.
Еще один тезис Барта имел важное значение для нашего исследования: в своей статье "Мифология сегодня" он писал, что "Теперь уже нужно не разоблачать мифы. теперь требуется расшатывать знак как таковой".11 Применяя это утверждение к реалиям 1930-х гг., становится понятным распространенность анекдотов и частушек, связанных с какими-то политическими событиями и персонажами. Речь шла не о "разоблачении мифа", а о "расшатывании знака".
Зарубежные труды по истории Советского государства обычно содержали суровую критику и неприязнь ко всему происходившему в нашей стране в XX веке. Представители же современной американской науки (Ш. Фицпатрик, Дж. Рейли, Д. Пеннер) рассматривают советскую цивилизацию не как что-то уникальное, специфическое, а сквозь призму повседневности. По мнению американских историков (и мы полностью разделяем их взгляд), любая трагическая страница советской жизни (будь то голод 1932-33 гг., либо революция 1917 г.) уникальна настолько, насколько вообще уникально любое историческое событие.
В настоящее время следует выделить объективные и эмоционально-ровные исследования в рамках американской русистики, одним из ярких представителей которой является Ш. Фицпатрик. Предметом ее научных изысканий является послереволюционная Россия, в том числе сталинская Россия в 1930-е годы.12
11 Барт Р. Семиология как приключение. М., 1993. С. 82-83.
12 Fitzpatrick S/ After NEP: The Fate of NEP Entrepreneurs, Small Traders, and Artisans in the "Socialist Russia" of the 1930s // Russian History. 1986 Vol. 13. № 2-3; Ascribing Class: The Construction of Social Identity of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917-1921. Cambridge, 1970: The cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992: Education and Social Mobility in the Soviet Union, 19211934. Cambridge, 1979: How the Mice Buried the Cat: scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // Russian Review. 1993. Vol. 52; Lives under Fire. Autobiographical Narratives and Their Challenges in Stalin's Russia // De Russie et d'ailleurs. Melanges Marc Ferro. Paris, 1995; Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // Slavic review. 1996. Vol. 55. №1.
В своих фундаментальных трудах "Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня" (М., 2001) и "Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город" (М., 2001) и в ряде других статей и монографий автор исследует взаимодействия повседневного и чрезвычайного в 1930-е годы, описывает пути и способы, с помощью которых советские граждане пытались вести обычную жизнь в необычных условиях. В центре исследований Ш. Фицпатрик — комплекс институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus сталинской эпохи. И хотя Ш. Фицпатрик не рассматривает языковую политику властных структур в качестве инструмента создания человека советского, она не обходит вниманием смену культурной модели общества, в связи с чем рассматривает процесс замены личных имен и географических названий.
В главе "Разговоры и те, кто их слушал" Ш. Фицпатрик вплотную подходит к мысли о том, что у властей существовало как бы несколько языков: один язык обслуживал диалог партии с народом, другой существовал для того, чтобы сообщать то, что было на самом деле. В работе "Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30- е годы: деревня" есть разделы "Восприятие и оценка", "Образ Сталина в деревенской молве", в которых автор рассматривает языковую реакцию крестьян на голод и политические события. Эти разделы, свидетельствовавшие о двойственности крестьянского сознания и о природном здравом скептицизме и сарказме, имели большое значение для нашего исследования.13
Труды Ш. Фицпатрик содержат богатый архивный материал и воспоминания современников. Ряд ее выводов, связанных с социально-экономическим фоном языковой политики и топонимикой, мы использовали в нашем исследовании.
13 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001. С. 89-91,321-331.
Отображение революционных событий через призму языка мы находим в статье Д. Дж. Рейли "Изъясняться по-большевистски", или как саратовские большевики изображали своих врагов".14 Статья построена на материалах Саратовской губернии, ставшей после Октябрьской революции ареной ожесточенной гражданской войны. Автор пытается показать, как большевики при помощи "социального слова повседневной политики" истолковали события гражданской войны в своем регионе, оправдывая растущее насилие со стороны советских властей, и как карикатурно изображали оппозицию этому насилию.
Д.Дж. Рейли считает, что дискурс большевиков включал в себя; кроме набора идей и символов, два новых, потенциально противоположных партийных языка (под языком ученый подразумевает словарный состав; синтаксис и содержание, т. е. то, о чем позволялось тогда писать). Признавая, что формулировка упрощена, автор называет один язык "внешним" (язык партийных газет, публичных собраний, агитационной литературы и устной пропаганды), а другой - "внутренним" (язык секретных и конфиденциальных донесений, не предназначенных для обнародования). Для нас ценным представляется замечание ученого о том, что члены партии могли пользоваться как "внешним", так и "внутренним" языком в зависимости от того, к кому они обращались. В нашем исследовании идея получает дальнейшее развитие в виде диалога "власть-народ", где власть обладает монополией на номинацию явлений окружающего мира, в том числе на изображение прошлого. Д.Дж. Рейли отмечает, что большевики присваивают себе право выступать от имени тех социальных групп, которые они считают привилегированными. Для того используются определенные стилистические приемы, приведшие к становлению четкой языковой политики.
Частично исследуемая нами проблема была затронута в книге американского историка Р. Пайпса "Россия при большевиках"1, который наряду
14 Рейли Д.Дж. «Изъясняться по-большевистски», или как саратовские большевики изображали своих врагов» // Отечественная история, №5,2001 г.
15 Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. с другими вопросами рассматривает политику большевиков в отношении религии и культуры. В главе "Культура как пропаганда" автор не обошел вниманием язык данного периода, приведя ряд примеров любопытных, с его точки зрения, изменений. Отобранный историком языковой материал позволяет судить об изменениях в массовом сознании солдат и крестьян после событий Октября 1917 г.
Мысль о том, что русский язык в советском обществе является в своем роде специфическим явлением и представляет цель и результат политики властей по воздействию на массовое сознание народа, высказывается и анализируется в трудах французского историка А. Безансона. В вышедшем у нас сборнике статей "Советское настоящее и русское прошлое" автор предлагает свой взгляд на событияхередины XIX - конца XX веков в России. Многие выводы, сделанные ученым, могут показаться спорными и категоричными. Однако в одной из статей в главе "Компромисс в сфере языка" А. Безансон также пишет о том, что так называемый советский язык представляет собой сосуществование и борьбу разных языков. Причем речь опять идет не о разных языковых стилях и не о языках разных социальных групп, а о компромиссе между языком партии и языком народа. Для нашего исследования этот тезис имеет весьма важное значение, т.к. в нем лежит косвенное утверждение о параллельном существовании официального языка, служившего и орудием манипуляции, и своеобразным знаком принадлежности к определенной социальной группе, т.е. это был способ самоидентификации. Ученый особо отмечает, что решающие битвы разыгрываются на идеологическом фронте; все свои средства власть направляет на воздействие на лексику и синтаксис. Сражение между языками, по мнению автора, - "битва не на жизнь, а на смерть, и стороны прибегают в ней к хитроумным маневрам". Таким маневром А. Безансон называет развитие двух добавочных языков -псевдочеловеческого и псевдосоветского. Он обозначает это явление компромиссом в сфере языка. Псевдочеловеческий язык - это ступень на пути к языку социализма, это советский язык "улучшенного качества", стоящий на более высокой ступени, однако неискушенные читатели и слушатели могут принять его за нечто принципиально новое. Псевдочеловеческий язык характерен для литературы, предназначенной на экспорт, или же может использоваться официальными писателями, желающими приобрести репутацию (и престиж) писателей-диссидентов; или в пропагандистских целях.
Псевдосоветский язык берется на вооружение каждым, кто намерен» публично высказать какую-либо неортодоксальную идею. Он - орудие сопротивления в условиях абсолютной монополии советского языка. Инакомыслящему удается донести свою мысль до слушателей, выражая ее в завуалированном виде, прибегая к дозволенным формулировкам и используя (или даже обогащая) стилистические приемы советского языка.
Основной причиной, по мнению А. Безансона, приведшей к образованию советского языка, является феномен идеологии как определяющего фактора советской системы. Но мы в корне не согласны с его утверждением, что идеология как феномен возникает лишь в исключительных обстоятельствах. В истории человечества А. Безансон обнаруживает лишь два примера: гитлеризм и ленинизм. Ученый высказывает мысль о том, что в России "переносчиком" микроба идеологии становится интеллигенция. Западные - немецкий и французский - элементы идеологии проникают в русскую мысль и через славянофилов, и через западников. А. Безансон определяет основную функцию идеологии после прихода к власти: создание ирреальности, миража того, чего нет в реальности. Важнейшим инструментом идеологии является Слово, которое всегда есть слово лжи. По определению ученого, советская идеологическая * система — это логократия — царство лжи.16 Мы не склонны разделять полностью эту резкую оценку, поскольку существовали и объективные причины возникновения советской идеологии в том виде, в каком она существовала в 1920 - 30-х гг.
К ученым, которые подчеркивают чисто внешний характер влияния общественных факторов на язык, относится Э. Бенвенист, который вслед за
16 Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998. С. 239-241. ф . другими повторял, что революция 1917 г. в России привела к изменению всего общественного строя в нашей стране, а язык, тем не менее, остался прежним. Критикуя точку зрения Э. Бенвениста, советский языковед Р.А. Будагов считает, что после Октября 1917 г. изменилась сфера и характер функционирования языка, в первую очередь литературного языка.17 Мы согласны с этой оценкой, но следует добавить, что изменение общественного строя, изменение социальных условий жизни совпали с заменой общественных идеалов. Скорее даже зарождение и развитие новых общественных идеалов происходило в царской России, а язык (речь) выразителей (носителей) этих идеалов не мог не отличаться от языка других членов общества, и когда произошло изменение общественного строя, выразителей идей революции (добровольно или принудительно) становилось все больше, их язык стал языком эпохи. Новые общественные идеалы принесли новые ценности, изменилось мышление русского народа, которое отражено в языке.
Роль "нового языка" как орудия тоталитарного подчинения была осознана лишь после того, как аналогичный "язык" сформировался в гитлеровской Германии. Хотя его исследователи и пользовались терминологией, привязанной к конкретному месту и времени (в основном используя введенное в 1946 г. В. Клемперером название "язык Третьего Рейха" (Lingua Tertii Imptrii) или Nazi-deutsch), структурное сходство, а зачастую и тождественность обоих феноменов не могли остаться незамеченными.
В 1948 году Джордж Оруэлл в повести "Год 1984-й" подробно описывает тоталитарный язык", созданный на базе английского, и изобретает для; него название - Newspeak (в русском переводе книги - новояз). Вслед за книгой, приобретшей мировую известность, этот термин входит во многие языки например, в польском языке прочно укоренилось понятие nowomowa), где он и используется в настоящее время для обозначения языка, по функции своей тоталитарного, противопоставляемого естественному языку, выполняющему роль средства человеческого общения. V
17 Будагов Р.А. Избранные научные труды. М., 1997. С. 117.
Немецкий ученый-филолог В. Клемперер в своей книге "LTI. Язык третьего рейха. Записная книжка филолога" дает свое объяснение того "малоприятного" факта, что огромные массы населения Германии (причем не только "простой народ", но и интеллектуалы, аристократы) были в течение 12 лет "охвачены безумием", последствия которого всем известны. Объяснений этого факта давалось и дается множество, но В: Клемперер подходит к проблеме именно со стороны языка: во многом успех гитлеровского режима он объясняет сознательным использованием нацистами языка в качестве орудия духовного порабощения целого народа. Проводя в течение многих лет лингвистические наблюдения, ученый показывает, что, перебирая слова, которыми мы пользуемся, можно не только описать жизнь, но и проникнуть в секреты невидимых на поверхности механизмов, управляющих жизнью людей.
Клемперер представляет язык не только как орудие человеческого общения, хранителя накопленного людского опыта и знаний (культуры), но как "властного распорядителя жизни"! Таким образом, нацистский вариант немецкого языка выполнял свою манипуляционную роль, во-первых, как язык власти (подобный подход и описание языка советской власти мы находим в работах Н.Н. Козловой, о которых скажем ниже), во-вторых, как язык идеологии - феномен тоталитарного государства у А. Безансона.
Тоталитаризму как явлению современности посвящено значительное число работ, много дискуссий ведется, в частности, о характере советской * цивилизации. Мы не собираемся отождествлять гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз, однако при анализе трудов по этим режимам нельзя игнорировать то общее, что присуще тоталитаризму вообще и феномену идеологии двух государств, в частности. Одна из таких черт — язык власти. Оговоримся однако, что, конечно же, не все описываемые языковые процессы могут возникать, развиваться и затухать лишь в рамках идеологии, т. к., по словам французского филолога Ж. Бедье, определенные ситуации и впечатления в абсолютно несхожие эпохи, в совершенно разных странах могут ^ порождать одинаковые формы выражения, и это связано во многих случаях с неизменностью человеческой природы, не зависящей от времени и пространства.
Среди представителей русского зарубежья нельзя не отметить М. Геллера, представившего подробный исторический анализ событий советского периода. До начала 90-х гг. имя М. Геллера было известно в России лишь узкому кругу специалистов и людей, знавших его лично. За прошедшие 10 лет в нашей стране были изданы многие его труды. И хотя отношение к этому историку неоднозначное, мы считаем, что в той части его работ, где идет речь о языке тоталитаризма (М. Геллер называет его советским языком), выстроена четкая концепция феномена "языка власти". Концепция представлена в книге "Утопия у власти" (1982), написанной в соавторстве с А. Некричем и посвященной истории СССР с 1917 г. до наших дней, а также в статьях "Новояз в 1984 году" (1983) и "Революционный плакат как знак советского языка" (1983). Основами взглядов М. Геллера на советский язык послужили идеологические материалы советского периода, собственные наблюдения, роман Д. Оруэлла" 1984".
В советский период тема идеологизации языка не получила широкого освещения в историографии в связи с господствующей идеологической установкой на то, что русский язык является языком межнационального общения, свободным от сословных "церемоний". Тем не менее, необходимо отметить, что и в это идеологизированное время в Советском Союзе существовала целая философская школа, которая рассматривала язык, как систему знаков, свидетельствовавших, в том числе и об идеологических предпочтениях. Речь идет о так называемой Тартусской школе, признанным главой которой был Ю.П. Лотман. Сегодня исследователи считают, что школа возникла и смогла сохраниться в условиях государственно-идеологического контроля лишь в силу своей эзотеричности, усиливавшейся благодаря специфичной терминологии. В понимании Ю.П. Лотмана язык включал в себя не только вербальные формы, но и жесты, манеру одеваться, визуальные 1 б формы. Частично мы использовали этот подход в нашей работе.
Для нашего исследования важным представляется размышление Ю.М. Лотмана об особенности русской культуры: "Категория авторитетности, ее степени и ее источников играет в русской культуре первостепенную роль.Центр внимания переносится с того, "что" сказано, на то, "кем" сказано, и от кого этот последний получил полномочия на подобное высказывание. Именно перемещение источника авторитетности является основной причиной перестройки всей идеологической системы. Так, в зависимости от того, является ли источником истины божественное начало, разум, опыт и практика или личные или классовые интересы и т. д., перестраивается и вся остальная система ценностей".19 Эпоха перестройки дала возможность активизации семиотической школы. К этому времени относятся труды ряда семиологов, посвященные языку.20
Среди работ философов и социологов, уделявших внимание историческим аспектам социальной функции языка - труды Н.Н. Козловой, рассматривавшей социальную судьбу крестьянства посредством обращения к дневниковым записям, хранящимся в архивах.21 Не будучи историком, исследователь, тем не менее, использует методы и средства исторической науки.
В рамках культурологии к подобной теме обратился B.C. Елистратов. В центре внимания его исследований — взаимосвязь национальных и языковых проблем. Языковые изменения особенно четко видны на фоне изменений других сторон жизни общества. B.C. Елистратов приходит к выводу о том, что так называемые "национальные проблемы" актуализируются примерно в одни и те же периоды, что и проблемы снижения языка. Это периоды нестабильности
18 Лотман Ю. П. Семиотика кино. Таллинн, 1973.
19 Лотман Ю.П. Избранные труды по семиотике. М., 1995. С. 197.
20 Соломоник А. Язык как знаковая система. М., 1992. С. 223.
21 Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М., 1996. как на "макроуровне" (система межнациональных отношений), так и на уровне отношений социальных, отношений между группами, странами, корпорациями. Происходит актуализация или легализация того, что тщательно скрывалось доминирующей идеологией стабильной эпохи. В основном это устные тексты (брань, инвективы, сниженный минифолыслор), которые "нарабатывались" в течении стабильной эпохи, а теперь становятся объектом исследований, входят в литературу, средства массовой коммуникации. То же происходит и с комплексом национальных конфликтов: они "признаются", затем "обсуждаются" и т. д.
Динамику языка можно проследить на примере быта и речи Москвы конца XIX - начала XX века. Именно сюда приезжали на заработки десятки тысяч крестьян. Москва, это и крестьянский, и "простонародно-мещанский" город, состав населения которого никогда не был абсолютно регламентирован жесткой таксономией. Изучая язык старой Москвы, автор считает, что мелочи языка и быта дают неисчерпаемую пищу для размышления, особенно когда речь идет о частном повторении, а иногда буквальном совпадении подробностей из быта и речи москвичей конца XX века и их предшественников, живших в столице сто лет назад. B.C. Елистратов рассматривает мещанина, обывателя как главного героя старой Москвы и отмечает, что "в целом старомосковский уклад, продолжал доминировать и в 20-х годах XX века". Коренная ломка, по мнению В. С. Елистратова, началась в 30-х годах. То же происходило и с языком. "Именно в 20 - 30-е гг. широко распространился, а за годы советской власти и полностью сформировался новый язык, который М. Геллер назвал советским языком. При сравнении речи современных москвичей и москвичей конца XIX — начала XX века складывается такое "мистическое ощущение, что ста лет с их разрухой, взрывами храмов и т. п. просто как будто и не было. Например, возрождаются все ухватки и приемы московских уличных торговцев, совпадает даже интонационный контур рекламных выкриков".22 Следует выделить в связи с
Елистратов B.C. Язык старой Москвы: лингво-энциклопедический словарь. М., 1997. ф этим два момента. Во-первых, очевидно, возрождается тот слой общества, который не смог сформироваться и окрепнуть в начале XX века: это т. н. средний класс, значительная часть которого является собственниками. Во-вторых, получается, что язык советской эпохи выпадает из употребления довольно легко, вопрос только в том, что мы получаем взамен. Таким образом, B.C. Елистратов также ставит вопрос о коренных изменениях в языке, обусловленных изменениями социально-политическими.
Исторические сюжеты встречаются в работах известного специалиста по общественным связям Г.Г. Почепцова. Так, говоря об имидже политика, он обращается к примерам, связанным с темой нашего исследования. Правда, в ^ основном эти примеры относятся к истории гитлеровской Германии, иллюстрируя использование фашистами языка в качестве средства манипуляции.23
Подчеркнем, что интерес к языку ученых разных отраслей наук в СССР весьма активизировался с началом перестройки. В конце 1980-х гг. вышло даже несколько сборников, среди авторов которых и философы, и социологи, и лингвисты, и представители других наук.24
Одним из исследователей массового сознания является С.Т. Кара-Мурза. Правда, его книги носят скорее публицистический характер и не всегда содержат научный аппарат.25 Тем не менее, в его трудах можно найти некоторые сюжеты, связанные с проблемой нашего исследования. Безусловно, ^ позиция,, занимаемая С.Т. Кара-Мурзой по отношению к реформам в современной России весьма резкая, но интерес представляет его аргументация. Он пишет, что "нынешняя смута в России стала возможна после внедрения
Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. Киев, 1994; Он же. Национальная безопасность стран переходного периода. Киев, 1996; Он же. Имидж: от фараонов до президентов. Киев, 1997. 24 См., например: Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. Сб. науч. трудов под ред. Серебренникова Б.А. М., 1988.412 с.
Кара-Мурза С.Т. Советская цивилизация. От начала до Великой победы. М., 2002.; Манипуляция сознанием в России сегодня. М., 2001; Манипуляция сознанием. М., 2002.; * Истмат и проблема Восток-Запад. М., 2002.; Идеология и мать ее наука. М., 2002.; Краткий курс манипуляции сознанием. М., 2002. нового способа господства — манипуляции сознанием. Ломают наши традиции, засоряют родной язык. Мы перестаем видеть реальные угрозы своим жизненным интересам".26 В своих трудах он пытается показать механизм манипуляции и "главные мишени, на которые направлены атаки манипуляторов".27
Внимание советских историков к проблемам массового сознания не получило должного воплощения в научных трудах. Причиной этого, по нашему мнению, является то, что эта проблема несколько не вписывалась в официальную идеологическую схему, основанную на классовом факторе. Пожалуй, единственной работой по этой тематике была монография Б.Ф. Поршнева "Социальная психология и история".28 Иногда встречались сюжеты, связанные с модой на новые имена и географические названия в конце 1920 -30-х гг. в трудах по истории культурной революции.29
Снятие идеологических запретов в конце 1980-х гг., доступ исследователей к огромному числу ранее закрытых источников и зарубежных исследований по проблемам языка тоталитаризма (подчеркнем еще раз, что терминология, используемая исследователями, различная) привели к заполнению данного пробела и появлению в современной исторической науке трудов по исследованию языковых проблем. Конечно же, подавляющее большинство этих работ не посвящено непосредственно языку как способу манипуляции: эта тема рассматривается в работах исследователей идеологии и массового сознания.
Проблема массового сознания учеными-историками в нашей стране стала исследоваться практически только с 90-х гг. XX века. Существует ряд работ по истории культуры, которые с полным правом можно отнести к историографии
26 Кара-Мурза С.Т. Краткий курс манипуляции сознанием. М., 2002. С. 17.
27 Там же. С. 9.
Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966.
29 См., например: Веселов А.Я. Борьба Коммунистической партии за проведение культурной революции в деревне в годы коллективизации. Л., 1978. массового сознания, например монографии И.И. Голомштока, Е. Громова.30 Одним из первых тему массового сознания затронули JI.А. Гордон и Э.В. Клопов.31 В последние годы эта проблема стала уже одной из традиционных тем исторических исследований. Мы не будем перечислять труды и имена исследователей массового сознания вообще, остановимся лишь на тех работах, где затрагивались проблемы языка.
Среди первых исследований проблемы массового сознания можно назвать работы Е.С. Сенявской.32 Хотя Е.С. Сенявская и. не использует в названии своих трудов термин "массовое сознание", их содержание позволяет отнести эти работы к исследованиям именно этой проблемы. Тема комплексного воздействия властей на массовое сознание в 30-е гг. XX века была раскрыта Н.Б. Барановой.33 В ее трудах есть ряд сюжетов, связанных с использованием языка в идеологических целях.
Интерес историков к проблемам массового сознания во второй половине 90 гг. был довольно высок, что доказывает появление обобщающих трудов.34
В последние годы появился ряд трудов по исторической антропологии, где затронута в основном тема массового сознания.35 В этих работах изменения, происходящие с человеком в социальном смысле, иногда связываются и с изменениями в языке. Проблема массового сознания в Советском Союзе нашла место в обобщающем обзоре "История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежный опыт в обзорах и рефератах" М. 1996.
30 Голомшток И.И. Тоталитарное искусство. М., 1994; Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1993.
Гордон JI.A., Клопов Э.В. Что это было?: размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30 - 40-е годы. М., 1989.
32 Сенявская Е.С. Фронтовое поколение: историко-психологическое исследование. М., 1996; Она же. Человек на войне: опыт историко-психологической характеристики российского комбатанта // Отечественная история 1995, №3.
33 Баранова Н.Б. Мифологизация массового сознания. М., 1996; Она же. Власть и воздействие на массовое сознание в 30-е гг. XX века. Дисс. д. и. н. М., 1997.
34 См., например: Боброва О.Ю. Основы исторической психологии. СПб., 1997; Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997.
35 См., например: Барулин B.C. «Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя». СПб., 2000. щ, Однако, проблемы языка в исследованиях, посвященных социальной истории, практически затрагиваются лишь вскользь. В лучшем случае языку посвящено или несколько сюжетов или максимум 1-2 страницы. Большей частью темой языка занимались, как уже подчеркивалось выше, филологи, используя редкие исторические сюжеты для лингвистических выводов. Из наиболее полных филологических исследований можно назвать работы И.А. Купиной и Т.М. Николаевой.36
От постановки проблемы массового сознания в целом и пересмотра сущности идеологической работы исследователи закономерно перешли к анализу отдельных стереотипов массового сознания и механизмов их возникновения и формирования. В этом анализе одно из важнейших мест занимает исследование идеологической функции языка. Этому посвящена книга Б. Сарнова "Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма". Этот труд явился результатом как собственных наблюдений; и размышлений автора, так и впечатлений от прочтения романа Д. Оруэлла "1984" и книги В. Клемперера "Язык Третьего Рейха". Б. Сарнов исследует не только официальный язык советской эпохи, но язык, бытовавший в массах как противоядие, благодаря которому общественное сознание не поддавалось губительному воздействию языка власти в частности и давлению властей в целом. Книга содержит богатый фактический материал, хотя ее вряд ли можно полностью отнести к классическому научному жанру.37 ^ В; последнее время отечественные историки все больше сходятся во мнении о том; что историю советского периода следует изучать и осмысливать, используя произведения литературы и кинофильмы этого периода. Примером такого исторического анализа могут служить статьи тематического цикла "История страны / История кино", опубликованные в журнале "Отечественная история", №6 за 2003 г.
36 Купина И.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург-Пермь, 1995; Николаева Т. М. Лингвистическая демагогия. М., 1998.
37 Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002.
Весомый вклад в изучение процессов и событий 1920 - 30-х гг. вносят пензенские историки и краеведы. Например, в работах по истории развития экономики, промышленности и рабочего класса Пензенского региона можно найти социально-экономические основы языковых трансформаций. Следует отметить труды Н.А. Шарошкина.38 Исследованию крестьянского движения и коллективизации посвящены монографии В.В. Кондрашина.39
В качестве отдельного блока необходимо назвать труды пензенских исследователей, посвященные культурному строительству. Несмотря на то, что тематика этих работ не совпадает с темой нашего исследования, они сыграли определенную роль в нашем анализе, во-первых, потому что язык является ^ частью и основой культуры; во-вторых, в этих работах есть сюжеты, связанные с проблемой языка.
Одной из немногих таких работ является статья В.В. Балахонского "Провинциальная культура и объяснение событий российской истории".40 Автор размышляет о том, что в языке как общественном явлении отражаются состояния и изменения культурных, социальных, личностных образований. Язык, в свою очередь, посредством ценностно-мотивационных факторов регуляции, фиксированных в языковых средствах, воздействует на индивидуальное и социальное поведение человека, а также на его мыслительную деятельность, поскольку мышление протекает преимущественно в языковых формах и непосредственно связано с поведением человека. Это позволяет утверждать, что выбор тех или иных языковых средств, характерных для представителей определенной культурной среды, указывает на типичный для них стиль мышления и, соответственно, делает более предсказуемым образ поведения в? стандартных ситуациях. При! объяснении и теоретической то
Шарошкин Н.А. Промышленность и рабочие Поволжья в 1920-е годы. Пенза, 1987.
39 Кондрашин В.В. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 - 1922 гг. М., 2001; Кондрашин В., Пеннер Д. Голод: 1932 - 1933 годы в советской деревне. Самара - Пенза, 2002.
40 Балахонский В.В. Провинциальная культура и объяснение событий российской истории // Российская провинция XVIII - XX веков: реалии культурной жизни. Материалы III Всероссийской научной конференции. Пенза, 1996. Кн.2. С. 227-228. реконструкции исторических событий подобные возможности очень важны. Отечественный историк второй половины прошлого - начала нынешнего века В.О. Ключевский не только анализировал подобные лингвистические методы в рамках своих спецкурсов, но и сам часто использовал их в своих исторических исследованиях. Особенно широко представлены эти методы в его трудах по древнерусской истории. Относительно же изучения социальных явлений нового и новейшего времени данные походы еще не получили своего применения в исторической науке.
Языковой спецификой провинциальной культуры является более широкая представленность в ней элементов народного разговорного языка, ^ диалектизмов и противоречий. Вопрос о взаимоотношении диалектизмов, просторечии и нормативного языка непрост и имеет неоднозначные решения. Современная лингвистика исходит из нецелесообразности противопоставления народного разговорного языка литературному, т. е. нормативному, но в рамках научного исследования событий прошлого такая дифференциация не только правомерна, но и весьма эффективна, поскольку позволяет воссоздать бытовую и духовную атмосферу объясняемого события. На такую возможность указывал еще В. О. Ключевский в своей работе "Терминология русской истории".
Среди работ пензенских историков одной из близких к теме исследования является монография Л.Ю. Федосеевой "Рабочие Поволжья и культурное строительство в регионе во второй половине 20-х - середине 30-х годов" (Пенза. 2000 г). В монографии затрагиваются проблемы ликвидации неграмотности, повышение квалификации и культурного уровня рабочих, рассматривается роль библиотек, газет и различных форм художественного творчества в развитии духовной культуры рабочих. Кроме того, в последующих публикациях автор продолжает анализировать ход ликвидации неграмотности среди рабочих, состояние рабселькоровского движения.41 Тему ликвидации неграмотности в предвоенные годы рассматривают Т.Н. Кузьмина и Н.А. Шарошкин.42
Распространение грамотности и развитие сети начальных школ освещается в работах В.А. Власова, например в; статье "Начальная школа Пензенской губернии на рубеже XIX-XX веков (сборник "Отечественная культура и развитие краеведения", Пенза 2001 г), а также в его концептуальной работе "Школа и общество".43 Эти работы являются примером того, что тема языка как бы незримо всегда присутствовала в трудах историков, хотя непосредственно и не получила должного внимания, в, вероятно, в силу своей некоторой нетрадиционности для исторических исследований;
Таким образом, проблема языка как отражения массового сознания, с одной стороны, и способа воздействия на него,, с другой стороны, в отечественной историографии не нашла своего полного освещения и может считаться неизученной.
Научная новизна диссертации определяется тем, что исторические исследования языка как социального явления фактические не предпринимались ни в масштабах страны, ни в масштабах региона. Отдельные аспекты этой проблемы присутствуют лишь в качестве второстепенных сюжетов в работах, посвященных культуре и идеологии. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпринят исторический анализ массового сознания, 1920 - 30-х гг. через призму языка как социального явления. Позитивный момент новизны проявляется в том, что рассмотрены особенности массового сознания и события 20 - 30-х годов в контексте мировой истории, а не только в рамках национальной истории. На конкретном фактическом
41 См. например: Федосеева Л.Ю. Ликвидация неграмотности рабочих Поволжья во второй половине 1920-х - середине 1930-х годов // Исторические записки. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 6. Пенза, 2002, С. 81-92.
42 Кузьмина Т.Н., Шарошкин Н.А. Проблема ликвидации неграмотности среди рабочих Пензы и области в предвоенные годы (1938 - июнь 1941) // Идеалы и реальности культуры российского города. Материалы IV городской научно-практической конференции. Пенза, 2003, С. 103-107.
43 Власов В.А. Школа и общество. Поиски путей обновления образования. Вторая половина XIX - первая треть XX в. Пенза, 1998. материале мы рассматриваехм язык одновременно как объект центральных и местных партийных и государственных органов по воздействию на массовое сознание посредством определенной языковой политики.
Цели и задачи исследования. Исходя из актуальности темы и степени ее изученности, автор ставит своей целью теоретическое обоснование механизма отражения социальной повседневности в "языке эпохи". На основе конкретного исторического и языкового материала делается попытка исследования способов воздействия власти на массовое сознание, итоги и доминанты этого процесса. Это достигается решением следующих задач:
- анализ сущности понятия "язык эпохи" в историческом контексте советского общества;
- рассмотрение социально-экономических условий, определяющих характер языка в 20 - 30-е гг. XX века;
- исследование основных характеристик языка как социального явления в 20 - 30-е гг. XX века;
- анализ деятельности органов власти Пензенского региона по внедрению модели действительности посредством языка;
- исследование отношения населения региона к языковым нормам эпохи;
- интерпретация основных итогов и доминант процесса насаждения идеологизированных языковых стереотипов.
Методология исследования. Основополагающим методом исследования выступает диалектический, позволяющий установить закономерность происходящих в обществе изменений и прогнозировать непосредственные и отдаленные результаты и последствия изучаемого явления. Методологическую основу диссертации составляют:
- принцип историзма, который состоит в изучении событий и явлений в их динамике и хронологической последовательности;
- принцип системности позволяет рассматривать общество и язык как социальные системы, каждый элемент которых может быть понят только после рассмотрения того, какую роль он играет по отношению к другим элементам;
- принцип динамичности, применяемый для анализа изменений социальных систем;
- принцип диалогизма: взаимодействие властных структур и членов общества рассматривается нами как диалог, в котором власть выступает инициатором с целью воздействия на массовое сознание.
Теоретические основы исследования. В связи с тем, что в исследовании затрагиваются предметы использования языка в воздействии на массовое сознание, мы обратились в описаниях теоретических основ исследования не только к истории, но и к другим отраслям науки: философии, языкознанию, социолингвистике, культурологии. Теоретическим фундаментом исследования явились труды отечественных и зарубежных философов, социологов, культурологов и лингвистов, связанные с социальными проблемами языка.
Поскольку в нашей работе мы рассматриваем язык как социальное явление, теоретической основой исследования послужили выводы, сделанные выдающимися лингвистами XIX-XX веков: И.А. Бодуэном де Куртенэ, Е.Д. Поливановым, Л.П. Якубинским, В.М. Жирмунским, Б.А. Лариным, A.M. Селищевым, Г.О. Винокуром. Прежде всего, это тезис о том, что все средства языка,распределены по сферам общения, а деление общения на сферы имеет в = значительной мере языковой признак. Различные воздействия социальной среды на язык и на речевое поведение людей изучает социолингвистика, правда в поле ее интереса находится современный язык момента и язык современной эпохи.
Одной из ключевых проблем мировой лингвистики (в том числе и социолингвистики) является социальная дифференциация языка. Ей уделяли внимание представители французской социологической школы в языкознании (А. Мейе), ученики швейцарского лингвиста В. де Соссюра - А. Сэшеэ и Ш. Бали, Ж. Вандриес, А. Матезиус, Э; Сепир, Дж. Ферс и др.; отечественные языковеды Е.Д. Поливанов, A.M. Селищев, P.O. Шор, Л.П. Якубинский, В.М. Жирмунский, В.В. Виноградов, М.М. Бахтин и др.
В советском прошлом был широко распространен прямолинейный взгляд на дифференциацию языка в связи с социальным расслоением общества. Согласно этому взгляду расслоение общества на классы прямо ведет к формированию классовых диалектов и "языков". Эта концепция сформировалась в советском языкознании в конце 1920-х и начале 1930-х гг., когда весьма популярной была теория об обострении классовой борьбы и о четких классовых различиях.
Особенно отчетливо такая точка зрения была выражена А.М: Ивановым и Л.П. Якубинским в их книге "Очерки по языку" (1932), а также Л.П. Якубинским в работах "Язык пролетариата", "Язык крестьянства" и других, опубликованных в 1930-е годы. Эта концепция просуществовала в советской науке долгие годы. В последнее время она подвергалась резкой критике. Ее упрекают за то, что она якобы являлась не научной теорией, а по сути, идеологемой. В своем исследовании мы нашли подтверждение того, что она, тем не менее, имела под собой основания, и мы можем говорить о классовых языковых различиях. Но, безусловно мы не используем эту теорию безоговорочно как теоретическую основу. Мы считаем, что бурные миграционные процессы 1920 - начала 30-х гг., создавшие своеобразную прослойку городского населения, имевшего крестьянское происхождение, послужили причиной смешения "языка пролетариата" и "языка крестьянства". К тому же лингвисты считают, что природа и характер отношений между структурой общества и социальной структурой языка весьма сложны, непрямолинейны. В социальной дифференциации языка получает отражение не только и не столько современное состояние общества, сколько предшествующие его состояния, характерные особенности его структуры в прошлом, на разных этапах развития данного общества. Это положение социолингвистики будет подкреплено конкретным историческим материалом в нашем исследовании.
Исследователи уже давно отмечали чередования стабильных и нестабильных эпох и соответствующих изменений в языке. В "стабильную" эпоху общество представляет собой достаточно обозначенную таксономическую систему, которая формирует, с одной стороны, устойчивую "национальную картину мира" с другой стороны - явную "языковую картину мира", где безоговорочно признаются нормы грамматики, орфоэпии, где отлажена стилистическая иерархия литературного языка. По "языковой" картине можно изучать "национальную". Их сосуществование достаточно гармонично. Но, в недрах "стабильной эпохи" формируются деструктивные, революционные элементы. Их критическая масса постепенно нарастает, расшатывая устойчивую таксономию общества и языка. Основной удар наносится» по канону языковому и национально-поведенческому. Снижаются, пародируются классические образы, активизируется жанр литературного анекдота, пародия внедряется в сферу политики и т. д. Создается ощущение, что общество и нация теряют ценностные и нравственные ориентиры и соответственно язык — ориентацию в поле стилей.
В диссертации мы опирались на периодизацию так называемого "снижения" языка, проведенную учеными на основе трудов В.В. Виноградова. Он вычленил известную историческую периодичность в "снижении" языка. Условно выделяют следующие "снижения" в истории русского литературного языка последних двух веков:
- Пушкинско-карамзинская реформа первой четверти XIX века;
- Разночинское "снижение" середины XIX века;
- "Варваризация", связанная с революцией 1917 года;
- "Перестроечная" и "постсоветская" варваризация 80-90-х гг. XX века.
В эти периоды язык становится объектом не столько лингвистических исследований, сколько философских дискуссий. Смещения, снижения в языке (и соответственно в "национальном мышлении" и "национальном характере") весьма существенны, часто речь идет о серьезных глубинных, структурных изменениях.
Среди множества сложных социально-языковых связей особенно значимой нам представляется ориентация говорящих на язык какой-либо одной общественной группы, связанная с понятием социального престижа: чем более престижен статус группы в глазах всех других членов данного социума, тем вероятнее, что именно ее язык способен служить образцом для подражания. Это положение разработано в рамках современных социологических и социолингвистических исследований, но идея принадлежит выдающемуся отечественному лингвисту Е.Д. Поливанову, разработчику концепции языковой эволюции. По его мнению, социальные факторы влияют на язык не непосредственно. "Экономико-политические сдвиги видоизменяют контингент носителей языка (или так называемый социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекают и видоизменение отправных точек его эволюции".44 Примером выступает русский литературный язык послереволюционной эпохи. Изменение состава носителей языка обусловило новую цель языковой эволюции — создание языка, единого для всех социальных слоев, объединяемых в новом коллективе носителей. В ходе этого процесса выясняется, язык какой из объединяемых социальных групп "будет "играть первую скрипку" в эволюции, направленной к установлению единообразной (для всех данных групп) системы речи" 45
Естественно, что лингвисты находят спорными некоторые положения концепции языковой эволюции Е.Д. Поливанова, однако рассмотренное выше утверждение продолжает находить подтверждение в исследованиях исторического и лингвистического ряда.
Кроме того, в развитии языка ключевую роль играют антиномии -постоянно действующие противоположные друг другу тенденции, борьба которых и является движущим стимулом языкового развития. При рассмотрении проблем массового сознания через призму языка различные
44 Поливанов Е.Д. Избранное. М, 1991. С. 92.
45 Там же. С. 97. антиномии будут являться показателями определенных социальных процессов и отражать особенности массового сознания в данный период.
В отличие от антиномий, охватывающих своим действием языковую систему в целом, социальные факторы неодинаковы по своему влиянию на язык (глобальные и частные). К социальным факторам, влияющим на языковую эволюцию, лингвисты относят, например, изменение круга носителей языка; распространение просвещения; миграция; создание новой государственности; развитие науки; технические новшества и изобретения.
Таким образом, среди теоретических основ нашего исследования выделяется блок теорий социолингвистики.
В ходе проведенного нами анализа исторического материала мы исходили из концепции современной когнитологии. В основе когнитологии, научного направления, сложившегося в 60-х гг. XX в., лежит гипотеза о том, что человеческие когнитивные структуры (восприятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно связаны между собой и действуют в рамках одной общей задачи. Поэтому в ряде работ ученых когнитологов сам человек рассматривается как активный преобразователь информации.46 Так как когнитивная модель охватывает различные уровни порождения речи, то возникает новое отношение к языку — как к устройству, преобразующему мысль в речь.
Общеизвестно, что устная речь не всегда совпадает с истинными ** мыслями говорящего или пишущего, что особенно важно при анализе идеологии и массового сознания 1920 - 30-х г. Поэтому концепции семиотики также являются теоретической основой диссертации. Семиотические наблюдения можно найти у лингвистов, философов, историков, литературоведов, которые свои изыскания часто не относили к области семиотики, т. к. направление это сформировалось относительно недавно.
46 Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., 1982; Познание и его возможности: Тезисы международной научной коиференциию М., 1994. Фомиченко Л.Г. Когнитивная модель просодических интерферируемых систем. Волгоград, 1996.
Американский философ и социальный психолог Ч. Моррис является основателем семиотики как самостоятельной дисциплины, инициатором прагматического анализа языка. Ч. Моррис не без основания полагал, что семиотика может выступать в качестве средства описания различных аспектов человеческой деятельности. Семиотика является наукой о знаковых системах, используемых человеком. Одной из таких систем является язык. Каждый знак заключает в себе поведение, поскольку он всегда предполагает наличие интерпретатора. Истолкователь знака активен, его действие сознательно, селективно и мотивировано ситуацией, оценку которой оно включает в себя. Этот тезис делает семиотику обязательной при исторических исследованиях, t1 связанных с языковыми процессами.
Среди семиологов, на чьи работы автор опирался и использовал, можно назвать М.М. Бахтина, Ю.Л. Лотмана, П.А. Сорокина.47
В историографическом обзоре мы подробнее остановимся на трудах таких семиологов, как Р. Барт и Ю.П. Лотман. Тем не менее, при характеристике теоретических основ исследования особо следует остановиться на творческом наследии М.М. Бахтина. Концепция языка не занимает особого места в мыслительном мире Бахтина, но со второй половины 20-х гг. она органично включается в его экзистенциализм. Язык для Бахтина — это речь, причем не изолированного, но социального индивида. Бытие для Бахтина — это живой, динамичный социум, в котором индивиды соединены нравственными ^ связями. Так утверждается в его трактатах начала 20-х годов; позднее этот же социум предстает у М.М. Бахтина осмысленным и озвученным: между его членами как бы идет нескончаемый разговор. В бахтинской философии языка определяющим является представление о диалоге: если речевой единицей для Бахтина является высказывание, то это высказывание имеет диалогическую природу, существует как реплика диалога. Слово, по Бахтину, имеет, во-первых, автора, во-вторых, адресата и так называемого произносителя в
47 Почепцов Г.Г. История русской семиотики. М., 1998. ф конкретной жизненной ситуации. Включающее в себя все эти экзистенциальные моменты слово выходит за границы чисто лингвистической оболочки. Современная наука понимает язык как воплощение социокультурных и персональных смыслов, что ведет к осмыслению языка как конкретной исторической и социально-культурной детерминированности сознания, как формы творческой активности конкретно-исторического человека. Рассматривая язык сквозь призму работ М.М. Бахтина, исследователи получают не просто систему абстрактных грамматических категорий, а язык идеологически наполненный, "язык мировоззрения" и даже как конкретное мировоззрение. Отсюда следует, что язык как форма творческой активности ^ или как конкретное мировоззрение не может не влиять на другие формы этой активности, выступая как субъект воздействия, и, в свою очередь он также зависим от разнообразных форм творческой активности человека и элементов социокультурной системы общества, т. е. является объектом воздействия.
Тем не менее, мы не склонны считать постулаты семиотики истиной в последней инстанции, хотя часть их и легли в основу нашего исследования. Живое слово — больше, чем знак, и его трудно "уложить" в прокрустово ложе семиотики, которая различает значение ("предмет или класс предметов") и смысл знака ("содержание понятия, входящего в объем обозначенный предметной области"). Семиотика теряет отношение автора к собственному высказыванию, или как выражался JI. Витгенштейн, в речи существует ^ невыразимое рациональными логическими средствами "интуитивное созерцание мира в целом".48 Теория знаковой природы языка больше применима к письменному языку, но он возник гораздо позже устной речи. Речевое выражение — не просто конвенциальный знак, а символ, который неразрывно связан с непосредственной жизнью и хранит ее священные смыслы, а потому заключает в себе мощную эмоциональную энергию. В этом аспекте речь, живое слово обладают эстетической выразительностью.49 В современном
48 Витгенштейн J1. Проблемы речи. М., 1997. С. 143.
49 Фролов Б.Л. Эстетические основания культуры. Пенза, 2002. 160 С. мире семиотика приобрела особое значение. Об этом свидетельствует тот факт, что армейские офицеры Великобритании изучают семиотику в военной академии в рамках курса по освещению средствами массовой информации военных действий.50
Главное для наук лингвистического ряда - текст как единица языка, текст как речь или как формальный результат акта говорения. Вопрос о месте языка в общественной деятельности ставит и лингвосоциопсихология (семиосоципсихология), которая изучает место текстовой деятельности среди прочих видов общественной деятельности, роль и место текстов (сообщений) при обмене всеми видами деятельности, пути и механизмы внедрения продуктов интеллектуальной знаково-мыслительной деятельности в общественную практику, в культуру и общественное сознание. Для нашего исследования большую роль сыграли работы Т.М. Дридзе. Так, в своей монографии "Язык и социальная психология" она рассматривает текст как единицу общения, а предметом изучения считает мотивированный обмен текстами.51 Текст выступает здесь как источник информации о "затекстовой" действительности, а активный интерпретатор — это субъект, чьи действия над текстом мотивированы, ситуативны и целесообразны. По мнению Т.М. Дридзе, сфера практического приложения лингвосоциопсихологических исследований многообразна, для нас же важным является изучение путей формирования общественного мнения, норм и ценностей. Кроме того, наличие или отсутствие смысловых контактов в ходе общения будет влиять на характер и эффективность взаимодействия социальных субъектов во всех сферах их практической жизни. Т.М. Дридзе подчеркивает, что при общении людей механизмы смыслового контакта включается далеко не всегда. Гораздо чаще мы имеем дело с "псевдообщением", в ходе которого нет совпадения "фокусов" порождаемого и интерпретируемого текста. Ситуация "смысловых ножниц" возникает в ходе несостоявшегося обмена коммуникативно-познавательной
50 См.: Комсомольская правда. 1998.29 августа.
51 Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 1993. С. 27. деятельностью при взаимном непонимании и может быть описана как возникновение "семиотического вакуума" в процессе общения. Этот эффект отрицательно влияет на межличностные, внутригрупповые и межгрупповые связи и чреват неадекватными интерпретациями: это неверно истолкованные взаимопонимания между людьми. Существует также "квазиобщение" т. е. ритуальное действо, подменяющее общение, где механизм взаимопонимания не является обязательным. Этот тезис мы применяли при анализе роли митингов и других массовых праздников, а также роли всевозможных лозунгов в 1930-х гт.
Следующий блок теоретических основ исследования связан с социологией. П.А. Сорокин в своей работе "Система социологии" пишет о проводниках - символах (в семиотике это - знак) и предлагает их классифицировать по физическим свойствам: звуковые, световые, цветовые (флаги), двигательные, предметные (деньги, государственные реликвии) и др. Звуковые проводники по П. Сорокину - лозунги, клише, неологизмы, возгласы одобрения. П.А. Сорокин сделал ценное наблюдение: "Человек, выступающий в определенной общественной роли., облачась в свою символическую одежду., надевая на себя соответствующие атрибуты., окруженный предметными проводниками;., часто совершенно трансформируется и перестает походить на самого себя, каким он бывает в частной жизни, вне этих атрибутов. . С этой точки зрения не случайным является факт установления культа, обрядов, слов, форм одежды и т.д., фигурирующих во всех сферах общественной жизни.".52 П.А. Сорокин подчеркивает, что если лишить индивидов их внешних символических знаков, то меняется их психика. Говоря о звуковых символах, философ замечает: "Сколько людей "перерождались духовно", получив титул "Его превосходительства", "графа" или "князя". Как много простых смертных начинали себя чувствовать иначе, после того, как они становились "грофмейстерами" или "губернаторами".53
52 Сорокин П. Система социологии. М., 1991. С. 107.
53 Там же С. 112.
Мысли П.А. Сорокина о том, как символически могут влиять проводники на психологию человека, мы использовали при рассмотрении социальных, психологических и языковых характеристик носителя (или проводника — символа) определенного общественного идеала. Далее философ утверждает, что многократное употребление символического проводника может делать его "чем-то самоценным, святым и самодовлеющим". К фетишизированным звукам он относит заклинания, заговоры и молитвы и добавляет примеры из жизни, когда призывы типа "Долой советскую власть!" навлекали весьма тяжкие кары. В основу своей социологии П. А. Сорокин полагает коллективные единства, которые часто образуются вне воли участников. Для нас это — приверженцы одного общественного идеала во главе со своим фетишизированным вождем: "Люди, однородные с нами по языку, по мировоззрению, по идеалам, по внешнему виду, короче говоря, сходные с нами и по внешнему облику, и по внутренним свойствам, близки к нам".54
Кроме того, в исследовании мы опирались на труды современных психологов, занимающихся теорией манипуляции. Живое общение предполагает непосредственное присутствие говорящего и слушающего, когда говорящий имеет перед собой не анонимного слушателя; а вполне определенное лицо. Поэтому высказывание заключает в себе не только сообщение (информацию), но отношение к нему самого говорящего — личный смысл. Это отношение часто выражается невербальными- средствами: интонацией, жестами, мимикой и др., и слушатель реагирует не только на смысл слов, но и на отношение к нему самого говорящего, что придает дополнительные нюансы общению.
Так, американский ученый П. Экман в своей монографии "Психология лжи" считает, что слова, речь являются основным критерием обнаружения обмана. Другие критерии - голос, мимика, пластика, - признаки, обусловленные
54 Сорокин П.А. Избранное. М„ 1992. С. 207. вегетативной нервной системой.55 При оценке идеологем 1920 - 30-х гг. мы использовали этот тезис П. Экмана.
Нужно сказать, что в США вообще весьма развито направление, связанное с теорией воздействия на массовое сознание и сознание индивида. Психологи в работе "Социальное влияние" определили язык как один из мощнейших факторов социально влияния вообще и орудия манипуляции в частности.56
В отечественной психологии проблемами мотивации и мотивов занимался Е.П. Ильин. Среди мотивов определенного поведения человека он выделял вербальное поощрение или вербальное "подталкивание". Этот тезис мы использовали при анализе роли языка как способа самоидентификации в 1930-х гг. С начала 1990-х гг. российские психологи стали более интенсивно заниматься проблемами управления массовым сознанием и сознанием отдельного человека. В этих исследованиях важное место занимает язык. Так, в монографии В.П. Шейнова есть раздел, посвященный риторическим методам понуждения к действию.57
Один из виднейших отечественных исследователей массового сознания -Д.В; Ольшанский. В его монографии "Психология масс" есть глава, посвященная эволюции психологии масс в истории человечества. В том числе он рассматривает психологию масс при социализме. Мы использовали тезис Д.В. Ольшанского о том, что "социализм в своих наиболее известных ^ социально-политических формах изначально и совершенно откровенно с « определял себя как массовую формацию, психологии масс".
Таким образом, представители различных направлений научной мысли (философия, социология, социолингвистика, культурология, литературоведение и др.) изучали различные аспекты проблемы изменения языка в связи с
55 Экман П. Психология лжи. СПб., 2000. С. 64-67.
56 Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб., 2000.
57 Шейнов В.П. Скрытое управление человеком. Психология манипулирования. Минск, 2000. С. 347-368.
58 Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2002. С. 106. $ происходящими в обществе процессами, переход ненормы в норму и т.д.
Совокупность их концепций составляет теоретический фундамент нашего исследования.
Понятийный аппарат исследования. Мы считаем нужным, прежде чем приступить к изложению результатов исследования, определить понятийный аппарат, использованный нами в диссертации. Ключевыми понятиями исследования являются "массовое сознание" и "язык".
Массовое сознание выступает как бы актуальным производным от общественного сознания, трактуемого как совокупность сознаний основных групп общества, составляющих социально-классовую структуру, причем как бы ^ со "сломанными" внутри такого общественного сознания перегородками.
Исследователи феномена массового сознания предлагали различные характеристики для оценки его содержания. В обобщенном варианте в качестве основы для такой оценки выступает совокупность трех характеристик:
- средний уровень развития сознания масс в обществе, включающий не только когнитивные элементы (объем знаний и суждений масс о тех или иных социально-политических явлениях и процессах), но и направленность чувств и фантазий, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность;
- диапазон и направленность потребностей, интересов, запросов, отличающих условия жизни масс в обществе;
- диапазон информации, в т. ч. специально направляемой на массовое сознание через многочисленные каналы воспитательных и образовательных институтов и средств массовой информации.
В целом массовое сознание, на наш взгляд, необходимо рассматривать как результат встречного движения активности масс, направленной на свойственные человеку осмысление собственной жизни, и тех социально-политических условий, в которых эта жизнь протекает.
В лингвистическом словаре дается следующее определение языка: термин "язык" имеет по крайней мере два взаимосвязанных значения:
- язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем;
- конкретный, так называемый этнический или "идиоэтнический" язык, некоторая реально существующая знаковая система, используемая в некотором социуме, в некоторое время и в некотором пространстве.
Язык в первом значении - это абстрактное представление о едином человеческом языке, средоточии универсальных свойств всех конкретных языков. Конкретные языки — это многочисленные реализации свойств языка вообще".59 В энциклопедическом словаре дается более обобщенное понимание языка как средства человеческого общения, являющегося средством хранения и передачи информации. Особо подчеркнем, что язык здесь определяется и как средство управления человеческим поведением.60
Языкознание и социолингвистика дали нам объемный терминологический комплекс, ключевым понятиями которого- выступают норма и антиномии.
Нормы - это совокупность правил выбора и употребления языковых средств в данном обществе в данную эпоху. Нормы исторически изменчивы, но меняются они, как правило, медленно. В развитых языках норма остается стабильной на протяжении многих десятилетий.
Исключение составляют эпохи модернизаций, реформ, тех или иных социальных перемен: в это время, как это было в 1920 - 30-е гг., языковые нормы весьма динамичны.
Языковая норма выполняет важную социальную и культурную функцию. Все социально важные сферы человеческой деятельности обслуживаются нормированным языком: без него трудно представить себе функционирование науки, образования, культуры, развитие техники, законотворчество, делопроизводство и т. д.
При этом норма динамична: она не делит средства языка на хорошие и плохие. Правильное и уместное в одних условиях речи (например, в бытовом
59 Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 606.
60 Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1587. диалоге) может выглядеть нелепым в других. Зависимость литературной нормы от условий, в которых осуществляется речь, называют коммуникативной целесообразностью нормы. Есть два канала для влияния общества и его представителей на язык. Первый, который эксплуатируется языковедами, является как бы внутренним и связан с его строем, эволюцией и традициями употребления. Используя этот канал, "арбитры языка" нормируют его. Другой целиком определяется задачами применения, функционирования языка в общественной жизни, в политической борьбе и не имеет ничего общего с его внутренним устройством.
В языкознании есть такое понятие — язык текущего момента. Он отражает настроения общества и моду. Еще более глубинное понятие — язык эпохи. Язык эпохи представляет диалектическое единство вербальных и невербальных символов, обеспечивающих семиотическое единство общества. Он включает нормы, предъявляемые к литературному языку и разговорной речи, а также такие элементы социальной жизни, как плакаты, знамена, униформа, жесты приветствия, витрины и т. п. Именно в этом смысле мы рассматриваем язык как способ воздействия властей на массовое сознание.
Под языковой политикой мы понимаем разработку проблем и практических мер со стороны государства в условиях полиэтнических и многоязычных стран, где соотношение и использование языков тесно связано с механизмами политического управления, национального согласия и социальной стабильности. Одним из инструментов языковой политики являются законы о языках.
Положения, выносимые на защиту:
- Социально-экономическая и политическая обстановка в СССР в 193 020 х гт. способствовала появлению "советского языка" как языка новой эпохи, языка власти;
- Условиями становления "советского языка" были: деклассация общества, миграция, индустриализация, коллективизация, сравнительно низкий уровень общей культуры и грамотности. dBiH щ - Возникновение "советского языка" явилось результатом целенаправленной деятельности властей по идеологизации массового сознания;
- Специфика массового сознания 1920 - 30-х г., основными чертами которого являлись бинарность, ориентация на будущее, коллективизм, двойственность и т.д., способствовала становлению этого языка;
- Языковая манипуляция массовым сознанием проводилась по таким каналам, как система образования и политического просвещения, массовая культура, средства массовой информации и идеологизация бытовой жизни. Основными приемами языкового воздействия выступали речевой стиль, определенные стилистические приемы, способы наименования реалий повседневной действительности и т.п. посредством "советского языка";
Источники исследования. Тема исследования предопределила иерархию использованных нами источников. Исследователи проблем индустриализации, коллективизации критикуют официальные публикации 1930-х гг. за несоответствие реалиям жизни: "Журналы 30-х гг. часто приносят разочарование. Можно перерыть годовую подшивку журнала "Социалистическая реконструкция сельского хозяйства", так и не встретив фигуры реального крестьянина".61 Для нашего же исследования; наоборот, официальная пресса той эпохи имеет важное источниковое значение, поскольку дает представление о языке власти, о том идеальном варианте языка, который насаждался в предвоенное десятилетие. В рамках работы над диссертацией мы просмотрели следующие журналы: "Советский музей" за 1931, 1935, 1937 гг.; "Коммунистический Интернационал" за 1935 г.; "Искусство и жизнь" за 1937 г. "Литература и > искусство" за 1931 г.; "Большевик" за 1931, 1932, 1935 гг.; "Самодеятельное искусство" за 1932 гг.; "Звезда" за 1935 г.; "Исторический журнал" за 1937 г.; "Творчество" за 1937 г.; "Знамя" за 1934г.; "Под знаменем марксизма" за 1934, 1937 гг.; "Огонек" за 1929, 1930 гг.; "Советский театр" за 1931 г.; "Антирелигиозник" за 1929 г.; "Красный библиотекарь" за 1932 г.;
61 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001. С. 361. щ "Советская юстиция" за 1934 г.; "Журналист" за 1932 г.; "Крокодил" за 1933 -1936, 1939 гг.; "Наши достижения" за 1932 -1934 гг.
Огромную роль в нашем исследовании играли газеты, поскольку они одновременно дают представление и о языке власти, и о языке, которым пользовались люди, обращаясь к властям, так как в это время всячески поощрялось движение раб- и селькоров. Их непрофессиональные заметки, письма в газеты позволяют также судить о языке тех лет. В диссертации нами использованы материалы следующих газет: "Правда" за 1935, 1936, 1937 гг.; "Известия" за 1933-1938 гг.; "Литературная газета" за 1934-1938 гг.; а также региональных изданий - "Волжская коммуна" за 1935-1938 гг.; ^ "Средневолжский комсомолец" за 1928-1935 гг.; "Сталинский клич" за 19381941 гг.; "Социалистический штурм" за 1933-1937 гг.; "Трудовая правда" (орган губкома РКП и губисполкома, позднее окружных и городских организаций ВКП(б)) за 1930-32 гг.; "Сталинское знамя" (орган Оргбюро ЦК ВКП(б) и Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Пензенской области и Пензенского горкома ВКП(б)) за 1938 гг.; "Молодой ленинец" (образован в 1920 г. как орган пензенской губернской организации комсомола. В 1920-ые гг. газета неоднократно меняла свое название) за 1940-41 гг.
Довольно обширный материал для анализа дают архивы. Большое значение для нашего исследования имели письма властям, во множестве сохранившиеся в архивах. Жанр этих писем различен: в основном это ^ всевозможные ходатайства, жалобы. Наиболее тягостное впечатление производят доносы, но по ним можно проследить, в какие слова облекали граждане свои обращения к властям. Протоколы заседаний партийных ячеек, заявления коммунистов и т.д. также явились источником исследования.
Большой материал мы нашли в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ):
- Ф. 374. Оп. 9 (Наркомат РКИ);
- Ф. 1244 (Редакция газеты "Известия");
- Ф. 5451 (Центральный совет профсоюзов);
- Ф. 3316 (ВЦИК). On. 34, 39 (прошения и жалобы), оп. 41 (письма по поводу Конституции);
- Ф. Р- 9550 (Коллекция листовок советского периода);
- Ф. 10048 (Коллекция открыток советского периода);
- Ф. А — 2306 (Министерство просвещения РСФСР).
В Государственном архиве Пензенской области (ГАПО) нами изучены следующие фонды:
- Ф. 37 (Пензенский городской комитет партии);
- Ф. 54 (Пензенский окружной комитет ВКП(б);
- Ф. 83 (Башмаковский районный комитет КПСС);
- Ф. 253 (Губоно);
- Ф. 401 (Хованский волостной комитет ВКП(б) Сердобского уезда);
- Ф. 453 (Исполнительный комитет Пензенского городского совета народных депутатов);
- Ф. 475 (Кузнецкий окружной комитет ВКП(б);
- Ф. 823 (Исполнительный комитет Рамзайского сельского совета народных депутатов Пензенского района);
- Ф. 1993 (Первичная партийная организация Варваровского сельсовета Каменского района);
- Ф. 1381 (Облоно);
- Ф. 2270 (личный архив Е.И. Цибузгиной)
Эпоха 1930-х не создавала условия для написания мемуаров, поэтому их не так много, некоторые из них (опубликованные в советское время) также грешат стремлением соответствовать идеологическим стереотипам. Тем не менее, мемуары также явились источником проведенного анализа. Особую ценность для нас представили следующие из них: Авдеенко А. Наказание без преступления. М., Изд. Савинова. 1991; Адамова - Слиозберг О. Путь // Доднесь тяготеет Вып. 1.: Записки вашей современницы. М., 1989; Аджубей А. Те десять лет. М., 1989; Александров Г. Эпоха и кино. М. 1976; Ангелина П. Люди колхозных полей. М., 1948; Ангелина П. О самом главном. М., 1948; Афанасьев С.В; Далекие тридцатые. М., 1999; Багаев М.А. Моя жизнь. Иваново. 1949; Боннэр Е. Дочки-матери. М., 1999; Бусыгин А. Жизнь моя и моих друзей. М. 1939; Вернадский В.И. Дневник 1938 г. // Дружба народов. 1991. № 2; Гершберг С. Завтра газета выходит. М., 1966; Жид А. Из дневника 1939-1941 гг. //Литературная газета. 1989. 8 марта; Женская судьба в России: Документы и воспоминания. М., 1994; Кабанова И.Ш. Мои живые и ушедшие родственники. СПб., 2001; Казакевич Э. Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М., 1990; Либединская Л. Зеленая лампа. М., 1995; Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1995; Маньков А.Г. Из дневника рядового человека // Звезда. 1994. № 5; Михалков С. В. От и до. М., 1997; Поляновский М. Остановись мгновение. М., 1968; Пришвин М.И: Дневники. М. 1990; Терц Абрам. Литературный процесс в России // Континент. 1974. № 1; Сталин в воспоминаниях и документах эпохи / Сост. М. Лобанов. М., 1995; Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991; Твардовский И. Страницы пережитого // Юность. 1988. № 3; Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. 2. М., 1990.
Отдельно выделим работу немецкого филолога В Клемперера "Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога" (М. 1998), которая представляет собой нечто среднее между мемуарами и научным исследованием. Этот труд имеет огромное значение в определении общего и особенного при исследовании языка и массового сознания 1930-х гг.
Весьма ценными для нас оказались появившиеся во множестве в последние годы издания анекдотов, в которых встречаются и анекдоты исследуемой нами эпохи.62
Специфика темы исследования предопределила значимость такого источника, как литературные произведения и публицистика. Среди авторов
62 Борев Ю. История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995; Сорвилин С.Г., Каманин О.С. Анекдот: вчера и сегодня. М., 1993; Анекдоты для рассказчиков и слушателей. Сост. С.М. Карданский. М., 1994; Кастальский К.Ю. Смех и слезы: неверные мужья и дураки-чиновники. СПб., 1995: Соколова Н. Материалы к энциклопедии советского анекдота // Огонек. 1995. № 73; Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002. и т.д. использованных нами произведений и классики социалистического реализма М. Горький, Н. Островский, М. Шолохов, Э. Багрицкий, И. Ильф, Е. Петров, М. Зощенко и многие другие, ставшие символами своей эпохи, творившие по законам времени и причисленные властями к "инженерам человеческих душ".
Практическая значимость исследования заключается в возможности включения его результатов в обобщенные исследования по истории советского государства как пример использования властными структурами языка как способа воздействия на массовое сознание. Кроме того, так как русский язык — это не только язык, на котором говорит большинство населения Российской Федерации, но и орудие деятельности политиков, журналистов, преподавателей, проповедников, то на основе проведенного исследования могут быть выработаны определенные рекомендации по возможному влиянию слова на массовое сознание.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Язык как способ воздействия властей на массовое сознание в 1920-30-е гг."
Советская Щ1вилизация выступает одним из вариантов (ветвей) в развитии мирового сообщества, который наряду с западной цивилизацией представляет историческую ступень на пути к достижению информационного общества. Огромную роль в становлении и развитии советского государства; сыграл язык эпохи, который в истории получил название языка советского.Таким образом, то, что произошло в 1920 - 30-е гг., можно назвать языковой революцией. Исследователи говорят о стилистической революции, о
4^1 семантической революции (И. Голомшток), но анализ подтверждает с одной стороны, глобальность происходивших в ту эпоху процессов, с другой возникновение советского языка. Формовка сознания путем изменения языка — один из самых общих признаков тоталитаризма. Вероятно значимость языка как орудия пропаганды, как способа воздействия t на сознание имел в виду Сталин. В работе "Марксизм и языкознание", появившейся в 1950 г., Сталин вопреки традиционному марксизму утверждал внеклассовый характер языка.Язык, по Сталину, подобно орудиям производства, обслуживает не отдельные классы, а народ в целом и в силу этого сохраняет гораздо большую устойчивость, чем общественные формации: "Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет. За это время бы=ликвидирован в России феодальный # строй, капиталистический строй и возник третий, социалистический, строй;..Однако если взять, например, русский язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается; от языка Пушкина"."^^^ Безусловно, период, когда появляется эта работа, выходит за рамки нашего исследования, но мы привели эту цитату, чтобы подчеркнуть, насколько важно было для власти утверждение о том, что продукт идеологического творчества 1920 - 30-х гг."мало чем отличается от языка Пушкина". Сталин считал язык мощнейшим ^^^ Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950. 7.средством нивелировки массового сознания. К известной триаде немецкого фюрера "Одно государство - один народ - один фюрер" Сталин прибавил четвертый элемент - "один язык". Утверждая* постоянство своего языка и неизменность мышления, тоталитаризм легализовал себя в прошлом, утверждал в будуш;ем, обосновывал свое существование в качестве завершения всей истории человечества.Главными каналами внедрения нового языка в сознание людей были системы воспитания и образования, средства массовой информации, массовая культура, идеологизация жизни.Советский язык формировал сознание человека советского (являлся •f) субъектом воздействия) и сам подвергался влиянию социального отбора со стороны говорящих (являлся объектом воздействия). "Новояз" был своеобразной языковой маской, служившей для социальной мимикрии, ведь различие языков является социальным различием.С помощью новых слов молодые люди (особенно с крестьянским
прошлым) стремились обрести свое место в обществе, упорядочить пространство жизни. С новыми словами они связывали исполнение желаний, новые слова выступали в прагматической и магической функциях. Умение играть в словесные игры, следовать правилам знаково-символического обмена приравнивалось к умению "вписаться" в общество, для чего и нужно было овладеть языком власти.fh)) Я з ы к ЭПОХИ; тоталитаризма н ачинае т з арождаться в X I X веке , к о г д а вместе с революционной идеологией вырабатывает новый стиль речи, необходимый для пропаганды идей революции в массах.После пролетарской революции 1917г. в стране начался поиск новых идентичностей, который сопровождался процессом превращения крестьянина в некрестьянина и должен был привести к формированию человека нового типа -
человека советского, одна из многих черт которого - политическая культура -
включала умение говорить на языке большевиков. Именно советский язык образовал семиотическое и информационное пространство, в котором существовала "новая историческая общность" - советский народ.Языковые трансформации происходили в период 1920 - 30-х годов при следующих социапьно-экономических условиях: • деклассация населения; • его миграция; • индустриализация; • коллективизация.Характерными чертами языковой политики 1920 30-х гг. были: • выработка соответствующего целям и задачам власти речевого стиля и #^ использование определенных стилистических приемов; • построение средством языка социальной иерархии общества; • наименование реалий повседневной действительности и географических объектов; • вторжение и контроль за личной жизнью индивидов, включая семейную коммуникацию.Партийно-государственная номенклатура обеспечивала контроль над массовым сознанием и распространение социалистической идеологии посредством применения следующих средств языка: • сведение всего многообразия языковых стилей к одному, • широкое распространение аббревиатур, «>* - противопоставления, - выбор частоты употребления слов и конструкций, • повторы.Проведенный анализ показал, что в 1920 - 30-х гг. можно говорить о манипулятивной семантике: изменении смысла слов и понятий, о семантической революции.Строгий партийный контроль за письменной и устной речью, использование клише, повторы - все это приводит к тому, что часть общества ^' учится читать между строк, делая выводы о действительном состоянии дел в стране, носители языка намеренно искажают тексты литературных произведений, по-своему расшифровывают аббревиатуры и т.п. Устное народное творчество, в том числе анекдоты, загадки, многие рассказы, пьесы, пользуясь официальным языком, тем не менее, обнаруживают несогласие с властью."Бунт" на уровне языка во многом бессознателен. Даже освободившись от оков тоталитаризма, человек не сразу достигает языковой свободы, продолжая мыслить теми же категориями и выражая мысли теми же языковыми средствами.Те, кто не участвовал в языковых играх эпохи, не овладевал новым Л^ языком как символическим капиталом, оказывался привязанным к месту во всех смыслах, продолжая жизнь в том же социальном и физическом пространстве. Они не могли подняться с нижних ступенек социальной иерархии.Деклассация и миграция огромных масс населения привели к тому, что люди утратили свои корни, а вместе с ними языковые навыки своей социальной группы. Чтобы "вписаться" в новые социальные группы, требовалось овладеть общим для всех языком - языком власти. Коллективизация и индустриализация усилили эту тенденцию; кроме того, идеологическое обоснованное этих процессов привело к дальнейшей политизации и военизации языка, лексическим изменениям в языке.»|^* Партия большевиков и ее руководство выработали свой языковой стиль общениях народом. Можно считать, что стиль этот просуществовал до 1985 -
1991гг. Советская идеология воздействия власти на массовое сознание является советским вариантом "связей с общественностью" по принципу, способам и методам. Очень образно сказал об этом Е. Честняков: " ... И производят всюду взлом: Ружьем и словом, и кoлoм."'**'^ ^^"^ Красота, распятая на кресте. Из записных книжек Ефима Честнякова. // Родина. № 4. 1991.В 1920-е годы власть вырабатывает систему способов контроля за информацией, поэтому для данного периода характерна частая сменяемость количества и названий газет, а также преобладание, но еще не полная монополия официального языка власти на страницах изданий. В начале 1930-х годов ситуация начинает меняться, и газетный язык все больше приобретает такие характеристики, как полная законченность и неоспоримость высказываний.Для того, чтобы включить все население страны в семиотическое поле власти, партия и правительство развертывают борьбу с неграмотностью. И хотя в стране много несогласных с политикой партии, много разочарованных
щ) результатами "социалистических преобразований", цель в основном достигнута: и согласные, и несогласные начинают пользоваться языком большевиков, принимают правила словесных игр.Одновременно изменяются приоритеты языковой политики партии.Объективные интересы государства требовали знания русского языка ото всех граждан страны. Хотя "сталинская" конституция и гарантировала равноправие всех народов и языков, на деле повышение роли русского языка шло параллельно с закрытием национальных школ и реформами орфографии и правописания национальных языков. Это объективно приводило к дальнейшему распространению и утверждению русского языка как языка карьеры и межнационального общения на территории СССР. •к' Изменение реалий повседневности, возникновение и утверждение новых форм бытия в деревне (колхозы и совхозы) и городе на производстве вовлекло за собой изменение сущности массового сознания: переход от крестьянского мировоззрения к миропониманию человека советского. Процесс этот начался в послереволюционный период и в основном завершился с принятием в 1936г.сталинской конституции.Нужно сказать, что агрессивная направленность речи, характерная для языка 1930-х гг., и убеждение в наличии внутреннего врага, характерная для *• массового сознания этого же времени, оказались весьма живучими. Несмотря на разоблачение культа Сталина, обнародование материалов, связанных с репрессиями, эпоха ресталинизации дала свои плоды. Так, в "Очерках истории Пензенской организации КПСС", вышедших уже в 1983 г. так говорится о "лидерах троцкистско-зиновьевского блока, пытавшихся найти поддержку на местах, создать опорные пункты": "Переведенные ЦК ВКП(б) в Пензенскую партийную организацию сторонники Зиновьева и Троцкого А.В. Лепешинская, И.К. Наумов, Б.М. Дженсон, Т.П. Зинкевич и некоторые другие не прекратили своей антипартийной, оппозиционной деятельности. Получая инструкции от руководителей оппозиционного блока, они проводили агитацию в защиту капитулянтских, антисоциалистических идей, с антиленинскими взглядами выступали на собраниях актива и конференциях, распространяли оппозиционные документы, укрепляли связи со сторонниками блока в Воронежской и Саратовской губерниях". Совершенно очевидно, что эти фразы взяты один в один из архивных документов.'*'^ Однако то, что эти выдержки приведены без кавычек, свидетельствует о полном принятии как самой информации, так и стиля ее изложения.Простодушная, даже слепая вера нашего народа в слово (особенно печатное или авторитетно передаваемое СМИ) делала и до сих пор делает его особенно предрасположенным ко всевозможным манипуляциям. Это достигается умелым оперированием определенной (лживой по замыслу) системой слов (ср. современный метод нейролингвистического
программирования) и жестокой изоляции людей от других "систем". Учитывая то, что людям психологически свойственно сверять свои действия с "эталоном", оказывается довольно легко обратить их средствами языка к нужному общественному идеалу.Идеологизированный язык изменяет значение слов, частоту их употребления, и все это - слова, группы слов, языковые конструкции - ставится на службу властям и превращает речь в мощное средство воздействия.59. Л. 89.
Список научной литературыМусорина, Ольга Александровна, диссертация по теме "Отечественная история"
1.: например, Трудовая правда. 1931. 1 мая.
2. Трудовая правда. №5. 7 января 1930 г.
3. Трудовая правда. №8. 10 января 1930 г.
4. Трудовая правда. №12. 15 января 1930 г.
5. Трудовая правда. №13.16 января 1930 г.
6. Трудовая правда. №16. 19 января 1930 г.
7. Трудовая правда. №17. 21 января 1930 г.
8. См.: Популярные песни и романсы. М., 1995. С. 234,237,239.
9. Красота, распятая на кресте. Из записных книжек Ефима Честнякова. // Родина. № 4. 1991. С. 63.Сорокин П.А. Голод и идеология общества. // Квинтэссенция: Философский альманах. М., 1990. С. 376-377.
10. ГАПО. Ф. 1381. On. 1. Д. 11. Л. 17.
11. ГАПО. Ф. 36. On. 1. Д. 1728. Л. 158, 159.
12. ГАПО. Ф. 36. On. 1. Д. 1728. Л. 9.
13. ГАПО. Ф. 148. On. 1. Д. 580. Л.3-4.
14. ГАПО. Ф. 148. On. 1. Д. 585. Л. 4.
15. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 389. Л. 283.
16. Волжская коммуна. 1933. 12октября.
17. Волжская коммуна. 1933. 12октября.
18. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 345. Л. 25.
19. ГАПО. Ф. 246. On. 1. Д. 55. Л. 62.
20. Изба-читальня. 1931. № 25. С. 29.
21. ГАПО. Ф. 148. On. 1. Д. 307. Л. 47.
22. См., например: Трудовая Правда. 1930. 27 июня, 17 июля, 14 августа; 1932. 14 сентября; 1933. 17 декабря.
23. Трудовая Правда. 1923. 13 июля.
24. ГАПО. Ф. 1381. On. 1. Д. 17. Л. 9, 18,27.
25. См.: Асоциальное поведение и психические отклонения. Под ред. А .С. Бурмистрова. СПб., 1997. 724 С.
26. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 395. Л. 45.
27. Сталинское знамя. 1939. 16 марта.
28. Немцова 3. Билет до Ленинграда. Воспоминания. // Огонек. 1988. № 27.
29. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 317. Л. 27, 41.
30. Трудовая правда. №83. 11 апреля 1930 г.
31. Против формализма и натурализма в искусстве. М., 1937.269 Правда. 1936. 9 апреля.
32. Рабочая Пенза. 1936.17 апреля.
33. О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов. М., 1972, С. 174.
34. ГАСО. Ф. 1141. Оп. 8. Д. 161. Л. 9-16.
35. Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т.39. С.5.
36. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.34. С. 93.
37. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 391.
38. См.: Олеша Ю. Встречи с Алексеем Толстым. М., 1991. С. 27.
39. ГАРФ. Ф. Р-395. Оп. 15. Д. 172. Л. 42; 57-61; 79.
40. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 285. Л. 47, 51.
41. Сарнов Б. Наш советский новояз. С.27.
42. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 195. Л. 21.
43. Зощенко М. Избранное. М., 1991. С. 327.
44. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 197. Л. 35,52,61.
45. ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 295. Л. 77, 83.
46. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 918. Л. 54-55.
47. Словарь русского языка. С. 419.
48. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. С. 218.
49. См., например: Прозаические жанры русского фольклора. М., 1983.
50. Новые песни. Сб. народных песен, сказаний. М. 1938. С. 14; Устные рассказы уральских рабочих. / Под ред. М. Г. Китайника. Свердловск, 1940. С. 12.
51. Например, рассказ Кропачевой Т.Т., 1922 г.р., жительницы села Ленино Пензенской области.
52. Клемперер В. Ук. соч. С. 217.
53. Гайдар А. Военная тайна. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. С. 227.
54. Записано мною со слов Артамоновой Т.А., 1920 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул. Мебельная, д. 17, кв. 3.3,8 Записано мной со слов Кропачевой Г.И., 1922 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул.Кулакова, 11а, кв. 6.
55. Записано мною со слов Кузнецова П.И., 1918г.р., проживающего по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 171 кв. 28.
56. См.: Годин B.C. Улицы Пензы. Пенза, 1983.
57. ГАРФ. Ф. А-299. On. 1. Д. 21. Л. 145-147.325 Смычка. 1934 г. 17 июля.
58. Левицкий С.А. Избранные труды. В 2-х тт. Т. 1. С. 127.
59. Гитлер А. Моя борьба. М. Б.г. С. 27.
60. Красота, распятая на кресте. Из записных книжек Ефима Честнякова. // Родина. № 4. 1991.С. 63.■■ 333 ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 210. Л. 220.
61. Сталин И.В. Соч. Т.12. С. 369.
62. Кирпотин С. Наследие Пушкина. // Огонек. 1930. 30 января. С. 1.
63. Кирпотин С. Там же. С. 1-2.
64. С. Николаев. Народная тропа. // Огонек. 1930. 1 января. С. 19.
65. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1971. С. 137.
66. Горбатов Б. Мое поколение. Куйбышев, 1937. С. 24 — 27, 31.
67. Мазилина С.Г. Долгая, долгая революция. Керчь, 1993. С. 217.
68. ГАСО. Ф. Р-534. Оп. 5. Д. 9. Л. 173; ГАПО. Ф. 37. On. 1. Д. 210. Л. 220.
69. Цит. по: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001. С. 210-211.
70. Цит. по: Фицпатрик Ш. Ук. соч. С. 212-213.
71. Цит. по: Intimacy and Terror. Soviet Diaries of 1930s. Ed. V. Garros. N. Korenevskaya / T. Lahusen. P. 139.
72. Цит. по: Фицпатрик Ш. Ук. соч. С. 213.
73. ГАРФ. Ф. А-299. On. 1. Д. 21. Л. 145-147.
74. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 277.
75. См.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. С. 315-316.366 Правда. 1935. 18 января.
76. Багрицкий Э. Избранное. М., 1967. С. 328.
77. Известия. 1933. 17 декабря.
78. Коган П. Избранное. М., 1997. С. 277.
79. Райкин А. Воспоминания. М., 1994. С. 217.373 Правда. 1936. 22 июня.
80. Творчество. 1937. № 11-12.
81. Сарнов Б. Ук. соч. С. 283. Подтверждается рассказом Артамоновой Т.А., 1920 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул. Мебельная, д. 17, кв. 3.
82. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002. С. 155.
83. Осокина Е Люди и власть в условиях кризиса снабжения 1939-1941 гг. // Отечественная история. 1995. № 3. С. 16-32.
84. Крокодил. 1933. № 13. С. 4-5; 1934. № 126. С. 10.
85. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 24. Л. 48-49.
86. Эткинд Е. Записки незаговорщика. М., 1998. С. 37.
87. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002. С. 497.
88. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001. С. 60.
89. Александрович А. Искусство плаката. М., Арт. 1997. С. 217.
90. Записано мною со слов Артамоновой Т.А., 1920 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул. Мебельная, д. 17, кв. 3.
91. См.: Чуковский К. Чукоккала. Рукописный альманах. М., 1999. С. 301.
92. Записано мною со слов Мироновой Н.А., 1922 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул. Экспериментальная, д. 44, кв. 37.
93. Записано мною со слов Артамоновой Т.А., 1920 г.р., проживающей по адресу: Пенза, ул. Мебельная, д. 17, кв. 3.
94. Записано мною со слов Малашиной М.С., 1923 г.р., проживающей по адресу: Пензенский район, село Поперечное.
95. ГАПО. Ф. 36. On. 1. Д. 1674. Л. 570-580; Д. 1244. Л. 194; Д. 1552. Л. 32; Ф. 440. On. 1. Д. 59. Л. 89.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1.АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
96. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ИЗДАНИЯ 1920-1930-Х ГГ.
97. Альтман И. Из биографии "живого человека". // Литература и искусство. 1931. № 1.
98. Азарова Е.С. Наш опыт агитационно-массовой работы на заводе. М., 1942.
99. Анекдоты для рассказчиков и слушателей. / Сост. С.М. Карданский. М., Терра. 1994.
100. Бакушинский Д. Русская народная игрушка. М., 1929.
101. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. / Под ред. М. Горького и др. М., 1934.
102. Бубнов А.С. Статьи и речи о народном образовании. М., 1959.
103. Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1988. Ю.Бухарин Н.И. Судьбы современной интеллигенции. М., 1925.
104. Бухарин Н.И. Памяти Ильича. // Избранные произведения. М., 1988.
105. Войтоловский Л.Н. Очерки коллективной психологии. Ч. 1. Пг. Госиздат. 1924. 187 с.
106. Вышинский А.Я. Революционная законность на современном этапе. М., 1933.
107. Вичура А, Жукелье И. Психическая зараза. М., Медицинское общество. 1912. 207 с.
108. Вьюнов Г. Сила наглядной агитации. Пенза. 1942.
109. Голос народа. Письма и отклики советских граждан о событиях 19181932 гг. М., 1998.
110. Героини социалистического труда. М., 1936.
111. Два года развернутого социалистического строительства. Пенза, 1930.
112. Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании. Сб. документов за 1917-1947 гг. М. — Л.,. 1947. Вып. 2.
113. Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. М., 1957.
114. Задачи агитации, пропаганды, культурного строительства. М. Л., 1928. 22.3а культплан 1931 г. М.- Самара, 1931.
115. Иванов A.M., Якубинский Л.П. Очерки по языку. М., 1932 197 с.
116. Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. М., 1993.
117. История ВКП(б). Краткий курс. М., 1950.
118. История советской радиожурналистики 1917-1945. Документы. Тексты. Воспоминания. М., 1991.
119. История ВКП(б). Краткий курс. М., Госполитиздат. 1945.
120. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. в СССР. Сводный том. М., 1969.
121. Ильинский И. Общественность и болезни быта. М., 1928.
122. Канун и начало войны: Документы и материалы. Л., 1991.31 .Калинин М.И. Что дала Советская власть трудящимся? М., 1937. 32 с.
123. Калинин М.И. О коммунистическом воспитании. Доклад на собрании партийного актива г. Москвы 2 октября 1940 г. // О коммунистическом воспитании. Изд. 3-е. М., 1947. С. 69-90.
124. Калинин М.И. О моральном облике нашего народа. // Там же. С. 216249.
125. Калинин М.И. Речь на вечере, посвященном чествованию учителей-орденоносцев сельских школ, 8 июля 1939 г. // Там же. С. 48-52.
126. К двадцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Сб. М., 1937.
127. Кольман Э. Вредительство в науке. // Большевик. 1931. № 9-10.
128. Коммунизм и вопросы развития духовной жизни общества. Ростов- на-Дону, Областное книжное издательство. 1970. 287 с.
129. Каманин О.С., Сорвилин С.Г. Анекдот: вчера и сегодня. М., Соты. 1993.
130. Кастальский К.Ю. Смех и слезы: неверные мужья и дураки-чиновники. СПб., 1995.
131. Куйбышевская область. Куйбышев, 1987.41."Литературный фронт". История политической цензуры 1932 — 1946 гг. Сборник документов. М., 1994.
132. Культурное строительство РСФСР. Статистический сборник. М., 1958.
133. Культурная жизнь в СССР 1928-1941. Хроника. М., 1976.
134. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 1-2. М., 1970.
135. Крестьяне о писателях. Сост. Д. Топоров. М., 1976.
136. Крупская Н.К. Для чего нам нужна грамота? М., 1929.
137. Лафарг П. Язык и революция. М., 1930.
138. Ленин В.И. Неизвестные документы. 1891-1922. М., 1999.
139. Ленин В.И. Речь на широкой Рабоче-Красноармейской конференции в Рогожско-Симоновском районе 13 мая 1920 г. Газетный отчет. Полн. собр. соч. Т. 41.
140. Литература факта. М., 1929.
141. Луначарский А.В. О народном образовании. М., 1976.
142. Лихачев Д.С. Черты первобытного примитивизма воровской речи. // Язык и мышление. М.- Л., 1935. Т. 111.
143. Максимов А.А. О философских воззрениях академика В. Ф. Миткевича и о путях развития советской физики. // Под знаменем марксизма. 1937. №7. С. 25-29.
144. Материалы февральско мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. 1994. №8.
145. Материалы к отчету окружного комитета и окружной контрольной комиссии ВКП(б) 2 окружной партконференции. Пенза, 1930.
146. Народное хозяйство СССР. Статистический сборник. М., 1956.
147. Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1971.
148. Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917-1953 гг. М., 1974.
149. Наследники Геббельса в прессе ФРГ. Документы и факты. М., 1963.
150. Новые песни. Сб. народных песен, сказаний. М., 1938. С. 14.
151. Пензенская область за 40 лет Советской власти. 1917 1957. Пенза, 1957.
152. Пензенская область за 50 лет Советской власти. Статистический сборник. Пенза, 1967.
153. Пензенская партийная организация в годы Великой Отечественной войны. Сб. документов и материалов. Саратов, 1964.
154. Первый Всесоюзный съезд советских писателей (стенографический отчет). М., 1934.
155. Печать СССР за 40 лет. 1917 — 1957. Статистические материалы. М., 1957.
156. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. М., 1931.
157. Постановления и материалы по вопросам пропаганды и агитации. Минск, 1945.
158. XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. M.-JL, 1928.
159. Письма И.В. Сталина В.М. Молотову. 1925 1936 гг. М., 1995.
160. Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934.
161. Прозаические жанры русского фольклора. М., Высшая школа. 1983. 304 с.
162. Против формализма и натурализма в искусстве. М., 1937.
163. Письма во власть. 1917-1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям. М., 1998.
164. Поливанов Е.Д. Избранное. М., 1991.
165. Рабочий класс СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 гт. Т.З.М., 1984.
166. Резолюция ноябрьского пленума крайкома и краевой контрольной комиссии ВКП(б). Самара, 1929.
167. Реабилитация: политические процессы 30-50-х гт. М., 1991.
168. Селищев A.M. Язык революционной эпохи. М., 1928. 107 с.
169. Советская печать в документах. М., 1961.
170. Советское искусство за 15 лет. М. — JI., 1933.
171. Советские писатели и журналисты о газетном труде. М., 1975.
172. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. 1912-1941 гг. // Неизвестная Россия. XX век. Вып. 4. М., 1993.
173. Справочник партийного работника. Вып. 7. M.-JL, 1930.Справочник партийного работника. Вып. 8. М., 1934.
174. Справочник к отчетному докладу горкома ВКП(б) на 6 Пензенской городской партконференции.
175. Сталин И.В. Сочинения в 13 тт. М., 1947.
176. Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. М., 1995.
177. Сталин И. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. М., 1937.
178. Сталин И.В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1955 . 56 с.
179. Стецкий А.И. Об институтах красной профессуры. // Большевик. 1935. № 23-24.
180. Судебный отчет: материалы военной коллегии Верховного Суда СССР. М., 1997.
181. Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991.
182. Тихомиров В.А. Промкооперация на современном этапе. М., 1931.
183. Устные рассказы уральских рабочих. / Под ред. М.Г. Китайника. Свердловск, 1940.
184. Чуковский К. Чукоккала. Рукописный альманах. М., 1999.
185. Шестнадцатая конференция ВКП(б). Стенографический отчет. М., 1932.
186. Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. М., 1995.
187. Шергин Б. У песенных рек. М., 1939.
188. Школа взрослых. 1939. № 4-5.
189. Ярославский Е.М. За боевую, доходчивую агитацию. Пенза, 1942.
190. Ярославский Е. 30 лет большевистской "Правды". М., 1942. л. п.
191. Якубинский Л.П. Язык пролетариата. М., 1935. 107 с.
192. Абашкина Е., Егорова Гантман Е., Косолапова Ю., Разворотнева С., Сиверцев М. Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политически лидером. Психологическое пособие для политиков. В 2-х тт. М., 1993.
193. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). Л., 1975.
194. Алпатов В; М. 150 языков и политика. М., 1997. 221 с.
195. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., Текст. 1993. 302 с.
196. Артемьева Е.Ю. Психология субъективной семантики. М., 1980. 319 с.
197. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М., 1996. 768 с.
198. Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. М., 1992.
199. Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х гт. под политическим контролем ЦК. М., 1994.
200. Барт Р. Избранные работы. М., 1994. 327 с.
201. Барт Р. Мифологии. М., 1996. Изд. им. Сабашниковых. 312 с.
202. Барт Р. Семиология как приключение. М., 1993.
203. Баранова Н.Б. Мифологизация массового сознания. М., 1996. 150 с.
204. Барулин B.C. Российский человек в XX веке. Потери и обретение себя. СПб., 2000.
205. Батракова С. Искусство и утопия. М., 1990. 317 с.
206. Бахтин М.М. Собр. Соч. М., 1996.
207. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
208. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990 190 с.
209. Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1990.
210. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
211. Белл Р. Социолингвистика. М., Прогресс. 1980. 227 с.
212. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., РГТУ. 2001. 439 с.
213. Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998. 321 с.
214. Боброва Е.Ю. Основы исторической психологии. СПб., 1997. 220 с.
215. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М., Изд. Моск. ун-та. 1991.125 с.
216. Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. М., 1966. 112 с.
217. Бордюгов Г.А., Борисов Ю.С., Ермаков В.Т. История советской культуры: теоретико-методологические и конкретно-исторические проблемы изучения. М., 1987.
218. Борисов Ю.С. Изучение истории советской культуры: литература первой половины 80-х гг. // Вопросы становления и развития советского общества в отечественной историографии. М., 1986.
219. Беда A.M. Культурно-исторические ритмы. М., 1995. 24 с.
220. Белая Г. Дон Кихоты 20-х годов: "Перевал" и судьба его идей. М., 1989.
221. Белый О. Тайны "подпольного человека". Художественное слово — обыденное сознание — семиотика власти. Киев, 1991.
222. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 1908.
223. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жкстов. СПб., 1997. 234 с.
224. Бродецкий А .Я. Внеречевое общение в жизни и искусстве. М., ВЛАДОС. 2000. 191 с.
225. Бланк А.С. Старый и новый фашизм. Политико-социологический очерк. М., Политиздат. 1982. 201 с.
226. Блонский П.П. Психология желания. М., 1965. 97 с.
227. Блюм А.В. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929-1953. М., 1993.
228. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 211 с.
229. Бударин В., Фокин Ю. Уроки прошлого и уроки грядущего. М., 1998. 412 с.
230. Вайнрих X. Лингвистика лжи. М., 1987. 312 с.
231. Вичев В. Мораль и социальная психика. М., 1978. 121 с.
232. Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. М., МГУ. 1982.
233. Веселов А.Я. Борьба Коммунистической партии за проведение культурной революции в деревне в годы коллективизации. Л., 1978.
234. Виноградов В.В. Великий русский язык. М., 1945.
235. Виноградов В.В. История слов. М., 1994.
236. Войтасик Л. Психология политической пропаганды. М., 1981.
237. Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. В 2-х тт. М., 1989.
238. Взгляды М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, JI.H. Юровского и современность. (Сборник обзоров). М., 1999.
239. Введение в практическую социальную психологию. Под ред. Ю.М. Жукова. М., Смысл. 1999. 377 с.
240. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М., 1996.
241. Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны (1938-1941). М., 1970.
242. Гаджиев К.С. Политическая наука. М. 1994.
243. Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. Н-Й., 1985.
244. Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М., 1991. 278 с.
245. Глезер В.Д. Зрение и мышление. Л., Наука. 1985. 197 с.
246. Годин B.C. Улицы Пензы. Пенза, 1983. 135 с.
247. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону, 1996. 412 с.
248. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980. 238с.
249. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.
250. Голосовкер Н.Э. Логика мифа. М., 1987.
251. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было?: размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40 е годы. М., 1989.
252. Государственные языки в Российской Федерации. М., 1995.
253. Трешневиков А. Информационная война. М., 1999.
254. Гриняев С.Н. Интеллектуальное противодействие информационному оружию. М., 1999.
255. Григорьев Н.Я. История нашего комбината. Пенза, 1974.
256. Громыко М.М. Семья и община в традиционной духовной культуре русских крестьян. М., 1998.
257. Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987.
258. Герцштейн Р.Э. Война, которую выиграл Гитлер. Смоленск, 1996.
259. Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998.177. Газетные жанры. М., 1975.
260. Гуревич А .Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., Наука. 1981.234 с.
261. Дайч З.Г. Школьная политика в СССР: уроки партийно-государственного руководства; перспективы развития. М., 1991.
262. Дилигенский Г.П. Социально-политическая психология. М., 1996.
263. Джерелиевская М.А. Установки коммуникативного поведения. М., Смысл. 2000. 190 с.
264. Дмитриева Т.Б. Характер: русский. М., 2001.
265. Доценко Е.П. Психология манипуляции. М., 1996.
266. Добренко Е. Искусство принадлежать народу. // Новый мир. 1992. №10.
267. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. М., 1980.
268. Дмитриевский В. Плюрализм. Это сколько? // Театр. 1989. № 9.
269. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. СПб., Питер. 2001.321 с.
270. Ерастов Н.П. Психология общения. Ярославль, 1979. 211 с.
271. Еремина В.И. Ритуал и фольклор. Л., Наука. 1991. 206 с.
272. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М., 1992. 312 с.
273. Жаткин Д. История средств массовой информации Пензенского края. Учебное пособие. Пенза, 1998.
274. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991.
275. Журавлев В.К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982. 197 с.
276. Жухрай В. Сталин: правда и ложь. М., 1996.
277. Зак JI.M. Строительство социалистической культуры в СССР (19331937). М., 1966.
278. Звезда и свастика. Большевизм и русский фашизм. М., 1994.
279. Зевелев А.И. Истоки сталинизма. М., 1990.
280. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб., Изд. "Питер". 2000. 417 с.
281. Знаков В.В. правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания. М., Ин-т психологии РАН. 1993. 116 с.
282. Зяблюк H.F. Индустрия управляемой информации. М., 1971. 312 с.
283. Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
284. Изменения социальной структуры советского общества: 1921 — середина 30-х гг. М., 1979.
285. Измозик B.C. Глаза и уши режима. Государственный политический контроль за населением советской России в 1918-1921 гг. СПб., 1995.
286. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2000.
287. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996.
288. Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П.П. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. М., 1990.
289. Исаев М.И. Языковое строительство в СССР. М., 1979.
290. История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежный опыт в обзорах и рефератах. М., 1996.
291. История социалистических идей и стереотип массового сознания. М., ИНИОН. 1990.
292. История советского кино. М., 1973.
293. Исключить всякие упоминания. Очерки истории советской цензуры. М., 1995.
294. Информационная война в Чечне. М., 1997.
295. Интеллигенция и революция. XX век. М., 1985.
296. Кара-Мурза С. Г. Истмат и проблема Восток-Запад. М., 2002.
297. Кара Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002.
298. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием в России сегодня. М., 2001.
299. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2002.
300. Кара-Мурза С. Г. Краткий курс манипуляции сознанием. М., Алгоритм. 2002. 287 с.
301. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
302. Кашеваров А.Н. Государство и церковь: Из истории взаимоотношений советской власти и Русской православной церкви 1917 — 1945 гг. СПб., 1995.
303. Клаус Г. Сила слова. М., Прогресс. 1967. 227 с.
304. Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.
305. Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., Наука. 1983. 403 с.
306. Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. 407 с.
307. Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. 593 с.
308. Кривцун Л.В. Актуальные проблемы региональных историко-партийных исследований процесса культурной революции в СССР. -Свердловск, 1983.
309. Кривцун Л.В. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению культурной революции в СССР в годы довоенных пятилеток. М., 1981.
310. Кожинов В. Россия. Век XX. (1939-1964). М., 2002.
311. Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М., 1996. 223 с.
312. Козлов В.А., Хлевнюк О.В. Стахановское движение: время и люди. М., Знание. 1984. 127 с.
313. Козин Н.Г. бегство от России. К логике исторических потрясений в России в XX в. Самара, 1996. 211 с.
314. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994. 207 с.
315. Купина Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург Пермь, 1995.
316. Крысин Л.П. Язык в современном обществе. М., 1977.
317. Крысько В.Г. Секреты психологической войны. Цели, задачи, методы, формы, опыт. Минск, 1999.
318. Курашвили Б.П. Историческая логика сталинизма. М., 1996.
319. Куликов В.Ф. Психология настроения. СПб., 1997. 237 с.
320. Куманев В.А. Социализм и всенародная грамотность. М., 1967.
321. Куманев В.А. Революция и просвещение масс. М., 1973.
322. Кун Т.С. Структура научных революций. М., 1997. 221 с.
323. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. Избранные работы. М., 1977.
324. Личко А.Е. и др. К вопросу о соотношении между конформностью и внушаемостью. Л., 1970.
325. Литературный язык и культурная традиция. М., 1994. 217 с.
326. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1995. Т. 1.
327. Левада Ю.А. Советский простой человек. М., 1993. 287 с.
328. Левицкий С.А. Трагедия свободы. Сочинения. В 2-х тт. М., 1995.
329. Леви-Стросс К. Структура мифов. М., 1998.
330. Левенфельд Л. Гипноз и его техника. Житомир, 1977.
331. Левин К. Намерение, воля, потребность. М., 1970. 187 с.
332. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М., 1964. 234 с.
333. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Глобальная империя зла. Великое противостояние. М., Форум. 2001. 451 с.
334. Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая) война. М., Эксмо. 2003. 448 с.
335. Лоренц К. Агрессия. М., 1994. 197 с.
336. Лотман Ю.П. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-атмосфера-история. М., 1996.
337. Лотман Ю.П. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн, 1973.
338. Майерс Д. Социальная психология. СПб, 1997.
339. Марьямов Г. Кремлевский цензор: Сталин смотрит кино. М., 1992. 128с.
340. Максакова Л.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1977.
341. Массовое сознание и массовые действия. М., 1994.
342. Мельник Г.С. Масс-медиа: психологические процессы и эффекты. СПб., 1996.
343. Мечковская Н.Б. Язык и религия. М., 1998.
344. Михальская А.К. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике. М., 1996.
345. Михайлов В.Ф. Загадка человеческого "Я". М., 1976. 127 с.
346. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1994. 207 с.
347. Михальская O.K. Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике. М., 1996. 298 с.
348. Митяева О.И. Коммунистическая партия руководитель культурного роста крестьянства в годы коллективизации. М., 1978.
349. Можаев Б. Надо ли вспоминать старое? М., 1988.
350. Морозов А.И. Конец утопии: из истории искусства в СССР 30-х гг. М., 1995.
351. Московичи С. Век толп. М., 1996.
352. Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.
353. Моррис Ч. Семиотика. Языковой анализ. М., 1993. 273 с.
354. Насилие, агрессия, жестокость. Сб. научных трудов. М., 1990.
355. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 1996.
356. Неизвестная Россия. XX век. Т. 1 4. М., 1992-1993.
357. Николаева Т.М. Лингвистическая демагогия. М., 1998.
358. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1974.
359. Оболонский А.В. Драма российской политической истории. Система против личности. М., 1994.
360. Обозов Н.Н. Психология внушения и конформность. СПб., 1997. 201 с.
361. Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. М., 1999.
362. Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001.
363. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике. М., Принт-Ди. 1995.234 с.
364. О.Коннор Т.Э. Анатолий Луначарский и советская политика в области культуры. М., 1995.
365. Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения 1928-1935 гг. М., 1993. 297 с.
366. Очерки истории идеологической деятельности КПСС. 1938-1961. М., 1986.
367. Очерки истории Пензенской организации КПСС. Пенза, 1977.
368. Очерки истории советского кино. Т. 1-2. М., 1956, 1959.
369. Пайпс Р. Россия при большевиках. М., РОССПЭН, 1997.
370. Панарин А. С. Введение в политологию. М., 1994.
371. Паперный В. Культура "Два". Ardis / Ann Arbor. 1985.
372. Панкин Б. Четыре "я" Константина Симонова. М., 1999.
373. Парыгин Б.Д. Общественное настроение. М., 1966.
374. Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии. Немецкая политическая традиция и нацизм. СПб., 1997.
375. Попов С.И. Социализм и оптимизм. М., 1981.
376. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
377. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966.
378. Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917-1992). М., 1993.
379. Почепцов Г.Г. Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. Киев, 1994.
380. Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода. Киев, 1996.
381. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. Киев, 1997.
382. Почепцов Г.Г. История русской семиотики. М., Лабиринт. 1998. 327 с.
383. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания. М., 1997. 213 с.
384. Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российскиъх реформ и революций. М., 2000.
385. Прихожев А.А., Турко Н.И. Основы информационной войны. М., 1997.
386. Проблемы речевого воздействия на аудиторию в зарубежной социально-психологической литературе. Под ред. Б.М. Фирсова. Л., 1973.
387. Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны. М., Синтег. 199.312 с.
388. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М., 1994. 680 е.
389. Пиз Л. Язык телодвижений. Н.-Новгород, 1997. 314 с.
390. Психология и психоанализ власти. Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара, БАХРАХ. 1999. 607 с.
391. Пятигорский A.M. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М., 1996. 517 с.
392. Разворотнева С.В. Язык власти, власть языка. М., 2001. 267 с.
393. Расторгуев С.П. Информационная война. М., 1998. 312 с.
394. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., Высшая школа. 1977. 316 с.
395. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. Сб. науч. трудов под ред. Серебренникова Б.А. М., 1988. 412 с.
396. Россия у критической черты: возрождение или катастрофа. М., 1997. 412 с.
397. Российская историческая политология. Под ред. С.А. Кислицына. Ростов-на Дону, Феникс. 1998. 602 с.
398. Рощин С.К. Психология и журналистика. М., 1989.
399. Русские: семейный и общественный быт. М., 1989.
400. Русский язык и советское общество. В 4-х книгах. Под ред. М.В. Панова. М., 1968.
401. Самойлов Э.В. Фюреры. Общая теория фашизма. Кн.1-3. М., 1992.
402. Современная политическая мифология. М., 1996. 301 с.
403. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994.
404. Сорокин П. Система социологии. М., 1991.
405. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., Политиздат. 1992. 543 с.
406. Советские писатели и журналисты о газетном труде. М., 1975.
407. Советская культура в реконструктивный период. 1928-1941 гг. М.,1988.
408. Сенявская Е.С. 1941 1945. Фронтовое поколение: историко-психологическое исследование. М., 1996.
409. Самсонов Р. Социальная психика и идеология. Ереван, 1970.
410. Снегов С. Язык, который ненавидит. М., 1991. 157 с.
411. Средства массовой информации в социалистическом обществе. М.,1989.
412. Советская культура в реконструктивный период. 1928-1941. М., 1988.
413. Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993.
414. Соломоник А. Язык как знаковая система. М., Наука. 1992. 223 с.
415. Сопер П. Основы культуры речи. Ростов-на-Дону, 1995. 201 с.
416. Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 1907.
417. Синятников А.И. Основа взлета: к советской истории тридцатых годов". М., 2000.
418. Такер Р. Сталин: Путь к власти. 1879-1929. История и личность. М., 1991.497 с.
419. Теория и практика риторики массовой коммуникации. М., 1989.
420. Теория государства и права. Под ред. Карельского В.М., Привалова В.Д. М, 1997.
421. Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
422. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
423. Тихообразов К.И. Подвигами славны твои земляки. Пенза, 1969.
424. Типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития типологической структуры современной периодики. М., 1995.
425. Типологические исследования по фольклору. М., 1975.
426. Типология и теория языка: от описания к объяснению. М., 1999. 297 с.
427. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999.
428. Творцы грядущего. Пенза, 1968.
429. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. СПб., 1997.314 с.
430. Ушакова Т.Н. И др. Ведение политических дискуссий. Психологический анализ конфликтных выступлений. М., 1995. 298 с.
431. Фомичева И.Д. Печать, телевидение и радио в жизни советского человека. М., 1987.
432. Фомиченко Л.Г. Когнитивная модель просодических интерферируемых систем. Волгоград, 1996. 137 с.
433. Федотов М.А. Советы и пресса. М., 1987.
434. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30- е годы: деревня. М., 2001.
435. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2001.
436. Фрейд 3. Массовая психология и анализ человеческого "я". М., 1993. 198 с.
437. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994. 512 с.
438. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 312 с.
439. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.297 с.
440. Фромм Э. Ради любви к жизни. М., 2000.312 с.
441. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1998. 414 с.
442. Функциональная стратификация языка. М., 1985. 227 с.
443. Фролов Б.А. Эстетические основания культуры. Пенза, ПГСА, 2002. 160 с.
444. Харман Г. Современный факторный анализ. М. 1972. 412 с.
445. Хлевнюк О.В. 1937: Сталин, НКВД и советское общество. М. 1992.
446. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е гг. М., 1996.312 с.
447. Хьелл JL, Зиглер Д. Теории личности. СПб., Питер. 2000. 412 с.
448. Чамкина М. Художественная открытка. М., 1993.
449. Человек: образ и сущность. Перцепция страха: Ежегодник. 2. М., ИНИОН АН СССР. 1991.
450. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., 1971.
451. Чунаков А.В. Коммунистическая партия в борьбе за культурное строительство деревни (1927-1937). М., 1981.
452. Шамбаров В. Государство и революция. М., 2002. 417 с.
453. Шарошкин Н.А. Промышленность и рабочие Поволжья в 1920-е годы -Пенза, 1997.
454. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория. Проблемы. Методы. М., 1976.
455. Шешуков С. Неистовые ревнители: из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1984.
456. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком. Москва — Минск, 2000. 414 с.
457. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. М., 1973.
458. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовой коммуникации. М., 1973.
459. Шишкин В.Ф. Так складывалась революционная мораль: исторический очерк. М., 1967.
460. Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997.
461. Щербинина Н.Г. Политический миф России. Томск, Пеленг. 1997. 127с.
462. Щербинина Н. Героический миф тоталитарной России. Томск, Позитив. 1998. 177 с.
463. Экман П. Психология лжи. СПб., 2000.
464. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
465. Этнические стереотипы поведения. Л., 1985.
466. Юнг К.Г. Диагностируя политиков. СПб., 1996.
467. Юнг К.Г. Собр. соч. Психология бессознательного. М., 1994.
468. Юнг К Г. Архетип и символ. М., 1991. 387 с.
469. Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Психология обмана. СПб., Атон. 1999. 301 с.
470. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения людей. М., 1975. 215 с.
471. Ядов В.А., Здравомыслов А.Г. Человек и его работа: социологические исследования. М., 1967. 312 с.
472. Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
473. Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990. 207 с.
474. Язык и общество. Л., 1968. 277 с.
475. Языковая норма. Типология нормализационных процессов. Отв. ред. В .Я. Порхомовский. М., 1996. 247 с.
476. Clark Т. Art and Propaganda in the Twentieth Century. N.Y., 1997.
477. Friedrich C. J. and Brzeinski Z. K. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, 1986.
478. Fitzpatrick S. After NEP: The Fate of NEP Entrepreneurs, Small Traders, and Artisans in the "Socialist Russia" of the 1930s // Russian History. 1986 Vol. 13. №2-3
479. Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917-1921. Cambridge, 1970.
480. Fitzpatrick S. The cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992.
481. Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the soviet Union, 19211934. Cambridge, 1979.
482. Fitzpatrick S. How the Mice Buried the Cat: scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces. // Russian Review. 1993. Vol. 52.
483. Fitzpatrick S. Lives under Fire. Autobiographical Narratives and Their Challenges in stalin's Russia. // De Russie et d'ailleurs. Melanges Marc Ferro. Paris, 1995.
484. Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s. // Slavic review. 1996. Vol. 55. №1.
485. Intimacy and Terror. Soviet Diaries of 1930s. Ed. V. Garros. N. Korenevskaya / T. Lahusen.
486. Jowett G. S., O' Donell. Propaganda and Persuasion. Newberry Park, 1992.
487. Kriegspropaganda 1939-1941 Stuttgart, 1966.
488. Mumford L. The Myth of the Machine. N.Y., 1967.
489. Taylor P.M. Munition of the Mind. A History of Propaganda from the Ancient World to the Present Day. N.Y., 1995.
490. Taylor P. M. Paper Bullets or Magic Bullet? Leeds, 1999.V СТАТЬИ, МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
491. Адаскина Н. 30-е годы: контрасты и парадоксы советской художественной культуры. // Советское искусствознание—25. М., 1989.
492. Алленов М.К вопросу о структуре понятия "соцреализм". // Искусство. 1988. № 10.
493. Араловец Н.Д. Потери населения советского общества в 1930-е годы:проблемы, источники, методы изучения в советской историографии. // Отечественная история. 1995. № 1.
494. Аверинцев С. Праздник слез. Поэтический мир Отечества. // Родина № 3. 1990. С. 93 -96.
495. Арендт X. Массы и тоталитаризм. // Вопросы социологии. 1992. №3.
496. Балахонский В.В. Провинциальная культура и объяснение событий российской истории // Российская провинция XVIII XX веков: реалии культурной жизни. Материалы III Всероссийской научной конференции (Пенза. 25-29 июня 1995г.). Пенза, 1996. Кн.2. С.227-228.
497. Беда A.M., Михайлова Н.В. Системный подход к построению курса "Культурология". // Культурология. Научно-образовательный сборник. М., 1997. №2-3. С. 99-116.
498. Бочаров А. Мчатся мифы, бьются мифы. // Октябрь, 1990, № 1
499. Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны. // Вопросы языкознания. 1993. № 4.
500. Волкогонов Д.А. Морально — политический фактор Великой Победы. // Вопросы философии. 1975. №3.
501. Воловик А.Ф., Невельский П.Б. Условия непроизвольного запоминания элементов наглядной агитации. // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М., 1972.
502. II Всероссийская научно-практическая конференция "Современные проблемы экономической психологии и этики делового общения в трудовой, управленческой и предпринимательской деятельности". Материалы конференции. СПб., 1999.
503. Байрау Д. Интеллигенция и власть: советский опыт. // Отечественная история, 1994. №2.
504. Барт Р. Основы семиологии. // Структурализм: за и против. М., 1975.
505. Барт Р. Система моды. // Структурализм: за и против. М., 1975.
506. Баткин JI. Сон разума. // Знание сила. 1989. № 3.
507. Байрау Д. Интеллигенция и власть: советский опыт. // Отечественная история, 1994. №2.
508. Бовина И.Б. О феномене "группового духа". // Вестник МГУ Сер "Психология". 1998. №1.
509. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. М., 1987.
510. Бордюгов Г.Д. Некоторые особенности формирования новой культуры быта в годы довоенных пятилеток. //Советская культура. 70 лет развития (К 80-летию академика М. И. Кима). М.,1987.
511. Бордюгов Г.Д., Козлов В. Время трудных вопросов. История 20-30-х годов и современная общественная мысль. // Правда. 1988. 3 октября.
512. Вайскопф М. Рождение культа. Ленин как мифологический тип. // Балтийское время. 1990. 27 ноября.
513. Волкогонов Д.А. Морально — политический фактор Великой Победы. // Вопросы философии. 1975. №3.
514. Воловик А.Ф., Невельский П.Б. Условия непроизвольного запоминания элементов наглядной агитации. // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М., 1972.
515. II Всероссийская научно-практическая конференция "Современные проблемы экономической психологии и этики делового общения в трудовой, управленческой и предпринимательской деятельности". Материалы конференции. СПб., 1999.
516. Винер Н. Информация, язык и общество. // Техника молодежи. 1994: №12. С. 12-18.
517. Гефтер М. Апология слабого человека. // Российская провинция. 1994. №5.
518. Голубев А.В. Запад глазами советского общества. Основные тенденции формирования внешнеполитических стереотипов в 30-х годах. // Отечественная история. № 1.
519. Голубев А.В. Россия, век XX. // Отечественная история. 1997. №5.
520. Гозман Л.Я. Психология в политике — от объяснений к воздействию. //Введение в практическую социальную психологию. М., 1999.
521. Гордон А.В. Тип хозяйствования образ жизни — личность. // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993.
522. Гройс Б. Соцреализм — авангард по-сталински. // Декоративное искусство СССР. 1990. №5;
523. Гройс Б.В поисках утраченной эстетической власти. // Советское искусствознание-27. М., 1991.
524. Гройс Б. Стиль — Сталин. / Утопия и обмен. М., 1993.
525. Гулыга А. Пути мифотворчества и пути искусства. // Новый мир. 1969. №5.
526. Добренко Е. Грамматика боя язык батарей: литература войны как литература войны. // Волга. 1993. № 10.
527. Добренко Е. Левой! Левой! Левой!. Метаморфозы революционной культуры. // Новый мир. 1992. № 3.
528. Добренко Е. Преодоление социологии. Заметки о соц-арте. // Волга. 1990. № 1.
529. Добренко Е. Стой, кто идет? У истоков советского манихейства. // Знамя. 1993. № 3.
530. Добротворская К. "Цирк" Г. В. Александрова. К проблеме культурно-мифологических аналогий. // Искусство кино. 1995. № 11.
531. Добкин А.И. Лишенцы.// Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М. -СПб., 1992.
532. Дрепа Г.Н. Мифы тоталитарного сознания: Опыт социально-психологического анализа. // Российское сознание: Психология, феноменология, культура. Самара, 1994.
533. Дубов И.Г., Пантелеев С.Р. Восприятие личности политического лидера. // Психологический журнал. 1992. № 6. С. 25 -33.
534. Евгеньева Т.В. Социально-психологические основы формирования политической мифологии. // Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования. М., 1996.
535. Журавлев В. Об истоках и результатах конфликтности российского исторического процесса. Материалы шестой сессии международного симпозиума "Куда идет Россия?" (Москва, 15-16 января 1999г.). // Отечественная история. 1999. № 6.
536. Журавлев В.К. История языка и диахроническая социолингвистика. // Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
537. Замятин Е. Советские дети. // Литературная учеба. 1990. Кн. 3.
538. Звегинцев В.А. Социальное и лингвистическое в социолингвистике. // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. М., 1982. Вып. 3.
539. Земская Е.А. О типических особенностях речи русских эмигрантов первой волны и их потомков. // Известия РАН. Серия лит. и яз. М., 1998. Вып. 4.
540. Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского человека. // Отечественная история. 1998. №4.
541. Иванников В.А. Формирование побуждения к действию. // Вопросы психологии. 1985. № 3.
542. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание в начале 30-х годов. // Кооперативный план: иллюзии и действительность. М., 1995.
543. Измозик B.C. Перлюстрация в первые годы советской власти. // Вопросы истории. 1995. №8.
544. Ионов И.Н. Мифы в политической истории России. // По лития. М., 1999. № 1 (11).
545. Кавторадзе С. Хронотоп культуры сталинизма. // Архитектура и строительство Москвы. 1990. №11-12.
546. Кассирер Э. Техника современных политических мифов. // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 1990. № 2. С. 51-61.
547. Кирьянов Ю.И. Об облике рабочего класса России. // Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1970.
548. Кирьянов Ю.И. Менталитет рабочих России на рубеже XIX XX веков. // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 — февраль 1917 г. СПб., 1997.
549. Клямкин И. Почему трудно говорить правду. // Новый мир, 1989, №2,
550. Кожурин B.C. Вождь генералиссимус: к эволюции образа харизматической власти. // Отечественная история. 1995. №3.
551. Козлова Н. Н. Заложники слова. // Социологические исследования. 1995. № 10.
552. Конквест Р. Большой террор. // Нева. 1989. № 10.
553. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1960.
554. Куприянов А.И. Историческая антропология в России: проблемы становления // Отечественная история. №3.
555. Кулешова Н.Ю. "Большой день": грядущая война в литературе 30-х гг. // Отечественная история. №1.
556. Куманев В.А. Некоторые вопросы историографии культурной революции в СССР. // Очерки по историографии советского общества. М., 1965.
557. Куромия X. Сталинская "революция сверху" и народ. // Свободная мысль. 1992. №2.
558. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте. // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975.
559. Лотман Ю.М. Феномен культуры. Семиотика культуры // Ученые записки Тартусского университета. Вып. 463. Тарту, 1978.
560. Литературные произведения как исторический источник. // Отечественная история. 2002. №1.
561. Лапицкий М.И. Взаимоотношения масс и власти. // США. 1998. № 4
562. Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение. Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997. 478 с.
563. Лурье С.В. Как погибла русская община. // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993.
564. Манхейм К. Идеология и утопия. // Диагноз нашего времени. М., 1994.
565. Михайлов Н.В. Самоорганизация трудовых коллективов и психология российских рабочих в начале XX в. // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 — февраль 1917 г. СПб., 1997.
566. Надточий Э. Друк, товарищ и Барт. Несколько предварительных замечаний к вопрошению о месте социалистического реализма в искусстве XX века // Даугава, 1989. № 8.
567. Национальные интересы России и реальные приоритеты государственной политики за полтора века. "Круглый стол". О.Волобуев и В. Шелохаев. Очевидно ли очевидное? // Отечественная история. 1996. №6.
568. Нурулаев А.А. Мусульманская ума (сообщество) России — составная часть российской цивилизации // Российская цивилизация: (Этнокультурные и духовные аспекты). М., 1998.
569. Ольшанский Д.В. Социальная психология "винтиков". // Вопросы философии. 1989. №8.
570. Ольшанский Д.В. Слова, слова, слова. Массовые настроения переходного общества. // Литературное обозрение. 1989. № 8.
571. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. // Вопросы философии. 1989. № 4.
572. Осокина Е.А. Люди и власть в условиях кризиса снабжения. 19391941 гг.//Отечественная история. 1995. №3.
573. Осокина Е.А. Легенда о мешке с хлебом: кризис снабжения 1936/37 г. // Отечественная история. 1998. № 2. С. 92-107.
574. Павлова И.В. Современные западные историки о сталинской России 30-х гг. Критика "ревизионистского" подхода.// Отечественная история. 1998. №5. С. 107-121.
575. Платонов О. Экономика русской цивилизации. // Наш современник. 1994. №4.
576. Полищук Н.С. Обряд как социальное явление. // Советская этнография. 1991. № 6.
577. Перцовский В. Сквозь революцию как состояние души: заметки осоветской литературной истории. // Новый мир. 1992. № 3.
578. Петренко В.Ф., Собкин B.C., Нистратов А.А., Грачева А.В. Психосемантический анализ зрительского восприятия персонажей фильма. // Мотивационная регуляция поведения и деятельности личности. М., 1988.
579. Петренко В.Ф., Митина О.В. Семантическое пространство политических партий. // Психологический журнал. 1991. № Т. 11. № 6. С. 55-77.
580. Петренко В.Ф., Митина О.В. Писхосемантическое исследование политического менталитета. // Общественные науки и современность. 1994. № 6.
581. Петренко В.Ф., Сурманидзе Л.Д. Исследование стереотипов обыденного сознания. // Этнографическое обозрение. 1994. № 3.
582. Познание и его возможности: Тезисы международной научной конференциию М., Mill У. 1994.
583. Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки. // Отечественная история. 1995. №3.
584. Райх В. Массовая психология фашизма. // Архетип. 1995. №1.
585. Раппапорт А. К эстетике тоталитарных сред. // Декоративное искусство СССР. 1989. №11.
586. Раппапорт А. Мифологический субстрат советского художественного воображения. // Искусство кино. 1990. № 6.
587. Рассоха И. Н. Тезисы о тоталитаризме. // Политические исследования. 1995. №7.
588. Рейли Д.Дж. "Изъясняться по-большевистски", или как саратовские большевики изображали своих врагов". // Отечественная история, №5, 2001.
589. Розенталь С.И. Что и как "пропагандировать". // Советский музей. 1990. № 7.
590. Розин М., Давыдов Д. "Три кита" советской политической мифологии. //Даугава, 1990. №12.
591. Рощин С. К. Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней политики в свете западной политической психологии. // Взаимосвязь ивзаимовлияние внутренней и внешней политики. Ежегодник Советской ассоциации политических наук, 1980. М., 1982.
592. Редель А.И. Российский менталитет: от политико-идеологических спекуляций к социологическому дискуссу. // Соц-гуманитарные знания. 2000. №5.
593. Сталин. Сталинизм. Советское общество. Сб. ст. к 70-летию профессора В. С. Лельчука. М., 2000. 368 с.
594. Самохвалова В.И. Масскульт и маленький человек. // Философские науки. 2001.-№1.
595. Самохвалова В.И. Массовый человек — реальность современного информационного общества. // Материалы научной конференции "Проблема человека междисциплинарный подход". М., 1998. С. 57-64.
596. Сенявская Е.С. Героические символы: реальность и мифология войны. // Отечественная история. 1995. № 5.
597. Сенявская Е.С. Человек на войне: опыт историко-психологической характеристики российского комбатанта. // Отечественная история. 1995. №3.
598. Сикевич З.В. Национальное самосознание русских. // Русские: "образ" народа (Социологический очерк). СПб., 1996.
599. Соскин В.Л. Революция и культура. Историко-теоретический аспект. Новосибирск, 1994.
600. Сорокин П:А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии. // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990 .
601. Фадеева О.П. Историко-социологические исследования сельской жизни в России. // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996.
602. Файвишевский В.А. О существовании неосознанных негативных мотиваций и их проявлении в поведении. // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. 3. Тбилиси, 1978.
603. Фирсов Н.Н. Современные политические партии и архетипыколлективного бессознательного. // Современная политическая мифология: содержание и механизмы функционирования. М., 1996.
604. Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции. // ОНС.1998. №6.
605. Хевеши М.А. Политика и психология масс. // Вопросы философии.1999.-№12.
606. Хевеши М.А. Феномен "толпы" в трактовке философии XX в. // Философские науки. 1999, №1-2.
607. Хевеши М.А. Массовое общество в XX веке. // Социс. 2001, №7.
608. Хевеши М.А. Социально-психологические стереотипы, иллюзии, мифы и их воздействие на массы. // Философские науки. 2001. №2.
609. Хлевнюк О.В., Кошелева Л.П., Роговая Л.А. Трагедия нетерпимости. Письма в ЦК ВКП(б) накануне "великого перелома". // Коммунист. 1990. №5.
610. Цаплин В.В. Статистика жертв сталинизма в 30-е гг. // Вопросы истории. 1989. №4.
611. Черешкин Д.С., Смолин Г.Л., Цыгичко В.Н. Реалии информационной войны. // Конфидент. 1996. №4.
612. Черников М.В. Концепты "истина" и "правда"" в русской культуре: проблема: проблема корреляции. // Полис. 1999. № 5.
613. Черников М.В. СМИ: обучение человека и социума. // Народное образование. 2002. №1.
614. Шепилов Д.Т. Сталин и инженеры человеческих душ. // Дуэль. 1988. № 20.
615. Шерковин Ю.А. Возможные сопутствующие эффекты массовых информационных процессов и их социально-психологическая значимость. // Прикладные проблемы социальной психологии. М., 1983.
616. Шмелев А.Г. и др. Психосемантический анализ стереотипов русского характера: кросскультурный аспект. // Вопросы психологии. 1993. № 3. С. 101111.
617. Шмелев А.Г., Собкин B.C. Психосемантическое исследованиеактуализации стереотипов социального поведения. // Вопросы психологии. 1986. № 1.С. 127-134.
618. Шрейдер Ю. Ценности, которые мы выбираем. // Новый мир №7. 1994.
619. Шубкин. В. Трудное прощание. // Новый мир. 1989. N4.
620. Яковлева Г. Массовое сознание и третья реальность. // Творчество. 1991. №7.
621. Яковенко И.Г. Сталинизм. Границы явления. // Свободная мысль. 1993. №3.VI ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ
622. Аберкроми Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Пер. с англ. под ред. С.А. Ерофеева. Казань, Изд-во Казан. Ун-та, 1997. 420 с.
623. Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. Одинцово, 1992. 257 с.
624. Бауэр А.И. др. Энциклопедия символов. М., 1995.
625. Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2002.
626. Васильева Н.В., Виноградов В.А. Шахнарович Н.М. Краткий словарь лингвистических терминов. М., 1995.
627. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999. 327 с.
628. Елистратов B.C. Язык старой Москвы: лингво-энциклопедический словарь, М., 1997. 387 с.
629. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, Русский язык. 1988. 673 с.
630. Политология: энциклопедический словарь. М., 1993.
631. Психологический словарь. М., Педагогика. 1983.
632. Психология. Словарь. Под ред. А.В. Петровского. М., Просвещение. 1990.
633. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.
634. Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994.
635. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
636. Макловски Т., Кляйн М., Щуплов А. Жаргон: энциклопедия московской тусовки. М., 1997.
637. Политический словарь. М., 1922.
638. Сад демонов. Словарь инфернальной мифологии средневековья и Возрождения. М., 1998. 276 с.
639. Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
640. Стариков Н.В. Россия. XX век. Политика и культура. Факты. Имена. Понятия. Энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону, 1999. 608 с.
641. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1996.
642. Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996.
643. Marxism, Communism and Western, Society. A comparative Encyclopedia. -N.Y., 1972-1973.VII ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
644. Баранова Н.Б. Власть и воздействие на массовое сознание в 30-е годы XX века. Дисс. . д. и. н. М., 1997.
645. Баранова Н.Б. Культура села в годы первых пятилеток: политический аспект проблемы/на материалах государственных и общественно-политических организаций Среднего Поволжья. Дисс. . к.и.н. М., 1992.
646. Васильева Е.Г. Массовое сознание и политика: Дис. . канд. философских наук: 09.00.11. Волгоград, 1997. 177 с.
647. Володина Н.А. Идеологема коллективизма и ее внедрение в массовое сознание в 1930-х гг. (на материалах Средне-Волжского края). Дисс. к.и.н. Пенза, 2002.
648. Габидуллина С.Э. Психосемантика городской среды. Автореф. дисс. . к.п.н. М., 1991.
649. Галин С.А. Исторический опыт культурного строительства в Советской России (1917-1925 гг.) Дисс. д. и. н. М., 1991.
650. Гомелаури M.JI. К вопросу о мотивационном значении социальных ожиданий. Автореф. дисс. . к.п.н. Тбилиси, 1967.
651. Гусев JI.H. Советская общественность в борьбе с массовой неграмотностью трудящихся деревни. (1917-1932 гг.). Дисс. . к.и.н. Ярославль, 1986 .
652. Елина Е.Г. Литературная критика и общественное сознание в Советской России 1920-х годов: Дис. . д-ра филол. Наук. Саратов, 1996. 319 с.
653. Кондрашин В.В. Голод 1932-1933 гг. в деревнях Поволжья: Автореф. дис. . к.и.н. М., 1991.
654. Кириллов Н.П. Массовое сознание как объект социологического анализа: вопросы теории и методологии. Дис. . д-ра философских наук: 09.00.11.-Томск, 1995.325 с.
655. Королева М.Л. Формирование культурного облика и общественно-политического сознания московских рабочих на рубеже XIX — XX вв. Автореф. дисс. . к.и.н. М., 1988.
656. Козлов Н.Д. Моральный потенциал народа и массовое общественное сознание в годы Великой Отечественной войны: Дис. . д-ра истор. наук. СПб., 1996. 455 с.
657. Красовицкая Т.Ю. Проблемы государственного руководства национально-культурным строительством в РСФСР. 1917-1925 гг. Дис. . д. и. н.М,. 1991.
658. Камчугова И.Д. Печать — активный помощник партии в мобилизации тружеников тыла на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны (на примере Верхнего Поволжья). Дис. . к. и. н. Ярославль, 1974.
659. Козлов Н.Д. Моральный потенциал народа и массовое общественное сознание в годы Великой Отечественной войны. Дис. д.и.н. СПб., 1997.
660. Ломовцев А.И. Средства массовой информации и их воздействие намассовое сознание в годы Великой Отечественной войны. Дис.к.и.н. Пенза,2002.
661. Макейкина Н.Ю. Власть и культура: проблема воздействия на массовое сознание: Дис. . канд. филос. наук. Пенза, 2000. 166 с.
662. Медведева С.М. Воздействие политических стереотипов на массовое сознание: опыт России, 90-е годы: Дис. . канд. политологических наук: 23.00.02. М., 2000. 181 с.
663. Парыгин Б.Д. В.И. Ленин о формировании настроения масс. Автореф. канд. дис. Л., 1961.
664. Романова М.С. Влияние качества информации на политическое массовое сознание: Дис. . канд. политологических наук: 23.00.03. М., 1999. 174 с.
665. Руденко И.Л. Стиль общения и его детерминанты. Дис. .кандидата психологических наук. М., 1988.
666. Соколов В.А. Массовое сознание и власть в условиях реформирования российского общества: социологический аспект: Дис. . канд. социологических наук: 22.00.05. М., 1993. 195 с.
667. Судас Л.Г. Массовое сознание современного российского общества: философско-политологический аспект исследования: Дис. . д-ра филос. наук. М., 1996. 297 с.
668. Туркина В.Г. Мифологема героя и массовое сознание: Дис. . канд. филос. наук. Саратов, 1997.VIII ПИСЬМА И ВОСПОМИНАНИЯ
669. Авангард. Воспоминания и документы питерских рабочих. Сост. Е.Р. Ольховский. Л., 1990.
670. Авдеенко А. Наказание без преступления. М., Изд. Савинова. 1991. 187с.
671. Адамова Слиозберг О. Путь. // Доднесь тяготеет Вып. 1.: Записки вашей современницы. М., 1989.
672. Аджубей А. Те десять лет. М., 1989.
673. Александров Г. Эпоха и кино. М., 1976.
674. Ангелина П. Люди колхозных полей. М., 1948.
675. Ангелина П. О самом главном. М., 1948.
676. Афанасьев С.В. Далекие тридцатые. М., 1999.
677. Афиногенов А.Н. Дневники и записные книжки. М., Советский писатель. 1960.
678. Афиногенов А.Н. Дневник 1937 г. // Современная драматургия. 1993. №1-3.
679. Багаев М.А. Моя жизнь. Иваново, 1949.
680. Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущеве. // Молодая гвардия. 1989. № 4.
681. Боннэр Е. Дочки-матери. М., 1999.
682. Борев Ю. История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995.
683. Бусыгин А. Жизнь моя и моих друзей. М., 1939.
684. Василевский A.M. Накануне войны. // Новая и новейшая история. 1992. №6.
685. Ванин И.Г. Про мою маму и других. М., 1998.
686. Вернадский В. И. Дневник 1938 г. // Дружба народов. 1991. № 2.
687. Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988.
688. Герасимов А. Моя жизнь. М., 1953.
689. Гершберг С. Завтра газета выходит. М., 1966.
690. Галанин С.Т. Правда про тридцатые годы. Североморск, 2000.
691. Громыко А.А. Памятное. М., 1988.
692. Гронский И. Из прошлого: Воспоминания. М., 1991.
693. Гитлер А. Моя борьба. М., Б.г.
694. Дневник Елены Булгаковой. М., 1990.
695. Дневник Нины Костериной. М., 1999
696. Елагин Ю. Укрощение искусств. М., 1997.
697. Жид А. Из дневника 1939-1941 гг. // Литературная газета. 1989. 8 марта.
698. Жеглов С.Г. Не надо врать про мою молодость. М., 1999.
699. Женская судьба в России: Документы и воспоминания. М., 1994.
700. Кабанова И.Ш. Мои живые и ушедшие родственники. СПб., 2001.
701. Каганович Л. Памятные записки. М., 1996.
702. Казакевич Э. Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М., 1990.
703. Казаков Н.Ф. Годы и десятилетия. М., 1991.
704. Каманин О.П. Помню. М., 1998.
705. Казакевич Э. Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М., 1990.
706. Капица П.Л. Письма о науке 1930-1980. М., 1989.
707. Коненков С.Т. Мой век. М., 1971.
708. Клемперер В. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М., 1998.
709. Красота, распятая на кресте. Из записных книжек Ефима Честнякова. // Родина. №4. 1991.
710. Либединская Л. Зеленая лампа. М., 1995.
711. Мазилина С.Г. Долгая, долгая революция. Керчь, 1993.
712. Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1995.
713. Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1999.
714. Маширов Самобытник А.И. Как мы начинали: Воспоминания. // Забытым быть не может. М., 1963.
715. Маньков А.Г. Из дневника рядового человека. // Звезда. 1994. № 5.
716. Мемуары Н.С. Хрущева. // Вопросы истории. 1990. №7.
717. Михалков С.В. От и до. М., 1997.
718. Мы боролись за идею Воспоминания Ф.Е. Тревайс. // Женская судьба в России / Под ред. Б.С. Илизаровой. М., 1994.
719. Немцова 3. Билет до Ленинграда. Воспоминания. // Огонек. 1988. №27.
720. Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. М., 1988.
721. Николаев С.Г. Перед войной. Одесса, 1997.
722. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993.
723. Поляновский М. Остановись мгновение. М., 1968.
724. Панин К.В. "Я последняя буква в алфавите". М., 2000.
725. Пришвин М.И. Дневники. М., 1990.
726. Пришвин М. Остров благополучия. // Слово. 1991. № 1.
727. Райкин А. Воспоминания. М., 1994.
728. Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. М., 1991.
729. Терц Абрам. Литературный процесс в России. // Континент. 1974. № 1.
730. Тимонин В.А. Про тридцатые. М., 1987.
731. Сац Н. Жизнь — явление полосатое. М., 1991.
732. Советские писатели и журналисты о газетном труде. М., 1975.
733. Струве П.Б. Интеллигенция и революция. // Вехи. М., 1991.
734. Сталин в воспоминаниях и документах эпохи. / Сост. М. Лобанов. М. 1995.
735. Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991.
736. Синягин А.А. Революция бескультурия. Воспоминания. М., 1989.
737. Смагин А.П. Про четвертое десятилетие. М., 1991.
738. Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификации. М., 1990.
739. Троцкий Л.Д. Письма и дневники. М. Политиздат. 1986. 314 с.
740. Твардовский И. Страницы пережитого. // Юность. 1988. № 3.
741. Фадеев А. Письма. М., 1967.
742. Ходасевич В. Белый коридор. Воспоминания.- В кн. Ходасевич В. Избранная проза в 2-х т. Т.1. Нью-Йорк, 1982.
743. Чуковский К.И. Дневники. М., 1997.
744. Шихтеева-Гайстер И. Семейная хроника времен культа личности. М., 1999.
745. Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь. Т. 2. М., 1990.
746. Яковлев А. Омут памяти. М., 2000.
747. Goebbels Diaries. 1939-41. London, 1982.
748. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПУБЛИЦИСТИКА
749. Булгаков М.А. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., Голос. 19952000.
750. Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1993.
751. Бунин И. Великий дурман. М., 1997.
752. Гайдар А. Военная тайна. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3.
753. Галин Б. Первенец пятилетки. Куйбышев, 1937.
754. Горбатов Б. Мое поколение. Куйбышев, 1937.
755. Дудин М. Где наша не пропадала. М., 1965.673. Замятин Е. Мы. М., 1997.
756. Зощенко М. Рассказы, фельетоны, повести. М., 1958.
757. Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. М., 1998.
758. Ильф И., Петров Е. 12 стульев. М., 1990.
759. Ильф И., Петров Е. Неизданное. М., 1997.
760. Коган П. Избранное. М., 1997.
761. Кетлинская В. Строители Комсомольска. Куйбышев, 1937.
762. Макаренко А. Педагогическая поэма. // Макаренко А.С. Собрание сочинений в 7-ми тт. Т. 1. М., 1957.
763. Оруэлл Д. Год 1984-й. М., 1993.
764. Хаксли О. Прекрасный новый мир. М., 1992.