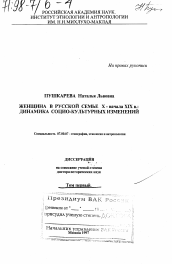автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.07
диссертация на тему: Женщина в русской семье X - начала XIX в.: динамика социо-культурных изменений
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора исторических наук Пушкарева, Наталья Львовна
ВВЕДЕНИЕ.1
Обзор источников.
1. Древний и средневековый период (X — XV вв.).
2. «Эпоха Московии» (Х\/1-Х\/11 вв.).
3. Эпоха преобразований и европеизации
XVIII— начало XIX в.).
Историографический обзор
Отечественная историография «женской истории» в доиндустриальной России
Зарубежная историография «женской истории» в доиндустриальной России.
ГЛАВА I. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИН В ДРЕВНЕЙ РУСИ (Х-ХУ вв.).46
1. Условия заключения брака и место женщин в свадебной обрядности X — XV вв.
2. Повседневный быт древнерусских женщин X — XV вв.
3. Имущественные права женщины в семье в X — XV в.
4. Древнерусская женщина в супружестве. Образы доброй» и «злой» жены.
5. Женщина-мать в древнерусской семье X — XV вв. Отношения матерей с детьми и материнское воспитание.
6. Интимная жизнь, интимные переживания женщин в
X — XV вв.
7. Прекращение замужества и право древнерусских женщин на развод.
ГЛАВА II. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ ЖЕНЩИН В ЭПОХУ МОСНОВСНОГО ЦАРСТВА (ХУ\-ХУ\\ вв.).116
1. Условия заключения брака и права женщин. Место женщин в свадебной обрядности Х\/1-Х\/11 вв.
2. Повседневный быт «московиток» XVI-XV!I вв. Распорядок дня, работа и досуг.
3. Имущественные права женщин в руских семьях
XVI-XVII вв.
4. Супружеская роль и частная жизнь женщин в Московском государстве XVI-XVII вв.
5. Материнство и материнское воспитание в XVI-XVII вв.
6. Интимные переживания в частной жизни женщин Х\/1-Х\/11 вв.
Любовь вне брака.
7. Прекращение замужества и право женщин на развод в XVI-XVII вв.
ГЛАВА III. СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ БЫТ
ЖЕНЩИН В РОСИИ в XVIII — НАЧАЛЕ XIX в.211
1. Изменения в образе жизни россиян в начале XVIII века. Появление новых форм общения представительниц привилегированных сословий.
2. Условия и порядок заключения брака женщинами в XVIII — начале XIX в.
3. Повседневный быт женщин разных социальных слоев в XVIII — начале XIX в.
4. Имущественно-правовое положение женщин в русских семьях в XVII! в.
5. Супружеская роль женщин в русских семьях XVIII-нaчaлa XIX в.: изменения в мотивации брачного поведения, семейных ролей, взаимоотношениях жен с мужьями.
6. Интимный мир и интимные переживания русских женщин XVIII в. Любовь вне брака.
7. Материнство и материнское воспитание в XVIII начале XIX в.
8. Домашнее образование в конце XVIII — начале XIX в. и роль в нем женщин.
9. Прекращение замужества, признание его недействительным и право женщины на развод в XVIII - начале XIX в.
ЗАНЛЮЧЕНИЕ.
Введение диссертации1997 год, автореферат по истории, Пушкарева, Наталья Львовна
Цель работы "Женщина в руссной семье X — начала XIX в.: динамина социо-нультурных изменений" — внести посильный вклад в изучение русской семьи, а также в развитие новой отрасли гуманитарного знания — так называемых тендерных исследований. Учитывая "фактор пола", точнее — "взаимоотношений полов"1, они углубляют сложившиеся представления об обществе, механизмах и этапах его развития.
Рождению нового подхода к изучению истории семьи предшествовали общественно-политические события конца 60-х гг. XX в. в Европе и США. Сопровождавшие их научные споры буквально взорвали старые социальные концепции, поставив под сомнение традиционные методы исторического анализа. Возросшие трудности исторического познания — расширение числа источников, опровержение прежних итогов и результатов, неудовлетворительность старых методик и методологических ориентиров — потребовали от ученых разработки таких приемов реконструкции прошлого, которые были бы основаны на синтезе знаний и интеграции наук. Этим объяснялся рост внимания к этносоциологии, этнопсихологии, социальной антропологии. Фамилистика — изучение семьи — превратилась тогда в самостоятельную научную дисциплину.
Идея междисциплинарности и научного взаимодействия оказалась успешно реализованной четверть века тому назад в первых программах, названных "women's studies" ("изучение женщин"). Их авторы — представители двух американских университетов (Корнельского и в Сан-Диего) — убедительно доказали, что "женская тема" — многогранна и комплексна, что в ней пересекаются проблемы экономики и политологии, социологии и юриспруденции, культурологии и религиеведения. Одновременно возникла потребность по-новому взглянуть и на прошлое, учитывая систему ценностей той половины человечества, которая в силу разных причин все время оставалась "в тени". Новое научное направление — изучение роли женщин в истории — потребовало особых методов и знаний, особого ракурса исследовательского видения2. Его сторонники предлагали "восстановить историческую справедливость" и показать роль женщин в разных сферах жизни общества, проанализировав отношение современников к участию женщин в социальной жизни, изучив "формальные" и "неформальные" общественно-политические роли женщин, их ценностность.
После объявления ООН 1975 года "Всемирным годом женщины", в рамках реализации международных программ по изучению женской истории и особого "Десятилетия женщин" (Women's Decade, 1975), на свет появились сотни статей и монографий, посвященных истории женщин в Европе и Азии, Америке и Африке, освещающих разные эпохи и периоды3. Вопрос о том, "есть ли у женщин своя историй; был, таким образом, решен положительно.
Однако международные конференции последнего десятилетия, на которых сторонницы идеи "переписать прошлое под новым углом зрения" обменивались полученными результатами своего научного творчества, показали, что для переворота в системе идей (и смены парадигм) одного сбора и обобщения материалов по "истории женщин" недостаточно. Нужен был принципиально новый шаг, новый подход, новые методы обработки информации и новый понятийный аппарат. По предложению американской феминистки Джоан Скотт — автора знаменитой статьи "Гендер — полезная категория исторического анализа"4, в которой она предложила отказаться от противопоставления "мужской" и "женской" истории и изучать прежде всего отношения полов, тендерную историю — в мировую науку было введено новое понятие. Вместо использовавшегося ранее биологического термина "sex" ("пол"), исследователи женской истории стали пользоваться словом "gendef ("социально-окрашенное понятие пола").
Тендерные исследования, основанные на междисциплинарном подходе, привлекли много новых специалистов, расширили круг приверженцев нового направления. Формированию "гендерного анализа" как особой субдисциплины способствовал, с одной стороны, интерес к ней тех, кто изучал проблемы массовых политических движений и увидел в исследовании движения женщин, феминизма и суфражизма один из путей понимания актуальных вопросов современности: всегда ли существовало пресловутое "угнетение женщин", в чем его суть, а если оно было — то как и когда возникло, в чем состояли причины его появления и каковы, следовательно, формы и методы преодоления неравенства5.
С другой стороны, тендерный подход к исследованиям был поддержан медиевистами и модернистами (специалистами по истории Нового времени). Именно эти историки, изучавшие "классический" (западноевропейский) вариант Средневековья и Возрождения, первыми почувствовали необходимость отказаться от упрощенного, событийно-политизированного подхода в освещении исторического прошлого и считать изучение доиндустриальных эпох "испытательным полигоном" новейших исследовательских методик. Специалисты по истории Средневековья — прежде всего французские — первыми обратили внимание на Человека как субъекта истории, введя понятие "микрокосм" ("Человек как подобие Вселенной"). Они же предложили выявить те внутренние взаимосвязи между разнообразными сферами человеческой деятельности, которые обеспечивали развитие общества, его целостность и неповторимость на каждом временном этапе.
Благодаря подходу к изучению Средневековья и раннего Нового времени с точки зрения культурно-исторической антропологии ими был начат скрупулезный (в том числе — тендерный) анализ факторов и явлений "длительного действия" (duree"). Отметив, что — в отличие от явлений политических — явления, относящиеся к "домашней сфере", "частной жизни" и повседневности отличаются исключительной временной протяженностью, медиевисты призвали изучать "на равных" не только социо-культурную изменчивость, но и статику в истории. Учтя опыт и достижения феминологов, они как бы сместили акценты, сменили "центр тяжести" в тематике исторических трудов. Французские (а за ними английские, американские, скандинавские) ученые согласились с выводами исследовательниц "женской истории", что для истории "мужской" характерно особое акцентирование сферы публичного — внешней политики, дипломатии, войн, политических катаклизмов. Равнодушные к сфере частного, мужчины (авторы летописей, философских трактатов, составители договоров и, столетия спустя, историки) всегда концентрировали свое внимание исключительно на событийной стороне истории государств, на публичном аспекте культурной истории, в которых женщины веками были скорее "представлены", нежели играли ключевые роли. При изучении же частной сферы жизни социума, охватывающей семью и повседневный быт статус, роль, права, обязанности, особенности социального поведения женщин, отношения между ними и мужчинами оказались на первом плане, став структурообразующим фактором.
Новая историческая наука" — а именно так стали именовать направление, объединившее, помимо сторонников так называемой школы Анналов (т.е. группировавшихся вокруг французского журнала "Annales: Economies, Sociétés, Civilisations"), многих историков, сотрудничавших с английским журналом "Past and Present", немецким "Geschichte und Gesellschaft", итальянским Storici', австрийской инициативной группой Кремского института по изучению структур повседневности — вобрала в себя немало методов и подходов этнологов. Как и этнографы, изучающие материальные формы существования человека в комплексе с изучением традиционно-бытовых компонентов культуры (обычаями, традициями, верованиями, искусством, обрядами, праздниками) сторонники "новой исторической науки" предложили не разрывать "целостную ткань прошлого" и изучать жизнь людей ушедших эпох многогранно, используя источники и методы разных гуманитарных дисциплин. При этом особое внимание обращалось не на сами вещи и явления повседневности, а на отношение к ним человека, на общий социально-психологический и интимно-личный микроклимат жизни людей, на "облик человека", формировавшийся в зависимости от форм его деятельности и самовыражения.
Идеи сторонников "новой исторической науки", объединившей историю и этнографию, нашли поддержку у исследователей проблем исторической психологии, позиции которой очень окрепли в те годы. К середине 70-х годов относится введение в историографию термина "менталитет" и использование этого понятия (наряду с понятием изменчивых "ментальностей") для характеристики "неотрефелексированных (неосознанных) умонастроений" общества или его отдельных групп6. Отрицая распространенную точку зрения о том, что люди прошлого имели примерно те же чувства и переживания, что и люди современные7, сторонники "школы Анналов" скептически отнеслись к возможности говорить о тождестве содержания эмоциональных понятий в разные исторические эпохи и задумались над тем, что общего у человека прошлого с человеком нашего времени и что отличает "тех" людей от наших современников. "В противоположность широко распространенной стараниями философов и писателей концепции о вечном человене, постоянно тождественном себе в своих материальных и духовных потребностях, в своих страстях и равномерно распределенном здравом смысле, историк утверждает — и показывает — вариации, эволюцию людей во всех отношениях, — полагал П.Мандру, специалист по исторической психологии. — Каждая цивилизация или, скорее, каждый момент цивилизации выявляет, что человеческое существо изрядно отличается как от своих предшественников, так и от своих преемников"8.
Интерес к "истории эмоций" и "истории представлений" заставил исследователей прийти к выводу о необходимости учета и здесь тендерного фактора, особенностей "поведенческого модуса" разных полов в разные эпохи. Стремление понять и объяснить поступки людей, их склонность к конформизму или, напротив, к девиантному (отклоняющемуся от нормы) поведению с учетом социальных, тендерных, возрастных особенностей создало новые направления исследовательского поиска: историю детства, старости и вдовства, историю этнических образов (имагологию), историю представлений (о стыде, страхе, сексуальности) и т.п. Но не только новые исследовательские направления, не только история ментальностей, культурно-историческая антропология и изучение массовых движений были "питательными источниками" все более крепнущих тендерных исследований. И сторонникам использования тендерного подхода при рассмотрении событий прошлого примкнули и многие ученые-традиционалисты, причем не связанные единством мировоззрений: марксисты, позитивисты, структуралисты, неокантианцы, холисты . Симптоматично, что все они — несмотря на огромный спектр политических взглядов — увлеклись идеей "переписать историю" и потому щедро предлагали использовать методы и подходы, освоенные ими за годы предыдущей исследовательской деятельности.
Уважительность "гендеристов" ко всем точкам зрения и исследовательским методикам, их терпимость к полярным точкам зрения позволили им взять лучшее из того, что было наработано предшественниками. У тендерной истории появились собственная методология, свой понятийный и концептуальный аппарат, которые использованы в настоящей работе10. Достижения новой отрасли гуманитарного знания были отмечены в 1987 г. на учредительном конгрессе "Международной федерации исследователей, изучающих историю женщин" — первом интернациональном объединении ученых, признающих тендерную тематику. Сейчас в этой организации зарегистрировано более трех десятков стран, в том числе и Россия11.
Историки нашей страны позже ученых других стран откликнулась на растущий во всем мире интерес к изучению "женской истории", не говоря уже о тендерных исследованиях. И все же в последние годы это направление оказалось в центре внимания многих специалистов. Если десять-пятнадцать лет тому назад важность и актуальность "женской темы" приходилось все время обосновывать и доказывать, то отныне в этом — по мнению редакции созданного в 1996 г. ежеквартального альманаха "Женщины в российском обществе" — никто не сомневается: практически все ее стороны так или иначе связаны с проблемами сегодняшнего дня.
Однако основное внимание российских историков, этнографов, социологов и политологов — как это было и в других странах — оказалось сосредоточенным на современности, в крайнем случае — на изучении XIX века. "История женщин" России доиндустриальной эпохи, их правовой и семейный статус в X — начале XIX в. изучались до сих пор лишь фрагментарно немногими российскими и некоторыми западными учеными. Обобщающих работ на эту тему нет ни у нас, ни за рубежом (см. раздел "Историография". Это и определяет научную новизну диссертации.
Выбрав предметом исследования статус женщины в контексте частной сферы жизни социума, в качестве одной из первостепенных задач ставится изучение семьи, семейной экономики, семейного "микроклимата" и властной иерархии, включающей права и обязанности, а также исследование повседневных контактов и связей тех, кто принадлежал к кругу близких (родственников, знакомых, соседей, слуг). В условиях доиндустриальной России — особенно в средневековье — господство нетоварного ("потребительского", натурального) хозяйства делало семью самой важной ячейкой жизни: именно там, дома, производились и распределялись предметы первой необходимости. И в то же время именно эта, частная сфера была — в отличие от публичной — своеобразной "сферой господства" женщин.
Главной же исследовательской задачей работы стало выявление общих соционультурных изменений в русской семье X — начала XIX в., связанных с эволюцией статуса женщин, хронометрирование их в соответствии с общими историческими периодами, выяснение причинно-следственных связей с учетом экономико-правового, историкоэтнографического, семейно-демографического, религиозноантропологического, историко-психологического, сексологического, этического и других аспектов. Обратившись к анализу "сферы женского господства" на протяжении длительного времени, автор поставил во главу угла рассмотрение взглядов и представлений, характеризовавших отношение к женщинам в русском доиндустриальном обществе и прежде всего — отношений в семье и домохозяйстве. Предметом исследования являются также отношения и связи, струнтурировавшие женсную повседневность, внутренний, духовный мир женщин, в том числе отношение их самих (когда это возможно проследить по источникам) к социально обусловленным ожиданиям (экспектациям).
Едва ли можно отрицать, что поставленная задача столь же актуальна, сколь и сложна. Одна из сложностей связана с широкими хронологическими рамками работы, попыткой комплексно охарактеризовать процесс на протяжении девяти веков. Такая постановка проблемы оказывается возможной благодаря детальному, скрупулезному анализу частных вопросов истории права и истории семьи, сделанному многочисленными предшественниками исследователей женской и тендерной истории — юристами и этнографами. Что же касается историков, то они изучали интересовавшие их сюжеты, как тогда было позволено. Несмотря на все ограничения, историки (а особенно — этнографы) внесли в изучение истории духовной культуры доиндустриального русского общества огромный вклад. Но все же именно нынешний отход от прежних стереотипов, связанный с отказом от "единомыслия" в науке, позволяет поставить тему настолько широко, чтобы попытаться проследить множество изменений в правовом, социальном, семейном статусе женщин разных социальных слоев за несколько веков, построить "модель", обосновать репрезентативность предлагаемой аналитической конструкции.
Нижней хронологичесной гранью диссертационной работы избрано международное признание государства Русь (X в.). Кроме того, конец X в. — рубеж, определяемый начавшейся сменой системы идей — христианизацией древнерусского общества и получением церковью монопольного права регуляции семейно-брачных отношений. Верхняя хронологическая грань — начало XIX в.- продиктована общей периодизацией русской истории. Во-первых, начало XIX в. отделяет историю доиндустриальной России от истории России индустриальной, буржуазной, поскольку начавшийся в 1830=х гг. промышленный переворот и общие социально-демографические процессы усложнили сословную и общественную структуру России. Во-вторых, примерно в 10-е гг. XIX в. завершился полувековой период российского "просвещенного абсолютизма", и в системе политического управления начались преобразования, способствовавшие эволюции России в сторону буржуазной монархии. В-третьих, начало XIX в. является определенным рубежом в истории развития национального самосознания и культуры. И наконец, к 10-20-м гг. XIX в. относится возникновение в России женского движения, развитие которого, а также постановка женсиого вопроса были характерны уже для последующего периода, то есть для индустриального, буржуазного общества.
Наличие в современном гуманитарном знании множества различных приемов и теоретических подходов требует определения своего места в их системе (на чем вовсе не настаивали в былые дни). В качестве примера можно напомнить, что знаменитый спор об "исходном рубеже" в оценке женской роли в домашней, семейной сфере до сих не утих. Он сохраняет значение и интерес, по крайней мере для тендерных исследований. "Традиционалисты" (прямые последовательницы феминисток и суфражисток начала века) исходят из посылки если не о подчиненной, то о социально-пассивной роли женщин в большинстве обществ, и, следовательно, ищут пути выхода из этой ситуации. Сторонники "новой исторической науки" настаивают на том, что ограничение активности женщин домашней сферой не является исключительным показателем подчиненности, а в определенных культурных контекстах (особенно в прошлом) может быть даже "ключевой позицией" власти, формой скрытого воздействия на мужчин. Высказать свою позицию в давнем споре — еще одна задача данной работы.
Но можно ли вообще реконструировать какую-то "общую" историю русских женщин? Те, кто скептически относится к идее самостоятельного существования "истории женщин", настаивают на том, что женская половина населения Руси, Московии и особенно России XVIII столетия — не была однородной в социальном смысле: статус и права холопок или крепостных крестьянок разительно отличались от положения и прав представительниц знатных княжеских, боярских или дворянских фамилий. Однако женщины во все эпохи составляли около половины всего населения, и — хотя и не были жестко структурированным социальным объединением — имели уже в силу принадлежности к своему полу интересы, устремления, жизненные ценности, а силу этого и определенный социальный статус, отличный от статуса мужчин12. Сравнивая этот статус, права, значимость и роль в семье женщин разного социального ранга, прослеживая изменения в них на протяжении столетий, можно найти и то "общее", что было характерно для социального положения женщин вообще, и то "частное", что определяло статус представительниц определенного класса, слоя или подгруппы, а также "индивидуальное", "единичное", а подчас уникальное или случайное, что содержало "ростки", "намеки" на возможность изменения "общего", так как могло воздействовать на изменение этических норм, законов, представлений.
Структура работы определена не только хронологией, но и характером источников, отразивших "женскую историю" в доиндустриальной России. Их особенности, объем и содержание (см. раздел "Обзор источников") предопределили необходимость внутренней периодизации огромной доиндустриальной эпохи, деления ее на три периода: "домосковский" (X — XV в.), "московский" (XVI — XVII в.) и период европеизации России (XVIII — начало XIX в.). Им соответствуют три главы настоящей работы13.
В каждой из них ставится задача выявить динамику социо-культурных трансформаций, отражавших изменение отношения к месту и роли женщины в обществе, проанализировав такие традиционные для этнографии семьи аспекты, как: влияние особенностей процесса создания семьи (института знакомства, права на самостоятельность в выборе супруга, представлений об "обычном" и "предпочтительном" спутнике жизни, запретов и ограничений брачного права) на последующей семейный статус женщины; структура повседневности (распорядок дня, величина трудового вклад женщин разного социального ранга в семейную экономику, отношение к женскому труду, его престижности и вознаграждаемости, досуг женщин, формы и широта общения в зависимости от социального и семейного статуса женщин); правовой статус женщин в семье (частновладельческие, имущественные, наследственные права) и женская процессуальная дееспособность; роль женщин в супружестве (особенности распределения семейных ролей и возможность авторитарности, патриархального подавления, степень обособленности, образ идеальной супруги и анти-идеала в контексте православных ценностей); особенности материнства (планирование семьи, число детей в ней, материнское воспитание и обучение, отношение к детям и детству) и отношений подобных материнским или замещающим их (с кормилицами, нянями, бабушками и т.п.); мир женских чувств (содержание интимных переживаний, социокультурные и религиозные установки о различиях полов, символы и ритуалы, отражающие "двойной стандарт" поведения и морали в самой скрытой, интериорной сфере); возможности прекращения брачного состояния и права женщин на развод (права на "персональную автономность" женщин в браке и в принятии решения о его расторжении, мотивах и следствиях подобных поступков).
Автор полагает, что из различных исследовательских методов и мето-дин, выработанных современной исторической наукой, к "женской истории" применимы практически все (потому что сама тема многогранна). Даже противопоставляющие себя друг другу агрегативный метод (от франц. agrege — соединять, сцеплять) — метод сбора разрозненных фактов и составления картины-мозаики, и казуальный — метод детального рассмотрения уникальных, редких, нетипичных явлений, (одни их которых стали, а другие — не стали основой каких-либо изменений в социальной психологии, демографическом поведении, общественном сознании), — вполне "уживаются" на исследовательском поле "женской истории". Оба эти метода, раскритикованные когда-то Р.Коллингвудом как методы написания истории "с помощью ножниц и клея", то есть формальной компоновки собранных в источниках фактов14 дополняются интерпретативным, заставляющим прошлое "выдавать свои тайны", даже когда источников не хватает, когда они упрощают явление или искажают его (он особенно необходим при исследовании иконографических и живописных источников, позволяющих анализировать и сравнивать жесты, позы, композицию). Очень продуктивным является и выработанный школой Анналов этнологичесний подход к исследованию явлений доиндустриальных эпох — метод обращения к средневековым источникам тех вопросов, которые этнолог, работая в полевых условиях, задает живым людям, общаясь с ними с глазу на глаз. Нет нужды доказывать важность компаративного (сравнительного) метода работы — как в плане локальных сопоставлений (регион, страна, Восток и Запад), так и в плане конфессиональных, хронологических, дискурсивных (так как формы дискурса о женщинах были различными — "нормативный" светских законов, "дидактический" законов церковных, "фольклорный" и т.д.). Сохраняет свое значение с точки зрения выявления динамики и исторической перспективы развития того или иного явления в многовековой истории русских женщин и принцип историзма.
Комплексное использование всех перечисленных методов и методик — один из путей воссоздания "всеохватывающей, всесторонней истории (l'histoire totale), о которой легко говорить, но очень трудно разрабатывать". "Тотальная история — не всемирная, — писал М. Блок. — Она охватывает определенный отрезок времени и может быть вполне локальной. Но это история людей, живших в конкретном пространстве и времени, которая рассматривается с максимально возможного числа точек наблюдения, в разных ракурсах, чтобы восстановить все доступные историку аспекты их жизнедеятельности, понять их поступки, события их жизни в их многосложности." 15. В данном случае — речь идет о попытке воссоздать "всестороннюю историю" русских женщин, рассмотрев их статус в частной сфере, в семье, домохозяйстве.
ОБЗОР источнинов
Реконструкция повседневного быта и семейной жизни русских женщин в доиндустриальную эпоху требует скрупулезного поиска необходимых источников, позволяющих вступить в своего рода диалог с людьми, жившими много веков назад. Начать этот диалог непросто: источники по истории быта, повседневности, ментальности как всего общества, так и определенных его групп (в том числе — женщин) весьма разнохарактерны. Среди них имеются письменные, материальные, этнографические, лингвистические, фольклорные. Ставя целью представить, как женщины в прошлом выходили замуж, вели семейную жизнь, хозяйничали в доме, распоряжались имуществом, рожали и воспитывали детей, любили и страдали, то есть стремясь уловить картину "женского мира", понять ценности и систему поведения представительниц разных социальных страт, необходимо привлечь для анализа все типы источников. Однако сопоставляя и комбинируя их, стоит принять во внимание ряд обстоятельств.
Во-первых, огромный комплекс письменных источников по теме — отнюдь не "окно, распахнутое в прошлое" : он характеризует не столько саму реальность, сколько представления о ней современников. Во-вторых, (и оно вытекает из первого) осуществление поставленных задач осложняется тем, что исследователь пытается их решить, подходя с современными мерками, современным понятийным аппаратом (другого у нас нет) к анализу событий и явлений прошлого и, следовательно, не может претендовать на адекватность своей реконструкции картине тогдашнего мира. В-третьих, каждый исследователь субъективен и, следовательно, его "видение" прошлого, в частности — истории женщин, не может претендовать на единственность.
Специалисту по "женской истории" (и это в-четвертых) приходится преодолевать и еще одну сложность. Она связана с тем, что на протяжении всего рассматриваемого периода абсолютное большинство письменных текстов создавалось мужчинами. Именно мужчины были летописцами, мужчины создавали законы (и конструировали всю правовую систему не просто исходя из собственной системы ценностей, но и в своих интересах), мужчины-писцы записывали и формализовывали тексты различных документов (сделок, договоров и т.п.). Поэтому анализ источников по "женской истории" должен быть воистину "борьбой против того видения, той оптини, которая навязывается источниками"1 — а именно "мужского видения", а порой и откровенно секситского восприятия2.
Размышления над перечисленными выше препятствиями (гносеологическими, герменевтическими, эвристическими) в процессе исторической реконструкции приводят к выводу о необходимости такой систематизации разнообразных по происхождению источников, которая могла бы максимально приблизить нас к миру людей прошлого и, одновременно, дать возможность проследить его развитие, изменения во времени. Первичным признаком систематизации правильнее всего избрать хронологический (время создания и бытования источника), вторичным — содержательный. Стремление к созданию возможно более целостной и объемной картины, заставило прибегнуть к уже опробованному раннее принципу разделения источников на нормативные (содержащие предписания, нормы, правила поведения, в том числе лишенные строгой обязательности, но в то же время характеризующие желательный образец, идеал) и ненормативные (отображающие саму реальность либо являющиеся "сколком", живой частью ее). Взятые в комплексе, нормативные и ненормативные источники позволяют очертить некую общую социальную парадигму с учетом большой вариативности в рамках этой единой установки3.
1. Средневековый ("домосковский") период (Х-ХУ вв.)
К нормативным источникам древнего и средневекового периода в истории русских женщин отнесены законодательные и иные нормативные анты светсного происхождения (Договоры Руси и отдельных русских земель и княжеств с другими государствами, Русская Правда, Судные грамоты Новгорода и Пскова, Судебник 1497 г.), а также анты смешанной (церковно-светской) юрисдинции (уставы и уставные грамоты ХН-Х1\/ вв.)4. Если нормативные акты светского происхождения позволяют охарактеризовать, главным образом, имущественно-правовой статус женщин в древнерусских семьях, а также их процессуальную дееспособность, то акты смешанной юрисдикции проливают свет на древнейшую историю свадебной обрядности и место в ней женщин, на развитие и сохранение семейных традиций, характеризуют формы прекращения и расторжения брака, а отчасти и нормы отношений детей и родителей, супругов и родственников в древнерусской и средневековой семье.
Не менее важными, а для истории быта и повседневности, истории женщины в древний и средневековый период — основными, являются нормативные наноничесние памятники. Среди них особо выделяются Кормчие книги — сборники греко-римских, южнославянских и оригинальных русских законов, постановлений вселенских и поместных соборов, мнений авторитетных деятелей церкви. Все они имели широкое распространение на Руси как главные руководства для церковнослужителей в вопросах пастырской практики по семейно-брачным делам. Помимо Кормчих, к исследованию норм и правил поведения женщин в древнерусских семьях могут быть привлечены и иные богослужебные книги: Часословы (содержавшие молитвы на разные часы суток), Октоихи (аналогично — на каждый день недели), Требники (сборники церковных "треб" — описаний священнодействий при рождении и крещении ребенка, бракосочетании, отпевании и т.п.), назидательно-учительная литература (Прологи, Минеи, компиляции типа "Пчел", "Измарагдов", "Маргаритов", "Цветников"), патерики, агиография5. Многие из перечисленных памятников опубликованы в Х1Х-ХХ вв., иные — хранятся в архивах (РГАДА, РО БАН (Санкт-Петербург), РО РНБ (Санкт-Петербург), РО ГИМ, РО РГБ (Москва). Благодаря анализу этого типа источников, исследователь "истории женщин" имеет возможность с большой достоверностью восстановить "идеальный" и "антиидеальный" образы женщин в средневековой русской семье, общее и типическое в отношениях их с близкими, образец (и анти-образец) материнства, супружеской верности, хорошего хозяйствования и т.п.
Наибольшей информативностью для изучения особенностей этических ценностей и образа поведения древнерусских женщин (в том числе демографического, сексуального и, следовательно, для характеристики интимного мира женщин и широты их интимных притязаний) обладают покаянные книги. Эти книги, которые часто именуют епитимийными сборниками, епи-тимийниками, служили главным подручным средством священников на исповедях. На их затрепанных от частого употребления страницах были обозначены грехи, в которых надлежало каяться верующим, а также примерный размер "епитимьи" (церковного наказания в виде поста, поклонов, покаяния, отлучения от причастия и т.п.), которую назначали исповедники. Тексты покаянных "книг" чаще всего включены в состав церковных сборников и потому весьма трудоемки при их выявлении в архивах, как российских, так и зарубежных . Впрочем, наиболее типические из текстов были опубликованы столетие назад А.С.Павловым, А.И.Алмазовым, С.И.Смирновым7. Покаянные книги и являющиеся частью их так называемые поновления (списки грехов, дававшиеся кающимся до исповеди) — источники не только массовые, но и всеобщие, ибо исповедь была обязательной для всех. Место покаянных книг — "пограничье" источников нормативных и ненормативных: содержа правила поведения, они в то же время сохранили и черты реальной действительности, как бы "проступающей" сквозь жесткие нормы и строгие наказания. Об этом свидетельствуют изменения в списках исповедных тем, мере наказаний за те ли иные грехи, вопросах о мотивации прегрешений и т.д.
Второй комплекс источников - ненормативные памятники: нарративные, актовые, эпиграфические, археологические — по формальному объему значительно больше первой. Однако интересующие нас свидетельства мимолетной и быстротекущей жизни в них — отрывочны, фрагментарны и весьма, как это ни парадоксально, малочисленны. Подчас они в большей мере могут характеризовать не явление, но казус, случай, "индивидуальное, своевольное, необычное"8.
В группе нарративных источников Х- начала XVI в. на первом месте стоят летописи. По характеру отразившейся в них информации о семейном быте верхушки древнерусского общества они могут быть тоже отнесены к "пограничью" между ненормативными и нормативными источниками: определение адекватности летописного повествования исторической действительности затруднено характерной для нарративной традиции средневековья тенденцией к идеализации и стандартизированному описанию жизни знати. Фиксируя лишь необычное и не замечая привычной глазу и уху бытовой обстановки, с детства окружавшей их, летописцы лишь походя, случайно "проговаривались", позволяя современному историку вообразить ту картину, которая каждый день открывалась взору средневековых русских женщин.
Напротив, иностранные путешественники, побывавшие на Руси X — начала XVI в. и оставившие свои путевые записки и дневники, стремились как раз описать повседневность, быт и праздники людей, живших в иной стране, с другими, нежели у них, законами и обычаями. Отношение большинства иностранцев к семейным традициям русских и статусу женщин в средневековой Руси страдало предвзятостью, обусловленной стремлением противопоставить свою "культурную" страну варварской земле на Востоке Европы, а также другими причинами: кратковременностью пребывания в и
России, незнанием языка, давлением сложившихся стереотипов. Однако именно записки иностранцев XV в. позволяют осветить ряд историко-этнографических сюжетов (свадебные обряды и место в них женщин, структуру семьи и взаимоотношения ее членов, повседневный и праздничный стол и роль женщин в его совершенствовании9).
Исключительным по значению памятником по истории семейно-бытовых отношений, принадлежащим к светской литературе, основанным на началах народного творчества и опирающимся на реалии древнерусской повседневности, является "Слово" ("Моление", "Послание") Даниила Заточника. Наряду с иными памятниками повествовательной литературы (апокрифическими сочинениями, словами, сказаниями и повестями ХП-Х\/ вв.) — оно является редким источником, позволяющим оценить "усвоенность" нравственных норм древнерусским обществом, в том числе — по интересующим нас темам (распределение семейных ролей, иерархия ценностей семейной жизни, демографические представления и т.п.)10.
Вторую группу в комплексе ненормативных источников составляют анты землевладения и хозяйства. Сопоставление актового материала с нормативным дает возможность определить степень распространенности фактов владения и распоряжения недвижимостью знатными женщинами, выделить основные тенденции, характеризующее развитие владельческого права в целом. Знание их необходимо для всестороннего изучения "женского землевладения"11.
Третья группа памятников в рассматриваемом комплексе — маргиналии, граффити и эпиграфика12. Записи на полях церковных учительных сборников рядом с текстами о "добрых" и "злых" женах, а также надписи на сосудах, пряслицах и иных предметах женского быта, а также грамоты на бересте ХП-Х\/ вв.13 — окно в мир городского быта, значительную роль в котором играли женщины и их заботы (о пище, одежде, здоровье, работе, отдыхе). Берестяные грамоты позволяют также оценить особенности юридического быта в древнем Новгороде, Пскове, Старой Русе, "включенность" в него женщин, а также представить содержание частной жизни и эмоционального мира древнерусских горожанок.
Четвертая группа - археологические источники14, дополняющие картину повседневной средневековой жизни и интересующие нас постольку, поскольку история вещей является выражением человеческой (в том числе женской) ментальности.
Наконец, пятая - иконографический (изобразительный) материал - миниатюры, житийные клейма на иконах ХМ-ХУ вв., использовавшиеся как источники по истории быта и общественного сознания (отношения к женщине, материнству, детям, семейным ролям и т.п.).
Комплексный подход к письменным источникам X-XV вв. и памятникам материальной культуры (археологии, эпиграфики) открыл возможности применения сравнительного метода, позволяющего уточнить, как соотносились с жизнью образцы и нормы поведения. Основной источниковедческой сложностью при работе с комплексом источников X — начала XVI в. является фрагментарность сведений, пробелы в них, возникшие в результате как плохой сохранности, так и умышленных пропусков. Поэтому прямое сопоставление ненормативных и нормативных источников далеко не всегда возможно. В иных случаях формулировки законов допускают двоякое толкование и споры исследователей. Это вынуждает искать в процессе исследовательского анализа новые аргументы, обосновывающие присоединение к той или иной точке зрения.
Другой сложностью источниковедческого характера является недостаточная документированность самой темы — истории семьи и положения женщины в средневековье. Особенно это касается ненормативного материала. Этот пробел, казалось бы, мог быть восполнен привлечением фольклорного материала. Однако записей фольклорных текстов, безусловно свидетельствующих об их бытовании в средневековье (до конца XV в.) нет. Это заставило отказаться от привлечения текстов устнопоэтического народного творчества (песен, былин и т.п.), равно как от пословичного материала и подобных источников при анализе древней и средневековой эпохи.
Тексты многочисленных церковных сборников, хранящихся в архивах и содержащих покаянные или учительные "слова" и "поновления" к ним, весьма трудоемки в обработке. Для их выявления требуется большое терпение и скрупулезность, так как содержание многих сборников не описано, и просмотр сотен и даже тысяч исписанных уставом, полууставом и ранней скорописью листов может быть иной раз абсолютно безрезультатным, а редкая находка какого-нибудь вопросника — еще одним списком, повторяющим общий канон (шаблон).
Похожие сложности возникают и при обработке актовых источников XII-XV вв.: их текст формализован и, казалось бы, может дать лишь информацию об имущественно-правовом положении женщин в рассматриваемую эпоху. Однако как бы ни был четок формуляр актов, как бы ни был стандартизирован их текст, все же эмоциональная напряженность авторов при составлении этих документов как-то отражалась на содержании. Эти случайные "оговорки" представляют особый интерес, раскрывая специфические стороны частной жизни женщин того времени. Через истории конкретных семей и биографии отдельных людей можно тогда увидеть нечто общее, свойственное группе, слою, социальной страте.
2. "Эпоха Московии" (XVI - XVII вв.)
Характеризуя комплекс нормативных и ненормативных источников данного периода, необходимо прежде всего подчеркнуть, что многие из них относятся к типам и видам, уже характеризовавшимся выше. Остановимся поэтому подробно лишь на тех, которые необходимо привлечь для анализа именно этого периода, а также на особенностях и методиках работы, которых они требуют.
Поскольку законодательство с конца XV в. стало общегосударственным, постольку главными в комплексе нормативных источников являются нормативные анты центральной власти - Судебники, Соборное Уложение и акты общегосударственного законодательства (приговоры, государевы доклады, указы), принятые Боярской Думой и Земскими соборами . Среди антов смешанной юрисдикции и наноничесних наиболее важное значение имеет, разумеется, Стоглав (1551 г.), чьими решениями не один век руководствовались священники, "стремясь к улучшению различных сторон мирского быта" — в том числе в вопросах венчания, крещения, нравственного воспитания прихожанок, контроля за их помыслами .
Пограничное положение между нормативными и ненормативными источниками занимает знаменитое произведение Сильвестра — "Домострой".
По задачам это произведение светской литературы было сугубо назидательным, нормативным. В конечном же счете "Домострой" был еще и "описанием практических устоев жизни" — "мирского строения" (семейных отношений в среде московской городской аристократии) и "домовного строения" (хозяйствования, в котором велика была роль "государынь дома" хозяек)17.
В комплексе источников ненормативных к числу важнейших относятся актовые — то есть фиксировавшие сделки. Особенно много среди них документов, закреплявших различные имущественные отношения (купля, продажа, дарение, передача в приданое или наследство, заклад и т.п.). Если большинство актов домосковского времени (ХИ-Х\/ вв.) опубликовано, то среди актов Х\/1-Х\/11 вв., привлеченных к анализу в данной работе, немало впервые вводимых в научный оборот. Они выявлены в составе 281 фонда Российского государственного архива древних актов (хранящем грамоты Коллегии Экономии), собрании Санкт-Петербургской Духовной академии (в отделе рукописей Российской национальной библиотеки), 304 фонде Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (архиве Троице-Сергиевой лавры) и др. Чтобы исследовать имущественно-правовой статус русских женщин в эпоху Ивана Грозного и столетием позже, потребовалось сделать выборку всех актов, упоминавших "женское землевладение" или прямо фиксировавших участие женщин в распоряжении земельной собственностью. Эта генеральная совокупность, оказавшаяся в поле зрения автора диссертации составила более, чем 12 тыс. антов (как опубликованных, так и архивных). Из них и был создан банк данных, составивший более 800 документов — купчие, закладные, духовные и др. аналогичные акты, содержавшие упоминания о приобретении, владении и распоряжении женщинами земельными богатствами. Подробное исследование их текстов18, приведшее к написанию раздела об имущественных правах женщин в Х\/1-Х\/11 вв., в полной мере подтвердило старую истину: "За минуты синтеза надо платить годами анализа" 1 .
Поскольку основное внимание в данной работе было обращено на историю повседневности и частной жизни женщины (а она протекала в рассматриваемые столетия в рамках семьи), поскольку главной целью исследования были поиски истоков зарождения женского самосознания (понимания "особости" женского мира, отличного от мира мужчин) в доин-дустриальную эпоху, постольку исключительное значение для характеристики реалий Х\/1-Х\/11 вв. имели нарративные памятники, в том числе знаменитый "Домострой".
Литературные памятники в этом комплексе имеют особое значение как источники по истории меняющихся представлений общества в целом и отдельных его групп. Они позволяют проследить динамику выдвижения на первый план новых этических ценностей, неизвестных средневековым моралистам из церковной среды, проникновения женского "Я" в литературу, обмирщения общественного сознания и вместе с ним изменения взглядов на женщину и женский мир. Эвристический потенциал знаменитого произведения Сильвестра, посадских сатирических произведений, публицистики, переводных фацеций, всевозможных "Слов о женской злобе" оказывается для исследователя тендерных сюжетов необычайно высоким. В сопоставлении и сочетании с ненормативными источниками других видов и разновидностей, литературные тексты являются важнейшими инструментами историко-антропологической (или социально-антропологической) реконструкции20.
Другой разновидностью нарративных источников являются сочинения иностранцев о Московии21. Число записок иностранных наблюдателей московского быта Х\/1-Х\/11 вв. весьма велико, особенно по сравнению с предыдущими столетиями. Почти все эти авторы были "родоначальниками европейских сказочников о нашем Отечестве"22: тенденциозность и снобизм их оценок положения и прав "московиток" породили образ "теремной затворницы", прозябавшей в скуке монотонной работы и темноте. Насколько нарисованная иностранцами картина была далека от реальности, позволяют убедиться другие виды источников.
Сделать существенные поправки и даже выявить умышленные неточности иностранных наблюдателей русских свадебных обрядов позволяет группа памятников историко-этнографического характера - русские свадебные записи и описания "чинов" (венчания, крещения, отпевания)23 - руководств к проведению семейных торжеств. В то же время, например, социально-психологический портрет образованной женщины привилегированного сословия Х\/1-Х\/11 вв. невозможно было бы восстановить без памятников частной переписки. Лишь применительно к рассматриваемому периоду о них можно говорить как о комплексе источников: новгородские грамоты на бересте в большинстве своем лишь фрагменты писем, к тому же очень лаконичных. Конец же Х\/1-го, а особенно XVII в. — период бурного развития частной переписки, в том числе переписки между женщинами , что открывает перед исследователем широкие возможности для анализа социально-психологических сюжетов.
Своеобразным источником по истории повседневности и быта женщин (особенно в аспекте деторождения, воспитания и выхаживания детей, а также интимной жизни женщин) является в комплексе ненормативных памятников группа текстов историко-медицинского характера — "Лечебников", "Травников", наиболее ранних из дошедших до нас заговорных формул25. Памятники истории медицины позволяют выявить не только значительный "слой" информации о способах и методах лечения болезней, их профилактики (то есть о повседневной жизни женщин), но и представить умственный кругозор "женской личности" той эпохи, ее интересы, устремления и страсти.
XVII век — время появления первых записей фольклорных произведений — исторических, лирических, обрядовых песен, пословиц и поговорок26. Использование этого вида исторических источников дает (помимо лежащей на "поверхности" информации о жизни и семейном быте древнерусских женщин) возможность реконструкции внеличных аспектов индивидуального сознания — неких "автоматизмов поведения"27, того самого традиционного, которое испытывало определенное воздействие социально-политических катаклизмов и в то же время развивалось самостоятельно. В некоторых случаях фольклорный материал позволяет судить об отношении к нетипичным случаям, "отклонениям" в традиционном поведении — и с этой точки зрения также интересен социопсихологу, в том числе реконструирующему модели жизни ушедших эпох.
В конечном счете, изучение истории семьи и места, роли в ней женщины заставляет признать значимость выявления не только динамики, не только эволюции — но и "статики", "груза прошлого", который тяготеет над историей вообще и историей женщин — в особенности, той самой "неподвижной истории", как бы лишенной "нервного, событийного времени"28. Такую возможность исследователю предоставляют факты, характеризующие малоизменчивые структуры российской повседневности допетровского времени — распорядок дня, чередование будней и праздников, работы и досуга.
Неоценимую помощь в исследовании такого рода дает иконографический материал, тем более, что именно в XVII в. на иконах и фресках стали особенно подробно изображать труд, отдых, семейный быт и воспитание, дом и домашнюю утварь. Именно тогда появилось и новое отношение к человеческому, в том числе женскому, телу, ранее считавшемуся темницей души и источником греха29.
Характеризуя подходы к работе с перечисленными выше группами ненормативных источников, необходимо подчеркнуть плодотворность использования понятийного аппарата и исследовательских методик смежных с историей и этнологией наук — прежде всего психологии и демографии. Поскольку в центре исследовательского интереса в данной работе были социокультурные изменения, связанные с местом и ролью женщины в семье, с историей ее частной жизни, постольку в ходе анализа особую роль имела "постановка" перед позднесредневековыми источниками вопросов, которые обычно ставятся в анкетах демографов (минимальный и предельный брачный возраст, условия вступления в брак, детность семьи, средства планирования ее и т.п.) и социопсихологов (иерархия ценностей, ценностные ориентации, побуждения и мотивации, представления о качестве жизни, страхах и видах тревожности, проблема эмоционального баланса и т.п.).
3. Эпоха преобразований и европеизации (XVIII — начало XIX в.)
Среди нормативных источников XVIII — начала XIX в. важнейшими являются памятники законодательства. Из 42 томов первого издания Полного свода законов Российской империи были изучены 33 (охватывающие период до 1810 г.) и выявлены все указы, наказы, законоположения, доклады Сенату и т.п., имеющие отношение к статусу женщин в семье и обществе30. Неоценимую помощь в работе оказывает также анализ постановлений и распоряжений Синода, его разъяснения по частным делам (по сложившейся традиции, именно синодальные власти сохранили за собой право вникать во все вопросы "по делам семейно-брачным")31.
Среди ненормативных источников безусловное значение сохраняют и анты, описывающие частные случаи применения тех или иных законодательных норм, в том числе опубликованные в составе ПСЗ, ПСПиР, ОД-ДиД. Немало среди них и хранящихся в архивах — прежде всего в фонде 796 Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (Фонд канцелярии св. Синода) и в фонде 797 (Фонде Обер-прокурора Синода). Огромное значение для характеристики интеллектуальной жизни России в XVIII в. имеют и литературно-художественные, а также художественно-публицистические произведения32, отчасти — материалы периодической печати (журналы и альманахи, предназначенные для женского, детского и юношеского чтения)33, сочинения иностранцев3*, фольклорные источники35, материалы изобразительного искусства (особенно портретного и зарождающегося жанрового)36.
Однако в связи с тем, что в центр исследования было поставлено изучение истории повседневного быта, семейных отношений и частной жизни россиянок XVIII столетия, основное место было все же отдано источникам личного происхождения*7, прежде всего мемуарам38. К исследованию были привлечены все опубликованные к настоящему времени тексты "женских воспоминаний" XVIII и первых годов XIX в. (то есть всех тех, авторами которых были женщины), а также ряд "мужских", содержащих, однако, достаточно материала, характеризующего тендерные отношения и связи (с женами, сестрами, матерями, дочерьми). Число "женских мемуаров", равно как иных источников личного происхождения, исходивших от женщин, несравненно меньше числа аналогичных памятников, созданных мужчинами: написанному женщинами "по традиции" уделялось меньше внимания, частные архивы женщин рассматриваемого времени не составляют единого комплекса (если, конечно, это были не венценосные особы или приближенные к ним).
Общее число использованных в данной работе воспоминаний — около 50-ти. Абсолютное большинство текстов написано выходцами из дворянской среды — столичной и провинциальной. Авторами нескольких мемуаров были купцы. Все привлеченные к анализу дневники и воспоминания опубликованы и не единожды использовались исследователями.
Исследователям давно известны особенности воспоминаний как источника, информация в котором подвергалась неоднократной субъективации. Но при изучении истории частной жизни этот фактор — как раз не помеха. В данной работе при анализе содержания источников личного происхождения особое внимание уделялось рассмотрению именно тех особенностей мемуаров, которые ранее считались по значимости второстепенными. Это, например, индивидуальное восприятие и характеристика повседневного быта авторами воспоминаний, описание внутренних переживаний и устремлений, связанных с личной жизнью и кругом близких, рассуждения о собственной значимости и о воспитании детей, записанные в текстах слухи, сплетни, анекдоты и вымыслы, интересные исследователю как с точки зрения мотивов их фиксации, так и с точки зрения содержательной, как явления общественного сознания. С социально-психологической точки зрения особый интерес вызывал анализ структуры и динамики жизненных целей "женских личностей", путей их самореализации, особенностей самоидентификации, представлений о жизненной перспективе и широте индивидуального жизненного выбора, о роли преемственности поколений в "жизнетворчестве" и стратегии поведения.
Разумеется, проводя подобный анализ, необходимо делать поправку на то, что при оценке особенностей внутреннего мира россиянок, живших в XVIII в., в центре исследовательского внимания оказываются в первую очередь немногочисленные представительницы культурной элиты, умевшие выражать свои чувства на бумаге. Психология "людей книги" и людей, живших в условиях господства устного слова была, разумеется, различной, и все же при анализе информации, характеризующей умонастроения представительниц трудовых слоев российского общества, стояла задача выявления не столько различий — сколько общего и объединяющего, определяющего менталитет женщин как особой социальной группы в целом.
Подводя итоги обзору источников, содержащих информацию о статусе, правах, роли женщины в русской семье X — начала XIX в., стоит, вероятно, подчеркнуть что перечисленные в данном обзоре источники являются необходимыми и достаточными для характеристики различных сторон жизни женщин в России за почти девять веков их истории. Гораздо сложнее, используя эти источники, найти региональные отличия, особенно в допетровский период. Конечно, территория государства, на котором проживали древние русы, существенно отличалась и по размерам, и географически от территории Московии Х\/1-Х\/11 вв., а особенно — России XVIII — начала XIX в. Многообразные этнодемографические процессы (миграции, ассимиляции, взаимодействия и взаимопроникновения культур) играли немалую роль в полиэтничном государстве, оказывая воздействие и на статус женщины в русской семье. Однако объем работы и ее хронологический охват не позволяют подробно остановиться на этих аспектах. Их выявление и анализ являются темой специального исследования.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1. Отечественная историография "женской истории" в доиндустриальной России
История женщин" изучается в России почти 200 лет, если учитывать все публикации, авторы которых хотя бы косвенно обращались к теме. Но проблема была признана актуальной лишь в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Представление о смене приоритетов научного поиска ученых гуманитарных специальностей, интересовавшихся "историей женщин", позволяет определить наиболее распространенные стереотипы восприятия, наименее исследованные области, а также перспективные подходы и способы рассмотрения привычных фактов.
1. Представления о "женской истории" в русской дореволюционной историографии (1800—1917 ).
Накопление фактического материала о положении женщины в обществе было начато русскими учеными в конце XVIII — начале XIX в. Н.М.Карамзин первым призвал создать "галерею портретов россиянок, знаменитых в истории или достойных сей участи". Историческая повесть Н.М.Карамзина о новгородской боярыне Марфе Борецкой, возглавившей политическую группировку, оппозиционную самодержавию Москвы, пробудила интерес к биографиям других выдающихся женщин русского средневековья. Однако должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем он трансформировался в первые научные исследования1.
Начало XIX столетия в России было отмечено подъемом национального самосознания, патриотическим порывом в годы Отечественной войны 1812 года. В прямой связи с ними и с возникшим в 1820-1850-е годы славянофильством оказалось пробуждение интереса к истории средневековой России, ее быту, повседневности, обычаев, традиций. Историки славянофильского толка публиковали в журналах подборки историко-этнографических и фольклорных материалов, описывая место женщин в свадебных, крестильных, похоронных церемониях, их положение в древнерусских и современных ученым крестьянских семьях2. В середине XIX века знатоки повседневности и нравов средневековья — И.Е.Забелин и А.Терещенко — сделали попытки "вписать" женщин в материальный быт допетровской эпохи (ХОО*/11 вв.). Однако даже в книге И.Е.Забелина "Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях" героини истории — русские царицы — оказались буквально "задавленными" деталями бытописательства: описаниями утвари, одежды, распорядка дня, повседневной и праздничной пищи и т.д.3
В те же 1830-е годы другие исследователи либерального толка — так называемые "западники", особенно сторонники "государственной школы" — сосредоточили внимание на других сторонах "истории женщин". Они анализировали в своих публикациях уголовно-правовые и материально-правовые нормы, сопоставляли имущественный статус, дееспособность женщин в допетровскую эпоху (Х-ХУП вв.) и в XVIII веке, доказывая разительность перемен, совершенных в эпоху "европеизации". Многие исследователи-правоведы отмечали исключительную — для средневековой эпохи — "правовую защищенность" русских женщин, их право на обладание собственной частью (выделом) в общесемейном имуществе, право получить ее не только в случае вдовства, но и при разводе. Как неразрешимый парадокс отмечалась ими невозможность пользования большинством женщин их имущественными полномочиями, личностно-психологическая подчиненность жен мужьям при формальной материальной независимости4.
Некоторые из "государственников", в том числе С.М.Соловьев, обратили внимание на традиционность сравнительно широкого (для средневековья) участия женщин из среды социальной элиты в общественно-политической жизни княжеств и земель. Возникновение "российского матриархата" (1725-1796 гг.), выглядело в их исследованиях закономерным возвращением "к хорошо забытому старому" : в эпоху средневекового дробления русские женщины активно участвовали в управлении княжествами и землями. Некоторые из исследователей склонны были даже акцентировать внимание на социальной свободе русских женщин, живших в феодальных республиках (Новгороде, Пскове Х-Х\/ вв.), утверждая, что в этих землях "женщины пользовались юридическим равенством с мужчинами"5.
Следует учитывать, что подобные выводы рождались в эпоху бурной либерализации общественной жизни России, которая сопровождала буржуазные реформы 1860-х гг. К этому времени относятся первые попытки найти решение менсного вопроса, поставленного уже в начальные десятилетия XIX века. Радикальная дворянско-буржуазная интеллигенция интенсивно обсуждала проблемы женской эмансипации. Знание "женской истории", особенностей эволюции социально-правового и семейного статуса крестьянок и горожанок, дворянок и княгинь было востребовано временем6. Быстро рос интерес к изданиям популярного характера, к беллетри-зированным женским биографиям. Трехтомник "Русские исторические женщины" Д.Л.Мордовцева7 и более поздняя книга — "Русская женщина XVIII столетия" В.О.Михневича переиздавались, и не раз, потому что были написаны "непременными защитниками" прекрасного пола, сторонниками предоставления ему равных прав на образование и участие в политике8.
Одновременно, в те же 60-70-е гг., а особенно в последние десятилетия XIX века, стали появляться и научные публикации, авторы которых анализировали место тенсного вопроса в системе современных им юридических знаний, в публицистике и вообще в умонастроениях современников9. Чтобы более выпукло представить насущные задачи современности, защитники женского равноправия не жалели черной краски, описывая положение россиянок в древности и средневековье. В то же время, размышляя о том, как достичь действительного освобождения женщин, участники дискуссий о тенсном вопросе не раз спорили о "истинной" и "ложной" эмансипации10 (под последней разумелось стремление женщин подражать мужским нормам поведения, привычкам, стилю одежды). Некоторые выводы, высказанные тогда в журналах и вызвавшие бурную полемику, не потеряли актуальности по сей день.
Еще одну сторону "женской темы" открыли читателям этнографы второй половины XIX в. Труды ученого-демократа А.П.Щапова, исследования И.Харламова (он придерживался славянофильской и либерально-народнической ориентации), статьи А.Я.Ефименко открыли "особость" статуса женщины в русской крестьянской семье, прежде всего в семье многопоколенной, со строгой дифференциацией ролей, прав и обязанностей11. Благодаря исследованиям А.И.Алмазова и С.И.Смирнова в конце XIX в. были введены в оборот ценнейшие источники по истории женского быта доиндустириальной эпохи — епитимийные сборники12.
На рубеже XIX и XX вв. за освещение своего исторического прошлого взялись сами женщины. Вслед за пионерками русского женского движения (Н.Норсини, М.Богдановой, Н.Сусловой), писавшими скорее публицистические статьи, нежели исследования, Е.О.Лихачева, М.Дитрих и Е.Щепкина попытались дать научное объяснение женского неравноправия, для чего обратились к весьма отдаленному прошлому. Их выводы мало чем отличались от выводов исследователей-мужчин. Истоки незавидной женской доли в России они видели в "утверждении патриархальных начал", влиянии православия и распространении византийской литературы. Любопытно, однако, что именно эти женщины-исследовательницы первыми отметили, что знаменитое затворничество русских женщин в Х\Л-Х\/11 вв. коснулось только "узкого слоя знати". Е.О.Лихачева и Е.Щепкина первыми оценили этот период как время осознания "ценности женской личности" в семье. Эмоционально, ярко, увлекательно были написаны ими некоторые исторические портреты выдающихся женщин Х\/111-Х1Х вв. — совсем иначе, чем это делали авторы-мужчины, выдвигавшие на первый план "истинных", с их точки зрения, героев (прежде всего императора Петра I)13.
Начало XX вена вписало новую страницу в "женскую историю" России. Она развивалась столь быстро, что ее летописцы не всегда успевали фиксировать события, стремительно сменявшие друг друга. Участницы Первого Всероссийского женского съезда (1908 г.) — а их было более 150-ти — старались дать возможно более адекватную и объективную оценку правовому и общественному статусу женщин различных социальных слоев в XIX — начале XX в., их деятельности на различных поприщах, определить перспективы борьбы за равноправие14. Однако публикаций, касавшихся имущественно-правового и семейного статуса русских женщин в эпоху средневековья и раннего Нового времени, практически, не было. Такая переориентация первых десятилетий XX в. легко объяснима, однако эта "смена вех" оказалась для научного изучения "истории женщин" в России роковой.
До 1917 года в российской исторической науке так и не появилось исследования, обобщающего сложную и противоречивую историю россиянок за первые девять веков. Сосредоточенность на одних лишь проблемах истории женского движения, на социально-политических сторонах женской истории (а именно этим характеризовались работы беспокойных российских деятельниц, боровшихся за равноправие в начале XX столетия) сузили широкое поле исследований. Одновременно они наложились на весьма ограниченное восприятие женского движения лишь как "части революционного потока" в марксистско-ленинской теории15. Большевики, пришедшие к власти в октябре 1917 г. "отменили" деятельность всех женских организаций (они были названы "буржуазными") и негласно отвергли необходимость написания какой-то особой, "женской истории". Женщины — согласно марксистской теории — не представляли собой класса; следовательно, их статус и устремления как части населения, объединенной общими внеклассовыми интересами, представлялись вымыслом, фикцией. Идея создания фундаментальных исследовательских работ по истории женщин в России Х-Х1Х вв., освещающих социально-экономические, историко-правовые, а тем более ментально-религиозные ее стороны, — оказалась фактически отверженной.
2. Вопросы "женской истории" в трудах советских исследователей (1917 — 1985)
К счастью, "женская тема" не совсем исчезла со страниц первых послереволюционных изданий. Но в лавине публикаций 20-х гг., посвященных "раскрепощению" женщины в Советской России, с трудом можно было отыскать что-либо касающееся "женской истории" досоветского, а тем более — доиндустриального времени. Тем значительнее поэтому результаты исследования М.Аронсон и С.Рейсер о литературных салонах и кружках 1830-х гг. Авторам удалось показать, что после неудачного восстания декабристов, в условиях запрета создавать политические организации, умные и образованные хозяйки литературных салонов выступили создательницами центров, в которых "зарождалась, воспитывалась и созревала русская мысль"16.
Работа М.Аронсон и С.Рейсер оказалась едва ли не единственной: идеологическая обработка "женских масс", нашедшая отражение в 30-е гг. в постановлениях партии и правительства по "организации политического воспитания женщин", требовала научного обоснования женской активности совсем иного, несалонного характера. В работах второй половины 30-х гг. появилось настойчивое противопоставление "ужасного прошлого" русских женщин и их "прекрасного настоящего". "Рабская забитость" женщин в средневековье и раннее Новое время противопоставлялась свободному труду на социалистическом производстве. При этом допетровская эпоха в "истории женщин" России рисовалась и вовсе периодом полного бесправия, невежества и темноты. Редкие работы некоторых медиевистов, посвященные героиням древнерусской внешней политики — ярким и энергичным женским личностям (Анастасии Ярославне, Евфимии Владимировне), а также знаменитой новгородской "посаднице" Марфе Борецкой17, остались незамеченными, потонув в море идеологизированных сочинений на злобу дня. А вскоре создание исторических работ о царях и князьях (и, следовательно, о царицах и княгинях) было и вовсе признано "пройденным этапом" в историографии.
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. вышло немало агитационно-публицистических очерков (в том числе в виде брошюр), в которых настойчиво педалировалась тема традиционности женского героизма в России, самопожертвования и самоотдачи женщин. Этот мотив прозвучал и в первой диссертации о русских женщинах-врачах, защищенной в трудных условиях войны18.
Та же идея звучала в исследованиях по истории "решения женского вопроса в СССР", выпущенных в послевоенные 40-50-е годы. Женский вопрос окончательно свели к "неотъемлемой части общей борьбы рабочего класса за свое освобождение". Исходя из этого тезиса, было объявлено, что фактическое освобождение женщины возможно лишь "при условии полного равноправия трудящихся, то есть при социализме"19. Многочисленные работы по истории "решения женского вопроса", публиковавшиеся в то время в столице и на периферии, страдали общими недостатками советской исторической науки того времени: заданностью итоговых выводов, ограниченностью источниковой базы (использовались только опубликованные статистические материалы), традиционностью и, можно сказать, "истасканностью" методик (экономические факторы во всех исследованиях оказывались определяющими и на них обращалось наибольшее внимание). Тем не менее, авторы многих публикаций того времени (особенно В.Л.Бильшай, Н.Д.Араловец) заслуживают благодарности: они собрали и обобщили большой фактический материал20.
Одновременно в послевоенной российской науке заметно оживился интерес к исследованиям по истории быта. Автор оригинального исторического эссе "Люди и нравы Древней Руси" — Б.А.Романов попытался впервые с советской науке представить картину повседневности "всякого человека Х1-Х1П вв." и потому описал образ жизни горожанок и крестьянок, женщин свободных и зависимых, княгинь и холопок. Главным источником он избрал ранние покаянные книги и летописи. Опыт его был успешным — но, однако же, в течение почти двадцати лет книга Б.А.Романова была единственным социально-историческим исследованием, освещающим быт и повседневность женщин доиндустриальной эпохи21.
Новый всплеск интереса к истории русских женщин относится к концу 50-х — началу 60-х гг. Само понятие женский вопрос получило тогда новое определение в российской историографии22, но "обходившее" многие важные аспекты темы — демографический, сексологический, социально-психологический, культурно-религиозный, которые не могли быть проанализированы в научной литературе, создававшейся в прокрустовом ложе марксистских схем. Большинство работ того времени доказывало "решенность" женского вопроса, окончательность "освобождения женщины". И лишь в исследованиях специалистов по традиционной этнографии отмечались не только успехи, но и серьезные недочеты на этом пути, опасность ломок традиционных отношений и структур (многопоколенной семьи, семейного воспитания детей)23.
Труды российских этнографов, посвященные хронологически середине прошлого — началу нынешнего столетия, формировали в эпоху стагнации — 60- начало 80- х гг. - круг исследований по истории повседневности и быта. Иногда в них встречались попытки рассмотреть и статус русских женщин допетровской и раннеиндустриальной эпохи. Но чаще вопросы "женской истории" рассматривались в них лишь попутно с изучением эволюции форм семьи и особенностей распределения семейных ролей в традиционной русской семье24. Несмотря на господство устоявшегося мнения о бесправии и униженности женщин в досоциалистическую эру, некоторые исследователи пытались подвергнуть его сомнению и воссоздать объективную картину социально-правового и семейного статуса женщин Х-Х1Х вв., подчеркнув традиционность их крепкого имущественного положения в семье, права на развод25.
Тема "женской повседневности" анализировалась в исследованиях по истории городского быта и культурной жизни русского города ХШ-Х\/111 вв.26 Значительный вклад в изучение духовного мира человека добуржуаз-ной эпохи, меняющихся представлений о семейных и вообще жизненных ценностях и следовательно, об отношении к женщине в обществе внесли в
20-70-е гг. филологи, анализировавшие "идеализирующие жанры литературы" — агиографию, летописи, повести, учительные сборники, а также философы27. Этнографические аспекты темы — предбрачная и брачная девичья обрядность, особенности материнской педагогики в традиционной крестьянской семье, женского досуга и развлечений (хороводов, посиделок), эволюция женского костюма и украшений — были представлены в многочисленных статьях и даже специальных разделах в монографиях, вводивших в оборот новые источники. Однако подобное многотемье (а подчас — и мелкотемье) не создавало единой картины. Никто не пытался обобщить полученные результаты, не предпринималось попыток составить общую картину социального и семейного статуса женщины (например, крестьянки или работницы)28.
К середине — концу 80-х гг. длительный период накопления фактических знаний закономерно должен был смениться их синтезом, временем создания концепций, объясняющих общее и особенное в "истории русских женщин". Актуальность темы была настолько остра, что даже в условиях господства марксистского единомыслия появились первые статьи, авторы которых решались спорить с общепризнанными постулатами - об униженности и бесправии женщин досоциалистической эпохи, их пассивности, необразованности и темноте — и доказывали обратное29.
3. Новейшие разработки в области "женской истории" в России: направления и методы научного поиска (1986—1997 гг.)
В последнее десятилетие круто переменилось отношение к "женской истории" во всем мире30. Она превратилась в особое направление научного поиска — наряду с "историей сексуальности", "историей детства", "историей эмоций" и демографической историей. Эти новые направления и методы исторического анализа медленно и не беспрепятственно, но все же становились известны и в нашей стране, ученые которой стали активнее принимать участие в международных конференциях.
Попытки вписать собственные исследования в контекст мировой историографии31, изменить свой ракурс исторического видения первыми стали предпринимать специалисты по всеобщей истории, которые были лучше информированы. Появились работы российских историков о социально-правовом статусе женщин в средневековой Франции, Литве, Англии32. Однако использование новейших западных методик исследовательского анализа сковывалось в российской исторической науке вплоть до середины 80-х гг. господством марксистских представлений об униженности и подчиненности "прекрасного пола" в досоциалистических формациях, невниманием к отдельным индивидуумам. Существенным и важным почиталось лишь изучение глобальных процессов и политических катаклизмов, а исследования быта и религии в лучшем случае относились к сугубо этнографическим темам, а в худшем — вообще объявлялись "второстепенными" по значимости.
Новые подходы к изучению "женской истории" в России с конца 80-х гг. стали применяться теми представителями российской науки, которые оказались способными порвать с прежними идеологическими схемами. Их устремления совпали с исключительным интересом к женской истории рядовых читателей. Именно этим объясняется огромное число репринтных изданий — публикаций исторических портретов выдающихся русских правительниц (Екатерины I, Екатерины II Великой), беллетризированных сочинений М.И.Семевского, Д.Л. Мордовцева и др., а также книг и статей научно-популярного характера .
За "женскую тему" разом взялись социологи34, психологи и сексологи35, философы36. Ученые смежных с историей гуманитарных наук, используя свои методы анализа, свой понятийный аппарат, доказали многогранность и междисциплинарность не только "женской темы" как таковой, но и проблемы "женщины в русской истории". Большую роль в привлечении к ней внимания сыграли в конце 80-х — начале 90-х гг. и публикации источников — воспоминаний и писем русских женщин; фотоальбомов, раскрывающих их судьбы; новых статистических данных, а также тематических подборок фольклорных материалов37.
Какие же проблемы и периоды в "истории русских женщин" привлекли внимание российских историков в первую очередь?
Допетровский период их истории (Х-Х\/11 вв.) раскрыт в исследованиях нескольких историков и юристов. Так, социально-правовой и семейный статус древнерусских женщин, особенности их быта, манеры одеваться рассмотрены в наших публикациях; немалое значение имела также диссертация (и написанная на ее основе книга) юриста М.К.Цатуровой о русском семейном праве38. Общий вывод М.К.Цатуровой совпал с нашим: допетровская Россия не была "сонным прудом, в который оседало государство" (А.И.Герцен), а являлась страной с развитой юридической системой, предоставлявшей женщинам привилегированных социальных страт значительные имущественные и иные полномочия (право на развод, на свою "часть" в имуществе, право свидетельствовать и самостоятельно действовать в суде). Безусловным вкладом в изучение "истории женщины" стали также диссертация А.Л.Юрганова о политической истории России 30-50-х гг. XVI в. (то есть о регентстве Елены Глинской) и монография Н.А.Васецкого о русских правительницах из рода Романовых. А.Л.Юрганов и Н.А.Васецкий показали своеобразную преемственность в традициях женских правлений в России даже в эпоху господства "теремного затворничества" XVI-XVII столетий39. "Выдающие женские личности" — Алена Арзамасская, царевна Софья, боярыня Морозова — привлекли внимание ряда историков своей неординарностью, "выпадением" из общего ряда. Однако авторы биографических очерков об этих замечательных женщинах не ставили задачи определить, при каких обстоятельствах время рождало подобных деятельниц, насколько их судьбы были типичными или, напротив, уникальными40.
Значительное менее исследованной — по сравнению с экономико-правовой сферой — оказалась сфера частной жизни женщин допетровского времени, мир их чувств и представлений. К рассмотрению подобных сюжетов были близки литературоведы41. Однако специальных работ, анализирующих эволюцию эмоциональной сферы, динамику изменений разрешенного и запрещенного (в том числе — в отношении к женщине), работ по истории формирования менталитета различных слоев древнерусского общества создано не было. Мало исследованными оказались и вопросы, связанные в "женской истории" с исторической демографией: эволюция представлений о материнстве и материнском воспитании, различия в воспитании девочек и мальчиков, "детность" русских семей допетровского времени, особенности регулирования числа деторождении почти не изучались42.
XVIII век и трансформации в статусе женщин всех слоев после вступления России на путь европеизации оказались исследованными еще елабее, нежели допетровский период. Этих сюжетов касались, как правило, специалисты по русской классической литературе и авторы предисловий к публикациям мемуаров россиянок, живших в "просвещенный вен" 43. Наиболее ярким и, по сути дела, первым глубоким исследованием образа жизни представительниц "образованного сословия" в конце ХУШ-начале XIX в. были главы "Женский мир" и "Женское образование" в последнем (изданном уже посмертно) труде основателя тартусской школы исторических исследований Ю.М.Лотмана "Беседы о русской культуре". Но работа Ю.М.Лотмана касалась только одной стороны жизни представительниц российской элиты — внешней, образно-символичной, "знаковой" по сути и проявлениям. Аналогичную попытку предпринял в те же годы А.Ф. Белоусов в весьма фундированном очерке "Институтка", построенном на анализе многочисленных мемуаров воспитанниц Смольного института разных лет (1780-х — 1900-х гг.) . Беллетризированные эссе о жизни русского двора и "любовном быте" русских императриц и их фрейлин удовлетворяли лишь невзыскательных читателей. Написанные непрофессиональными историками45, они не снимали необходимости обстоятельных и серьезных исследований, использования биографического жанра как пути постижения "истории Личности", индивидуума.
Судьбы и повседневный быт представительниц других сословий императорской России — мещанского, купеческого, работных людей первых мануфактур — оставались вне исследовательского интереса российских историков. Работы духовных лиц о православном женском монашестве, увидевшие свет благодаря обеспечению фактической (а не декларируемой) свободы совести в начале 90-х гг., не были исследовательскими и носили скорее познавательно-просветительский характер46. Лишь благодаря этнографам, преимущественно — сибиреведам, оказался проанализированным семейный быт и имущественно-правовой статус крестьянок XVIII столетия, особенности распределения семейных ролей и владения имуществом старшими и младшими женщинами в многопоколенной и сложной по составу семье47. Описывая календарные и религиозные праздники, обряды, традиционные игры русских крестьян, этнографы не могли обойти вниманием роль и участие в них женщин. Однако в их исследованиях не ставились вопросы собственно "женской истории" : причины неполноправия, примеры необычного (девиантного) поведения, особенности жизненного цикла женщин разного семейного статуса (девиц, замужних, вдов, "соломенных вдов").
Те же пробелы, та же сосредоточенность на одних и тех же вопросах крестьянского семейного быта (а следовательно — и статуса русских крестьянок) характерны и для тех исследователей, которые работали с исто-рико-этнографическими материалами XIX столетия. Основной круг источников — данные информаторов Этнографического бюро кн. В.Н.Тенишева — мало расширился по сравнению с предшествующими десятилетиями. Поэтому при исключительной проработанности историко-юридических аспектов темы (связанных с землепользованием, имуществом и его разделами), подробном изложении обрядов и праздников48. Неисследованными оставались другие, например — историко-психологические аспекты темы: не изучалось взаимопроникновение элементов народной и официальной культуры, мир чувств русских крестьянок, их отношение к деторождению, нормам сексуальной этики.
Последняя из названных тем до настоящего времени была одной из "идеологически исключенных". Поэтому обращение к ней петербургских историков (авторов книги о российской проституции) стала своеобразным тематическим "прорывом"49. Основанная на богатейшем архивном материале, до этого не вводившимся в научный оборот, на данных прессы и судебно-медицинской статистике, эта книга доказывала неискоренимость "продажного секса" как социального явления, в том числе в условиях тоталитарной социалистической системы (рассматриваемая книга была редким исследованием, ставившим задачу проследить эволюцию явления с 40-х гг. XIX в. до 40-х гг. XX в.). К сожалению, авторы не поставили перед собой цели исследовать ранние формы российской проституции (в Х\/1-Х\/111 вв.) и — вслед за русской юридической наукой XIX в. — начали изложение материала с эпохи буржуазных реформ.
Переориентация исследовательских интересов, связанная со снятием запретов на "историю царей и князей", наложила отпечаток и на "женскую историю". Интерес к жизни представителей высших слоев российского общества от Александра I до Николая II, заставил исследователей сделать попытку проникнуть в духовный мир наиболее образованных и ярких (в социальном смысле) женщин. Исторические портреты первых известных писательниц, поэтесс, хозяек литературных салонов, вдохновительниц известных мастеров слова, равно как исполнивших свой общественный и супружеский долг декабристок восполнили потребность в подобных исследованиях50. Однако увлекательное изложение женских судеб (подчас очень драматических) парадоксальным образом уводило создателей очерков от стремления к типизации (то есть как раз от того, чем отличались работы "крестьяноведов"). Тем, кто создавал и "одушевлял" российский усадебный быт — женщинам, их миру, их повседневности, ее элементам и характерным чертам (распорядку дня, заполненности досуга, кругу чтения) — было уделено явно недостаточное внимание даже в прекрасном коллективном труде "Мир русской усадьбы"51, в котором галерея портретов россиянок, достойных памяти потомков, пополнилась новыми именами (Е.М.Бакуниной, С.Ю.Самариной, Э.Тютчевой и др.). Те, кому приходилось писать о русских женщинах из высшего общества, не анализировали их правовой и имущественный статус52; в свою очередь, "крестьяноведы" изучали тему лишь с точки зрения места женщины в системе обычного права, а не принятых законов и их выполняемое™.
Социальная активность женщин по сложившейся традиции рассматривалась в рамках принятых стереотипов — то есть широты их участия в общественной жизни, "борьбе за равенство прав"; правда, нельзя не отметить в этих работах новых подходов к теме самореализации женщин в условиях действия ограничительных социальных норм (например, первых исследований по истории женской благотворительности) .
Прошедшая в 1995 г. в Петербурге научная конференция "Феминизм и российская культура", давшая название одноименному сборнику статей, подвела итог новейшим изысканиям в данной области, показав, какие темы избираются сейчас исследователями и считаются приоритетными54. Безусловный интерес представляли размышления участников конференции о "взаимопритяжении" и "взаимоотталкивании" ("точках пересечения") марксизма и феминизма — как в прошлом, так и в настоящем, а также вывод о том, что "встреча" этих двух направлений в решении женского вопроса неизбежна55. Одновременно выяснились наименее изученные аспекты истории женского движения и вообще "женской истории" в России: история возникновения женской интеллигенции и первых женских объединений (в начале XIX в.), история "антиподов" — женщин-мучительниц (Салтычиха), фурий", нигилисток и террористок; "история повседневности" городских жительниц — особенно мещанок и купчих, их умонастроений, моделей ее жизни, ее циклов .
В последние годы весомый вклад в оценку статуса русских женщин в разные — в том числе избранные нами — эпохи вносят этнологи, анализирующие в своих работах, какие черты демографического и вообще социального поведения женщин являются традиционными, а какие — новыми, подчас наносными57. Благодаря исследованиям этнологов выявлена стабилизирующая роль женщин в национально-смешанных браках, механизмы воспроизводства этнокультурных традиций и роль женщин в их передаче, трансформации в распределении семейных ролей.
Подводя итоги почти двухсотлетнего изучения "женской истории" в России, стоит подчеркнуть, что — несмотря на постепенное расширение проблематики — подходы к изучению этого вопроса остаются у российских историков прежними. "Женская история" — как и в большинстве европейских стран — рождалась в России постепенно, выкристаллизовываясь из "общей истории", из общих проблем, но самостоятельной, признанной сферой гуманитарного знания все еще не стала. Действительной интеграции наук в ее изучении также пока не произошло. Развитие "женской истории" идет экстенсивным путем — путем расширения проблематики, "дробления" тем. Новые же методы, апробируемые западной наукой, используются лишь специалистами по "всеобщей истории".
2. Зарубежная историография "женской истории" в доиндустриальной России
Интерес зарубежных ученых к истории русских женщин вообще и к эволюции их социального и семейного статуса в доиндустриальную эпоху в частности вызван не только появлением исследовательского направления Women and Gender Studies, интересом к истории Человека и Личности. В рамках изучения быта, повседневности, русского национального характера, политической, культурной и религиозной истории России "женская тема" затрагивалась на протяжении почти двух столетий неоднократно.
Уже в 1825 году русский князь А.Лобанов-Ростовский издал в Париже сборник документов, посвященный жизни и деятельности вышедшей замуж за короля Франции Генриха I дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны, пробудивший интерес к истории России раннего средневековья. В том же году виконт де Сен-Амур использовал собранные А.Лобановым-Ростовским документы, написав книгу об этой русской княгине1. Интерес к истории династических браков заставил тогда многих зарубежных ученых обратиться к биографиям русских женщин XII-XVIII вв., ставших женами европейских монархов2. Другой популярной темой зарубежных ученых на протяжении десятилетий оставалась история русского быта, в частности — во времена Ивана Грозного, воссоздававшаяся по опубликованным в то время дневникам и дорожным запискам иностранных путешественников XVI-XVII вв. Немецкие, французские, английские и польские исследователи, сравнивали права и общественное положение россиянок в Московском государстве XVI века с правами и статусом их современниц в европейских странах в эпоху Ренессанса и Реформации — разумеется, в пользу последних3. Однако вместо объективного анализа зарубежный читатель имел возможность изумиться экзотическим подробностям варварских обычаев и нравов "московитов" 4. Впрочем, известному английскому автору исторических биографий Дж.Дженкинсу удалось представить английскому читателю яркий образ русской самодержицы Екатерины II, сопоставимый по значимости личности с Изабеллой Кастильской и Елизаветой Английской5.
Лишь русский по происхождению ученый Н.Мельников, опубликовавший на рубеже XIX и XX вв. труд о русских женщинах, попытался обосновать иное мнение. Он настаивал на том. что на "Руси со времен Ольги женщина занимала высокое положение в обществе, обладала правом собственности, осуществляла дипломатические миссии". Отмечая "ухудшение" социального и правового положения женщин в России XVI-XVII вв., он, вслед за немецким юристом Е.Гроссе, называл в качестве его причин "развитие патриархального начала" и воздействие православия, приведших к "полному подчинению и деморализации женщин"6 .
Французскую историографию начала XX в. по рассматриваемому сюжету представляют работы Адольфа Рамбо. "Женщины в России, как и в Риме,- писал он,- были вечно "младшими", зависевшими вначале от отца, затем от мужа, братьев, сыновей". С такой оценкой социального и семейного статуса русских женщин в позднее средневековье и в Новое время не был согласен его соотечественник Е.Дюшесн. В предисловии к переведенному им на французский язык в 1910 г. "Домострою", он писал (в отличие от А.Рамбо): "Не следует распространять заключения Сильвестра (о женщинах- Н.П.) на все слои русского общества,., идея patria potestas, отразившаяся в этом литературно-публицистическом памятнике, должна рассматриваться в контексте остальных источников того времени". В то же время Е.Дюшесн не отрицал "исключительной ценности "Домостроя" для изучения жизни женщин Московии XVI в."7.
В английской историографии начала XX в. "женская тема" затрагивалась в нескольких беллетристических сочинениях, подобных сочинениям Ф.Моллой. В одном из своих увлекательных романов — "Русский двор в XVIII столетии" — он собрал немало действительных фактов из истории России того времени. Однако особенности политической жизни страны, которой почти на протяжении целого столетия управляли женщины, интересовали его в довольно традиционном аспекте: он рассуждал о том, насколько эта особенность России "задержала" ее развитие по пути европеизации8, не жалел красок на описание балов, дававшихся русскими императрицами, и их любовных интриг.
В 20-е гг. XX в. французский историк Б.Шаль и американская исследовательница Е.Елнет предприняли попытку осветить положение незнатной русской женщины ( в частности, крестьянки) в разные исторические эпохи. В то время в зарубежной историографии была общепризнанной точка зрения Е.Гроссе о безусловном преобладании в Средние века большой семьи. Поэтому выводы Б. Шаля и Е. Елнет о существовании в средневековой и Московской Руси семьи "нуклеарного типа" следует признать безусловным шагом вперед. Говоря о XVI-XVII вв., Е.Елнет считала "Домострой" памятником, наиболее адекватно отразившем быт женщин в то время. Он, подчеркивала исследовательница, был создан как "домашнее руководство" для московской элиты, но "стал абсолютным авторитетом для представителей среднего класса, прежде всего купцов". Крестьяне, с ее точки зрения, позже других ознакомились с постулатами "Домостроя", но были социальной группой, "наиболее долго сохранявшей и поддерживавшей домостроевские традиции в семейной жизни". Социальное и семейное положение крестьянок и вообще представительниц "трудовых слоев" отличалось в лучшую сторону от статуса женщин иных сословий, — писала Е.Елнет, — поскольку они были "сопроизводителями" (co-worker), а их работа — значительным фактором ("молчаливой поддержкой") функционирования семейной экономики. Никаких существенных изменений в статусе женщин Московии XVI в. по сравнению с предыдущими столетиями автор не наблюдала, полагая, что они относятся к послепетровскому времени. К концу XVIII в. Е.Елнет относила зарождение "инстинктивного феминизма", "который действовал скрыто, но был успешным", так как именно в то время, в екатерининскую эпоху, "женщины были допущены к образованию и готовились к борьбе за равенство политических прав"9.
Литературно-художественную обработку драматической истории русских женщин с X по XIX вв. зарубежный читатель 20-х гг. мог найти в книге "Русская женщина", написанной известным в то время популяризатором И.Валишевским. Рисуя исторические портреты русских женщин древнего периода (в XVI в. его не привлекла ни одна фигура, а в XVII-om -лишь царевна Софья!), он исходил из тезиса о том, что превосходство женщин над мужчинами являлось "лейтмотивом русской культуры". Оно брало начало, полагал беллетрист, "в практическом равенстве полов", исчезнувшем вместе с появлением теремов под влиянием "восточного материализма и византийского аскетизма". Появление "теремной системы" на Руси автор относил ко времени "Бату-хана (т.е. к середине XIII в.) и считал, что эта система просуществовала несколько столетий. Терема К.Валишевскй остроумно называл "смесью греко-римского гинекея, монастыря и гарема" 10. С точки зрения К.Валишевского, XVI в. не был рубежом в истории русских женщин. Изменения, как он считал, произошли раньше, так что труд Сильвестра, бывший "куда более строгим по отношению к женщинам, чем аналогичные своды правил в Париже того времени", лишь "аккумулировал большую коллективную работу нескольких поколений в выработке концепций и предписаний". При этом автор не обольщался насчет их беспрекословного выполнения и отмечал сохранившуюся "свободу женщин из среды привилегированных сословий(?-/-/./7.)". Любопытны рассуждения Валишевского о "засилье женщин" в России XVIII в.11: в них просматривается ярко выраженный тезис о мужском превосходстве (называемый в современной американской историографии — по аналогии с расизмом — сексизмом), особенно в областях традиционного господства "сильного пола" (внешняя и внутренняя политика, военное дело).
В 30-е гг. одним из виднейших франкоязычных специалистов по русской истории был А.Экк. Его труд "Русское средневековье", наравне с "Историей России" упомянутого нами А.Рамбо, принадлежал к классическим работам по русистике того времени12. Но выводы двух ученых, касающиеся "русской женской истории", были противоположными. А.Рамбо считал, что в России "женщина была зависима и подавляема"; А.Экк же полагал, что "женщина выполняла важные социальные роли",а ее "статус оставался без изменений до середины XVII в." Анализируя юридические памятники XIII-XVI вв. и сопоставляя их с нарративными, он справедливо отмечал, "что лишь сравнительный метод действительно полезен в исследовании сложных проблем истории русских женщин и может предостеречь от поспешности в выводах". Обратившись к летописям, завещаниям, залоговым документам, он показал, что "во всех слоях русского общества. женщины были весьма независимы вплоть до конца средневековья" (имея в виду под "независимостью" возможность самостоятельного заключать сделки13). XVI век А.Экк причислил к средневековью; более поздние эпохи не были включены им в обзор, а потому из его исследования не было ясно, произошли ли какие-нибудь изменения позднее, и если "да" — то чем они были вызваны.
В 1933 году на VII Международном конгрессе историков был заслушан доклад польской исследовательницы Л.Харевичовой "Возможно ли написать специальную историю женщины?". К выводу о необходимости ее создания Л.Харевичова пришла в результате изучения истории экономики, тендерный аспект которой никогда до этого не учитывался. В прениях по докладу говорилось о необходимости создания работ по истории социального положения женщин в разных странах и в разные эпохи. Л.Харевичова готовила к изданию монографию по истории женщин в Польше X-XVII вв., но изданию ее помешала война и смерть исследовательницы в фашистском застенке. Лишь богато иллюстрированный научно-популярный очерк Л.Харевичовой, опубликованный в 1938 г., дает возможность судить о значительной разработанности автором темы и важных выводах, в том числе об общности процессов развития брачно-правовых норм восточных и западных славян, об имущественном статусе женщин14.
В совершенно ином, "конъюнктурном" духе писали о прошлом и настоящем русских женщин в 30-е гг. в Германии15. Тан, например, книга дипломированного специалиста по русской истории А.Петмецки, вышедшая в Берлине в 1941 г., начиналась предисловием с символической датой " июня 1941 г." 16. Целью А.Петмецки было доказательство тезиса об усилении угнетения женщин после 1917 г., но и долгие века русской истории до этого события были обрисованы им одной лишь черной краской (голод, неполноправие, низкая правовая и сексуальная культура и т.п.).
Известный интерес к проблеме проявил в конце 30-х — начале 40-х гг. вышедший из семьи эмигрантов и живший в США Дж.Вернадский, ставший впоследствии известным историком. Одна из его статей была посвящена особенностям имущественного и правового статуса русских вдов в XVI-XVII вв. Верно отметив, что в основе изменений правового положения женщин лежал "комплекс социально-политических причин"17, Вернадский склонился к мнению, что "центральная власть задолго до XVI века стремилась ограничить наследование вдовами вотчинных владений, помешать им получить больше, чем малую часть собственности их мужей". XVI-XVII вв выступали у него в виде завершающего этапа этого процесса. Безусловным достоинством статьи Дж.Вернадского было выявление динамики развития русской правовой мысли в отношении дееспособности и прав женщин на наследование. В более поздних работах этого специалиста тоже имелись ссылки и неоднократные обращения к "женской теме". В частности, в одной из них отрицательные изменения в социальном статусе и семейном положении русских женщин, усиление их зависимости во времена "Домостроя", объяснялись как результат влияния системы ордынского властвования над Русью. Правда, Дж. Вернадский считал ее "прогрессивной и благотворно воздействовавшей на русскую культуру и государственность"18.
В таких толкованиях особенностей русской истории и "доминант", воздействовавших на нее, Г.Вернадский не был исключением. Для примера можно назвать имя другого выходца из России, изучавшего проблемы русской культуры — В.Я.Рязановского. Он прямо говорил о том, что "воспитание традиции безусловного подчинения жены мужу", "ужесточение моральных стандартов", берут начало во влиянии культуры и обычного права ордынцев, хотя "терема", "затворничество" монголам не были известны19.
В 40-50-е гг. польские историки и юристы А.Ветуляни, Н.Полонская-Василенко, С.Роман, а также французский исследователь Э.Сикар20 сделали предметом своего изучения экономические, политические и социо-демографические процессы в государствах западных, восточных и южных славян в эпоху феодализма. Коснулись они и интересующей нас темы. Одновременно Б.Лещинский, сопоставляя сведения массовых источников по средневековой истории (актов, судебных записей) с данными нормативных документов, доказал, что в славянских землях ( по крайней мере, в области права наследования и распоряжения недвижимой собственностью) женщина была дееспособна наравне с мужчиной того же социального ранга. В его монографии был собран материал, характеризовавший положение женщин и на русских территориях, оказавшихся к XVI в. в орбите влияния Литвы21. В свою очередь, американские социоан-тропологи Д.Шимкин и П.Саньюян22 сумели показать и доказать на конкретном материале значимость родовых и семейных связей, их необычайную крепость как структурообразующий фактор семейной организации в России, его влияние на высокий статус женщины в семье не только доин-дустриального, но и значительно более позднего периода.
Между тем, в 1960-х гг. изыскания польских историков права были продолжены и дополнены П.Жужеком, Дж.Мейндорфом и С.Романом23. "Женщины Восточной Европы, - писал, например, С. Роман,обладавшие несомненной юридической свободой, защитой со стороны законов, были тем не менее ограничены в проявлении своей воли со стороны "семейной власти" своих мужей. Это противоречие просматривается во всех областях семейной жизни.". С.Роман основывался в своих выводах на статьях нормативных актов Х-ХМ1 вв. и полагал, что "социальная роль женщины целиком зависела от ее юридического статуса". Так он приходил к заключению, что прочное имущественно-правовое положение женщин, наличие собственной "части" в общем имуществе, характерное для всей средневековой Восточной Европы, сохранялось и позднее: в Польше — до XV в., в Литве — до начала XVI в., а в России вплоть до XVIII в.24 Вслед за С.Романом его соотечественница А.Шимчакова показала перспективы исследования социально-политической активности русских княгинь на польском великокняжеском престоле, а польских — на русском (Елена Глинская)25.
В западноевропейских исследованиях по русской истории, вышедших после войны, "женская тема" долгое время упоминалась лишь в связи с вопросом об усилении патриархально-автократической "идеи" в эпоху Ивана Грозного26. Однако в них не было ничего нового по сравнению с достижениями русской науки XIX в., а само обращение к теме было связано с политико-идеологическими установками времен "холодной войны", требовавшими акцентировать внимание на традиционной "деспотичности" русского общественного строя и семейного быта. Единственным непредвзятым исследованием, непосредственно относящимся к теме, была тогда статья И.Неандер о "многозначности" влияния ордынского ига на русский быт и русскую культуру. Исследовательница писала, в частности, о "сравнительно свободном" положении женщин в домосковское время, "прежде всего в слоях господствующего класса, где они могли даже играть роль в государственной политике". Объяснение этому явлению автор находила во влиянии привнесенного татарами "мухаммедизма" (ислама). В то же время, несколько противореча себе, во влиянии Золотой Орды и двухвекового ига И.Неандер видела — наряду с влиянием Византии и "самодержавной централистской традиции" — одну из причин резкого усиления деспотизма как в самом государстве, так и в брачно-семейных отношениях27.
В конце 50-х гг. в германской историографии были предприняты попытки пересмотреть некоторые положения о статусе женщин в западноевропейском обществе позднего средневековья и раннего Нового времени. Но отношение исследователей к социальному положению женщин Московии того же периода осталось без изменений. Об этом можно судить по диссертации, защищенной в 1959 г. американской исследовательницей К.Клаус в Базельском университете. К.Клаус была ученицей известной западногерманской фольклорист-ки, историка и этнографа Э.Малер.
Источниковую базу работы К.Клаус "Положение русской женщины от введения христианства в России до реформ Петра Великого" составили описания Московии иностранными путешественниками, "Домострой" и нарративный материал. К.Клаус полагала, что этих источников достаточно для освещения "истории русских женщин" на протяжении восьми веков. За это время, считала автор, "история женщин" прошла несколько этапов: 988 — начало XIII в. ("женщина свободна и уважаема"; ХШ-Х\/1 вв. (господство "теремной системы") и XVII в. ("преодоление сковывающих рамок теремной системы и появление первых значительных для истории женских лично-стеи ).
Русскую женщину XVI в. К.Клаус изобразила обычной "теремной затворницей", а сам век назвала эпохой "подавления женских личностей". В качестве основной причины этого подавления и затворничества, возникшего, по ее мнению, еще до "Домостроя", она называла "стремление укрыть женщину, спасти ее во время набегов татар в теремах" (их она считала "татарским заимствованием", хотя в действительности у татар, конечно, никаких теремов не было). Помимо влияния ордынского ига, К.Клаус выдвигала и иные факторы, способствовавшие — как ей думалось — появлению "теремной системы" на Руси. Среди них были названы "хождение византийских аскетических писаний", существование женоненавистнической темы" в русской средневековой литературе и ее сохранение в менталитете русского общества раннего Нового времени". Эпоха Ивана Грозного представлялась К.Клаус временем, когда "женщины могли быть хорошими домохозяйками, супругами, матерями, набожными христианками, но в культурном отношении не играли никакой роли".
Изменение ситуации, начало социально-политической, административной и религиозной активности русских женщин К.Клаус связывала с появлением на политической сцене ряда громких имен (Анны Нарышкиной, Натальи Кирилловны, Натальи Алексеевны — т.е. личностей конца XVII в.). "Рамки теремного воспитания стали ломаться в конце XVI(-XVIII в., — заключала Клаус.- А реформы Петра I, поднявшего Россию до уровня передовых европейских держав, дали женщине возможность деятельности в социальной и культурной областях" 28. В этих выводах исследовательницы было заметно, с одной стороны, преувеличение широты прав женщин в XVIII в., с другой — недооценка периода XIII-XV вв., когда русские княгини весьма активно действовали и в хозяйственной, и в религиозной, и в политической сферах. Как, когда и по какой причине менялся социальный статус русских женщин, какова была подоплека и самый ход процесса изменений — этот наиболее сложный и дискуссионный вопрос был, к сожалению, мало разработан исследовательницей. Трудно не признать, что этой американкой — вслед за Е.Елнет — была проделана громадная работа "первопроходца" в изучении "женской истории" на русском материале. В большей мере ей удалось обобщить фактический материал о "высших сословиях". Это было продиктовано состоянием источниковой базы: в 1950-е гг. работа в советских архивах была неосуществимой мечтой любого западного исследователя, и все они пользовались лишь опубликованными источниками. Изучая только их, исследовательнице удалось тем не менее приблизиться к воссозданию картины правового статуса русских женщин Х\/1-Х\/11 вв.: настоятельниц монастырей, мамок знатных особ, полулегендарных личностей из литературных и агиографических произведений XVI в. Именно в этом ценность диссертации Клаус: она подняла новую проблему в то время, когда "женская тема", в том числе и история Человека, были еще периферийными сюжетами мировой исторической науки.
Некоторые аспекты истории русских женщин XVI в. были тогда затронуты и в работах, анализировавших этические идеи и историю православия, например, православную концепцию семьи и брака, культ Богоматери и его трансформацию29. Особый подход к изучению "женской темы" отразился в источниковедческих трудах того времени, определявших ценность записок иностранцев как источников по истории России Х\/1-Х\/11 вв.30 Эти труды свидетельствовали о постепенной переориентации историков на изучение "истории повседневности", "истории частной жизни", "истории Человека".
Начало нового этапа в зарубежной историографии изучения истории русских женщин доиндустриальной и раннеиндустриальной эпохи можно отнести к 1960-м гг. — времени, когда социальная антропология выделилась в особую отрасль исторического знания. Именно тогда американские исследователи уделили особое внимание изучению особенностей больше-семейной организации и вообще родственным отношениям у русских крестьян, а также традиционной для западной науки теме — анализу правовых установлений, связанных с закреплением и расторжением брака31. Большую роль в разработке этих вопросов сыграл П.Фридрих (США). В своих статьях32 он использовал и средневековые, и сравнительно поздние (Х1Х-ХХ вв.) историко-демографические показатели, стремясь проследить эволюцию смены форм семьи и трансформации статуса в них женщин. В его цели входило доказательство исконности и сохранности боль-шесемейной организации не только в раннее Новое время, но и в XIX в. Вслед за П.Мэрдоком33 П.Фридрих назвал русскую семью "компромиссной родовой группой", имея в виду ее "анахроничность социальным связям и в то же время ее производственную необходимость". Среди интересных выводов П.Фридриха, касающихся "женской истории" — его концепция "бабушки как структурообразующего фактора", т.е. обязательного наличия в русских семейных организациях одной или нескольких пожилых женщин, помогавших в уходе за детьми и просто по хозяйству. Он считал это традиционным, устойчивым и типично русским явлением семейной организации. Среди основных доминант, определивших характер и развитие русской семьи, ученый называл "домашний коммунализм", обычаи и нормы православия, экономико-социальные факторы, в том числе миграционный, а также этнокультурные особенности .
Этнокультурные факторы как предмет специального анализа оказались в центре внимания соотечественника П.Фридриха, профессора Г.Л. Яни35.
Он подошел к этой теме с социально-психологическй точни зрения, исследуя "роль главы семейной группы и подавление личной самостоятельности ее членов", систему управления семьей посредством "идеи грешности упования на собственные силы", идею патриархальности в исторической перспективе.
В это время для американской историографии стало типичным распространять черты семейного и социального статуса русских крестьянок XIX в. на предшествующий период, смешивая особенности разных эпох и усматривая причину приниженного положения женщин в бытовании крестьянских нравов во всех слоях русского общества36. Одновременно появилась и противоположная точка зрения — о том, что женщина в России была традиционно "сильной личностью", способной "затмевать" героев-мужчин, сохраняющей эмансипированность и в современном обществе37. О значительной роли и даже "власти" женщины в русской семье прошлого и настоящего писали тогда и французские историни Ж.Квизиньер и К. Ра-гэн. Они пришли к этим выводам на основе анализа материнско-отцовской организации русских семейных структур "расширенного типа", существовавшего согласно их гипотезе, с древности до конца 1890-х гг.38 Аналогичной точки зрения придерживалась и американская социо-антропология. Согласно исследованиям П.Ласслета и Р.Уолла 1980-х гг., типичными чертами русского расширенного домохозяйства были низкий брачный возраст женщин, высокая численность объединенных семей, типичность совместного проживания взрослых детей с родителями, использование некоторых членов семейного коллектива как домашних работников, постоянство процесса возникновения объединенных домохозяйств — и в то же время "расщепления их" на отдельные через семейные разделы39.
В середине 70-х гг. соотечественник П.Ласслета М.Шефтель впервые среди фамилистов обратил внимание на "историю детства" в России, сделав попытку охарактеризовать правовое положение детей, эволюцию прав и обязанностей родителей по отношению к "чадам", а также вопрос о признании за детьми с определенного возраста правовой дееспособности, равно как соответствия прав законнорожденных детей и бастардов. Сложность выделения особых функций матери по сравнению с отцом в средневековых русских семьях (поскольку русские законы рассматривали "родительские права и обязанности без дифференциации по полу") помешала исследователю сделать какие-либо новые выводы о статусе именно женщин (матерей, бабушек, дочерей) в семейных структурах Х\/1-Х\/11 вв. М.Шефтель подчеркнул лишь такие особенности русского юридического быта как обычность опекунства женщин над несовершеннолетними детьми, равенство прав и обязанностей родителей по отношению к собственным детям и приемышам40.
Заканчивая обзор зарубежных работ по истории русской семьи, затронувших проблемы семейного статуса россиянок (в том числе в XVI в.), следует упомянуть сборник "Семья в империалистической России", изданный под редакцией Д.Рэнсела41. Раздел, посвященный ранней истории русской семьи, служил в нем лишь своеобразным введением в тему и доказывал сосуществование в России двух типов семьи (большой и нуклеар-ной, малой) с древнейших времен. Одновременно с упомянутым сборником, зарубежные этнологи и правоведы из разных стран выпустили фундаментальный труд "Брак и повторный брак у народов прошлого". Раздел, посвященный истории Восточной Европы, был написан румынскими этнографами Ст. и В.Паскю. Их главный тезис сводился к утверждению о существовании "большей свободы женщин в России по сравнению с Западной Европой", поскольку, считали исследователи, "на Руси искони существовало бракоразводное право и женщины обладали этим правом даже в эпоху абсолютного господства патриархальной идеи" 42.
Среди работ американских исследователей истории русской общественной мысли выделяется монография Г.П.Федотова — специалиста по истории православного вероучения. Писалась она не один год. Явный крен Федотова в сторону утверждения тезиса об исконной религиозности русского народа очевиден. Эта позиция повлияла и на его оценку вопросов "женской истории". Тем не менее, едва ли не первым среди зарубежных авторов Г.П.Федотов обратил внимание фамилистов на сборники для назидательного чтения ("Измарагды", "Пчелы", патерики), а также на православные пенитенциалии — епитимийники, на необходимость всестороннего изучения русских модификаций сюжета о "злых женах". Вслед за ним интернациональность филиппик о "злых женах" в литературах Западной и Восточной Европы позднего средневековья и раннего Нового времени показал В.Ледерер. Причину исключительной популярности женоненавистнической темы в средневековых литературах оба автора правильно связывали с дуалистическим характером мировоззрения людей того времени, идеологическими функциями религиозного учения — обоснованием иерархичности семьи, необходимости подчинения женщины главе семьи, внедрением православных этических норм43.
Параллельно с возрастанием интереса к изучению историко-демографических проблем русского прошлого, духовной культуры и этических представлений русского народа, с начала 60-х гг. за рубежом начался рост числа публикаций по социально-политической истории России, прежде всего XVI и XVIII вв. Ученых в Европе и Америке привлекали неоднозначные личности выдающихся государственных деятелей России — Ивана Г розного, Петра I, Александра I, их современников и сподвижников. Стремление понять великих людей, осмыслить мотивацию их действий заставляло исследователей обращаться к истории их частной жизни, личным драмам — в связи с чем предпринимались попытки воссоздавать исторические портреты некоторых женщин, окружавших их. Делалось это, как и в прежние времена попутно, при изложении жизненных перипетий русских самодержцев44.
Личность Екатерины Великой вполне вписывалась в ряд выдающихся правителей России (неслучайно, она сама подчеркивала свое стремление ни в чем не уступать великим мужам прошлого). Впрочем, другие представители "российского матриархата XVIII столетия" тоже оказались не обойденными вниманием зарубежных историков, написавших ряд ярких биографий русских императриц45. Однако общей чертой исторических биографий известных русских правительниц было стремление оценить их с точки зрения соответствия правителям-мужчинам; "генеральной линией" исследований было доказательство постепенного развития "патриархальной" идеи в русской политике (как основы тоталитаризма и абсолютизма), и поэтому даже женщины-самодержицы выступали ее проводницами. Многие факты, связанные с участием женщин в жизни русского общества — как средневекового, так и Нового времени, — не только не объяснялись, но просто опускались46.
Между тем, 70-е годы, когда собственно и было написано громадное число исторических биографий, были в Западной Европе и Америке временем свершения "невидимой революции" в гуманитарном знании — повышения интереса к интердисциплинарным исследованиям, исторической демографии, социальной истории (которую стали отделять от истории политической, религиозной и т.д.), рождения интереса к Человеку, личности, индивиду, возникновения новых исследовательских направлений — women's studies (а с середины 80- гг. — тендерного анализа), "истории детства", "истории повседневности", "истории сексуальности", "истории мен-тальностей". Отзвуки этих трансформаций в мировой гуманитарной науке, совершившихся в течение описываемого десятилетия и определивших тенденции развития "россиеведения" за рубежом в последнюю четверть века, нашли отражение в расширении тем, постановке новых проблем47.
В 1975 г. на базе Стэнфордского университета (США) была проведена первая конференция на тему "Женщины в России: изменяющиеся реальности и меняющиеся представления". Из докладов ее участников в дальнейшем был составлен сборник статей. Вводная статья к нему, рисующая историю русских женщин в допетровское время, принадлежала редактору сборника. Д.Аткинсон, не была склонна преувеличивать степень "социальной униженности" русских женщин, а "киевский период" (X-XIII вв.) вообще представал у нее "золотым веком" их истории. Как специалист по сравнительно-историческим и экономическим вопросам, Д.Аткинсон обратила внимание на нормативное закрепление сравнительно широких (для своего времени) имущественных прав русских женщин всех слоев, на существование женского опекунства, то есть опекунства вдов над несовершеннолетними сыновьями, мало практиковавшегося в Западной Европе.
Однако дальнейшую эволюцию социального статуса русских женщин с XIII в. Д.Аткинсон оценила как процесс в целом регрессивный. По остроумному замечанию другой американской исследовательницы, Н.Коллман (сделанному позднее), Д.Аткинсон утверждала "что восточные славяне наслаждались свободным обществом, в дальнейшем же их свобода деградировала стадиально: период раздробленности, период покорения Новгорода и Пскова, период утверждения московской автократии и т.д." 48. В качестве причин "снижения" социального статуса русских женщин Аткинсон (как в свое время К.Клаус), выдвигала: влияние ордынского ига, роль церкви в "изменении физических условий" (под этим понималось развитие производительных сил), появление новой организации труда, предназначенной "преимущественно для мужчин". Вслед за дореволюционными русскими юристами и той же Клаус, Аткинсон утверждала, что "теремная система" была порождена стремлением "укрыть" женщину во время набегов татар. Другую причину она видела во "влиянии христианской аскетической концепции" 49. Эта точка зрения получила широкое распространение в западной историографии, хотя и с некоторыми модификациями.
В 1976 г. в Бингхэмптонском университете (Нью-Йорк) была защищена диссертация "От общественной деятельницы к домашней затворнице: изменение положения женщины в средневековой России". Автор ее — С.МакНелли — сосредоточила свое внимание на освещении таких аспектов темы, как эволюция теории женоненавистничества в православии, особенности ее воздействия на древнерусскую семью, правовой статус женщин привилегированных слоев русского общества, быт цариц и боярынь. Она попыталась выделить основные черты жизни крестьянской семьи в X-XVII вв. и определить в ней статус женщины. Впервые в зарубежной историографии влияние канонического права и церковной идеологии на представления людей рассматривались "амбивалентно" (то есть многозначно): были показаны и позитивные, и негативные последствия этого воздействия.
С.МакНелли полагала, что в истории русской женщины имелся один, но существенный рубеж — интересующий нас XVI век. До него был период "социальной мобильности женщин", после него — затворничество. Автор диссертации определила "три основные доминанты", воздействовавшие на статус женщины в России: (1) изменения в политическом строе, кульминацией которых стало утверждение самодержавия; (2) эволюция форм православного христианства, "победа церковного, женоненавистнического направления в общественном сознании"; (3) растущее закабаление и закрепощение крестьян, то есть возникновение крепостного права. МакНелли использовала летописи, актовый материал, записки иностранцев XVI-XVII вв., литературные памятники.
Некоторые выводы МакНелли заслуживают внимания. Так, бесспорно ее утверждение о том, что "права людей в России зависели более от социального ранга, нежели от пола". Верен тезис об определяющем влиянии ортодоксальной формы христианства на изменение социального статуса женщин: "Для женщин, начиная с XVI в., оставались лишь две доли, две области, в которых они могли сохранить свободу действий: домашние дела и дела веры". Подобный взгляд привел исследовательницу к выводу о том, что даже в XVII в. женщины в России не предпринимали попыток изменить свое положение. Деятельность таких энергичных личностей, как Ф.П.Морозова и Е.П.Урусова объявлялась "бурей в стакане воды", проявлением "женской экзальтированности, лишенной общественного звучания" 50. При всей обстоятельности труд С.МакНелли страдал заданностью итоговых выводов, в которых "автократическая система Московской Руси" выступала главным "подавляющим началом", оказавшим влияние на положение женщин. Некоторые из оппонентов диссертантки из числа европейских и американских историков указывали впоследствии на произвольный подбор фактов, соответствовавших лишь ее представлениям, ее схеме51.
После диссертации С.МакНелли за последние 20 лет ни в США, ни в странах Западной Европы уже не предпринималось попыток монографического освещения истории русских женщин в доиндустриальную эпоху (X — начале XIX в.). Но число статей по отдельным проблемам темы продолжало расти в геометрической прогрессии. Защищались и диссертации, в которых освещались "переломные" периоды "истории женщин" на Руси, в средневековой Московии и в России XVIII-XIX столетий.
Меньше всего внимания уделили западные ученые древнейшему периоду истории русских женщин — Х-ХУ вв. Здесь стоит оговориться, что под "средневековой русской историей" (и историей русских женщин в эпоху средневековья) в западной историографии подразумевается анализ всего допетровского периода (Х-Х\/М вв.). Эпоха Московии столетия) не выделяется как период "раннего Нового времени", поскольку таковым на Западе считается только начало XVIII в. За исключением фундированных работ американской исследовательницы Е.Левиной (Государственный университет штата Огайо)52, ее учеников, а также двух-трех коллег-соотечественников53, мало, кто в мире занимался историей древнерусских женщин54. Главной заслугой Е.Левиной следует признать стремление и умение исследовать сложные и слабо документированные страницы социальной истории России, в том числе истории семьи, "выжимая" из используемых источников максимум информации. Е.Левина — признанный знаток русских и сербских архивохранилищ — именно там она собрала факты для своей диссертации о древних новгородках55, и книги "Секс и общество в мире православных славян (900— 1700 гг.)", став первой исследовательницей истории славянской сексуальной культуры. Ее книга обобщила материалы, касавшиеся запретов и предписаний в интимной сфере жизни древних русов, в том числе женщин .
Наиболее изученным периодом в истории русских женщин доиндустри-альной эпохи является "период Мосиовии" (Х\/1-Х\/11 столетия). После выхода в Париже научно-популярного очерка З.Шаховской "Повседневная жизнь в Московии XVII в." , за изучение этого периода взялось множество ученых из разных стран мира, но прежде всего — американские специалисты по древнерусской литературе. Вначале появилась статья Р.Л.Левиттер "Женщины, святость и брак в Московии", в которой восприятие "женственности" средневековыми московитами реконструировалось на основе анализа литературных памятников ("Домостроя", "Жития Иулиании Лазаревской" и др.). В статье упоминались уже известные по исследованиям С.МакНелли "доминанты", повлиявшие на статус русских женщин, а именно: "влияние Византии и татар, их мусульманства". Правда, автор анализировал и "особенности христианства, которое в России сделало Марию не столько Девой, сколько матерью Бога", превратив "аскетизм в социальную норму" и "утвердив идею монастырских ограничений плоти в обычной жизни" 58. Характерной чертой культа Богородицы в России, считала Р.Л.Левиттер, было "отделение материнства от сексуальности". Закрепленное в сознании людей, отмечала она, разделение это сформировало особую систему нравственных ценностей, явную "репрессивность" в отношении сексуальной сферы. Об этой стороне влияния христианской аскетической традиции на русскую семью и на положение в ней женщины указывал в те годы и один из западногерманских историков-теологов, анализируя мотивы развода в русском бракоразводном праве59.
Соотечественник Р.Левиттер Ж.Д.Гроссман — автор статьи о женских образах в древнерусской литературе — продолжил и развил идею В. Сан-домирской-Данхем и А.Глассе о традиционном существовании в русской литературе образа "фатальной женщины". Он предположил, что образ сильной, социально активной женщины в литературе и особенно в фольклоре русского средневековья активно повлиял на появление аналогичных образов самоотверженных женщин в русской классической литературе XIX в. Вслед за Т.А.Гринаном, он показал возможности агиографии как источника по истории русских женщин (на примере житий Февронии Муромской и Иулиании Лазаревской). Как и Гринан, Гроссман считал, что даже канонизированные, "усредненные" житийные биографии русских женщин сохранили элементы реальных "свидетельств их хозяйственной и социальной активности". Они способны, писал он, "существенно изменить традиционный взгляд на социальный статус русских женщин". В то же время широта привлеченных Гроссманом источников таила в себе опасность уравнения разных по значимости сведений, и он ее не избежал. К числу же достоинств исследования Гроссмана можно отнести его вывод о том, что представления о женщине в ментальности российского общества на пороге Нового времени складывались, как и в средневековье, под воздействием двух "доминант" : церковной (ограничивающей) и народной (утверждавшей самостоятельность и "самоценность" женщины) .
Интересные диссертации, написанные на древнерусском литературном материале, представили в последние годы соотечественницы Т.А.Гриннана и Ж.Д.Гроссмана — И.Тирэ и К.Паунси. И.Тирэ удалось проследить влияние женских образов православной русской литературы на ментальность московского общества, отношение к женщине61. К.Паунси исследовала аналогичную роль "Домостроя" как произведения литературы светской62 и не только выявила источники труда Сильвестра, но и постаралась определить, "насколько оригинальная, самобытная часть рассматриваемого произведения отражает собственно "московитские", а не западноевропейские этические воззрения". Ей удалось доказать, в частности, что Сильвестр как идеолог московского общества середины XVI в., умело использовал известные ему идеи западных соседей Московии, изменяя их, "подгоняя" под стереотипы и идеалы русского общественного и семейного быта. Один из важных выводов Паунси заключается в том, что развитие семейных отношений в России, равно как и развитие взглядов на их идеалы, не претерпело "перерывов и пересмотров", как это было характерно для Западной Европы во времена Реформации и Контрреформации. Напротив, по словам диссертантки, в России оно отличалось "эволюционностью и континуитетом" (продолжительностью, взаимосвязями) — "вплоть до петровского времени, а в определенном смысле и после него". Стоит учесть, писала Паунси, что "потребителями" домостроевских наставлений являлись представители сравнительно узкого слоя образованного дворянства (около половины потенциальных читателей), а также клира и купечества. Поэтому "Домострой", с ее точки зрения, отражал идеалы и ценности не всего общества, а лишь его элитных сословий. Тем самым Паунси подтвердила гипотезы первого переводчика "Домостроя" на иностранный язык Е.Дюшесна, а также современника К.Паунси, восточногерманского россиеведа Э.Доннерта и чешского С. Кучеры63.
В настоящее время в США работает целая группа исследователей, изучающих проблемы социальной истории России Х\/1-Х\/11 вв. и в связи с ними — непосредственно или попутно — историю русских женщин этого времени. Среди них можно назвать А.Клеймолу, много лет работающую вместе со своим учителем Г.Дуй, Д.Кайзера (Гриннел колледж), Н.Ш.Коллман (Станфордский университет) и ее ученицу В.Кивелсон (Университет в Анн Арборе, штат Мичиган), а также принадлежащего к старшему поколению американских историков Р.Хелли (Гарвард). Когда в 1983 году журнал "Русская история" выпустил специальный номер, все статьи которого были посвящены изучению социального статуса женщины в Древней Руси и средневековой Московии, многие из них были написаны как раз ими.
Г.Дуй и А.Клеймола уже много лет изучают юридический быт Московской Руси. Кроме того, в 1983 г. они в статье, анализировавшей способы "воздействия" женщин на мужчин в древнерусской и московской политической жизни, пришли к выводу о том, что "в допетровской истории России было немало ярких индивидуальностей, деяния которых их современники хотели запечатлеть в памяти потомков" 64. Важнейшим выводом А.Клеймолы, сделанным в одной из недавних публикаций, является утверждение о различных путях развития имущественных прав женщин в Московии и Западной Европе раннего Нового времени, о сохранении в России традиции наделения женщин приданым, в том числе недвижимым, даже в период самых строгих запретов, касавшихся родовой (вотчинной) земли и неучастия женщин в разделе наследуемых имуществ. "Права женщин на распоряжение приданым эволюционировали до середины XVI века и достигли тогда своего зенита. Но к середине XVII в. они были сильно урезаны," — полагала исследовательница .
Изучением имущественных прав женщин в московских семьях XVI-XVII вв. не первый год занимается и профессор Д.Кайзер. В докладе "Женское имущество в московских семьях 1500— гг.", представленном для дискуссии на одну из конференций по славянской истории, Д.Кайзер показал эвристические возможности обработки созданного им "банка данных" по семейно-имущественным отношениям в Московии — 371 текст завещаний и 281 документ о выдаче приданого. Женщины разных социальных слоев (кроме холопок), отметил он, "распоряжались всеми видами собственности", однако, по сравнению с мужчинами женские контракты составляли лишь 1/5 часть от общего числа сделок. Сопоставляя уровень дееспособности московиток XVI в. с размерами полномочий их европейских современниц, ученый заключал, что "уровень этот был примерно одинаковым" 66. В своем исследовании о долгах и должниках в Московском государстве XVI-XVII вв. Д.Кайзер коснулся и тендерного аспекта этой темы (женщины-должницы и женщины-кредиторши), однако изучение особенностей этой стороны семейной экономики не входило в его задачи67.
Несколько в ином ракурсе и с иными по типу источниками работает Н.Ш.Коллман. Сфера ее интересов — политическая история России XVI-XVII вв. Наиболее значительной из ее работ является монография о боярстве, его роли и влиянии на политику России во времена Ивана Грозного. Но еще ранее Коллман написала несколько статей о быте верхушки привилегированных слоев русского общества, в том числе — о социальном статусе и роли женщин. Описывая затворничество русских княгинь и боярынь в эпоху Московской Руси, Коллман отмечала, что "оно является одной из наиболее характерных черт русского общества XVI в., частью социальной структуры и ментальности большой этнической группы", "элементом традиционной московской политической системы". Такая оценка затворничества, впервые появившись на страницах научной печати, показала, что автор стремится исследовать проблему в научном аспекте, не имеющем ничего общего с "экзотической курьезностью". Истоки затворничества Коллман находила в особенностях русского быта, считая, что следует отнестись с большой серьезностью к русской традиции раздельного проживания и спанья мужчин и женщин, раннего появления "мужской" и "женской" половин ("покоев") в зажиточных домах (явление не типичные для Европы раннего Нового времени). Кроме того, Коллман настаивала на том, что "московские женщины из среды элиты, как и женщины иных социальных слоев, традиционно являлись субъектами брачных сделок", "ценным товаром, который можно было выгодно продать и требовалось бережно хранить". "Затворничество было следствием укрепления царской автократии и боярской элиты", так как позволяло им "осуществлять контроль за политическими связями крупных родов и семей". Третьей причиной распространения затворничества была — по Коллман — "невозможность для женщины властвовать без мужа" (исключение составляло вдовство), отсутствие каких бы то ни было "общественных привилегий, кроме права иметь некоторую собственность". Сравнивая московиток и их западноевропейских современниц, она пришла к неутешительному для московиток заключению, что знатные женщины в России "никогда не обладали мобильностью и широтой возможностей для самореализации, которые имели женщины Европы", не имели права фиска в вотчинах и ряда полномочий.
Отметив, что затворничество — явление не только русского, но и исламского и даже индуистского обществ, Коллман подчеркнула, что оно было своеобразным показателем "ценностности женщин", их особой значимости в связи с прокреативной функцией, которая рассматривалась как социальная: "Для общества, в котором было типичным ограничение мобильности женщин как в семье, так и вне ее, весьма важной отличительной чертой являлся страх перед женской сексуальностью, и возникал строгий контроль за этой областью человеческих отношений" 68. Знатные мо-сковитки могли играть и играли несомненную "политическую роль", но это была роль незаметная: создавая женские "лобби" при дворе, женщины воздействовали на мужей, сыновей, родственников, дополняя это влияние использованием экономических полномочий, порою весьма значительных.
Собранные Коллман историко-демографические данные о брачном возрасте, размере семейных групп, особенностях распределения движимости и недвижимости дополнили аналогичные выводы Р.О.Краммея. Этот специалист по социально-политической истории Московии XVI в. увидел в женщинах из боярской среды лишь бесправных и безголосых участниц сделок могущественных и знатных отцов69. Коллман же видела проблему многограннее, показывая "политизированность" роли женщины в брачном партнерстве. Изучив положение знатных вдов, Коллман справедливо раскритиковала высказанное ранее в американской литературе мнение о том, что высокий статус вдов в средневековых обществах объяснялся их неспособностью к деторождению и утратой сексуальности (мнение М.Даглас70). Прочное социальное положение вдов объяснялось, главным образом, их стабильным имущественным статусом, а не иными причинами.
Рассмотрению прав вдовствовавших княгинь и боярынь в русском обществе Х\/1-Х\/11 вв. было посвящено в 1980-е гг. сразу несколько работ зарубежных историков, в том числе соотечественницы Н.Ш.Коллман — С.Леви71 и швейцарского ученого К.Герке72. Последний считал "безосновательными" выводы о том, что западно-европейская женщина Х\/1-Х\/М вв. имела более высокое положение в семье, чем ее современница в Московии. Исследователь предположил, что представление о русской женщине как о забитом, бесправном, униженном существе сложилось под влиянием взглядов иностранных путешественников, посетивших Россию в XV-XVIIвв. и имевших "заданную цель противопоставить свою развитую и культурную страну варварской России73.
В ином свете видел статус русских женщин допетровского времени Ричард Хелли, сосредоточивший свое внимание на анализе семейных отношений и социального статуса женщин из среды самых бесправных и униженных сословий — холопов или, как их называл автор, "рабов". И в статье "Женщины и холопство в Московии", (равно как в монографии "Рабство в России", изданной несколько раньше) он основывался в своих выводах на результатах количественной обработки массовых источников Х\/1-Х\/11 вв., прежде всего — актовых. Несмотря на внешнюю убедительность его многочисленных таблиц и графиков, отсутствие конкретных отсылок к архивохранилищам и публикациям источников, снижает ценность проделанной им работы, так как затрудняет ее оценку74.
Хелли впервые в мировой историографии предпринял попытку создать историко-демографическую картину "холопьего мира", включающую в себя рождаемость, брачность, смертность, возрастные группы, особенности се
VV V Л * W * мейной жизни и семейной организации, быт, повседневность, менталитет. Изменения правового, социального и семейного статуса женщин-холопок были показаны Хелли в развитии и прослежены на протяжении почти семи столетий. Выявив большую ценность холопок по сравнению с холопами в княжеском хозяйстве (автор объяснял ее "меньшей численностью женщин в популяции"), Хелли доказывал, что в XVI-XVII в. женщина в России и как участница производственного процесса, и как холоповладелица "занимала второстепенное положение". Он объяснял это тем, что с ростом роли дворянства как служилого сословия женщины, исключенные из него, получали все меньше возможностей для приобретения зависимых людей. Так что de jure, считал Р.Хелли, — женщины имели широкие права и полномочия, а de facto "таких холоповладелиц в общем числе собственников было, по его подсчетам, всего 2,3 — 5,5%" (аналогичны подсчеты Р.Хелли и в отношении земельной собственности: женщины России в XVII в. владели, по его мнению, не более чем 5% земельных богатств)75. Эти выводы были справедливы лишь отчасти. Они не учитывали случаев временных земельных держаний (в том числе — с проживающими на них людьми), особенно в дворянских владениях, где женщины могли в течение долгого времени являться полномочными хозяйками. Вызывает недоумение и вывод Хелли о том, что женщина-холопка занимала по сравнению с холопом второстепенное положение в русском обществе.
Многие из соотечественников Р.Хелли спорят с ним. Можно назвать, к примеру, Л.Хьюж, написавшую несколько книг по истории России XVII столетия . Среди них особенно выделяется монография "Софья, регентша России (1657— )", в которой впервые в мировой историографии была предпринята попытка выявить особенности "женских правлений", благо история России XVIII века давала для этого значительный фактический материал. Автор утверждал, что Софья Алексеевна была действительно выдающейся правительницей, в 17 лет принявшей на себя управление громадной страной и успешно справлявшейся с этой задачей. Заслуживает внимания вывод Л.Хьюж о том, что "вестернизация" России, осуществленная братом Софьи Петром I, неизбежно произошла бы и при ней, окруженной рядом умных и талантливых, "европейски мыслящих" политиков (В.В.Голицын и его единомышленники), но произошла бы более постепенно, менее болезненно. Тем самым Л.Хьюж заявила о необходимости отказаться от стереотипного восприятия Софьи как "массивной и толстой бабы", а периода ее регентства — как о времени "попыток сохранить старину в полном объеме" 77
Историей русских женщин в XVII столетии занимаются в настоящее время М. Томас в США (автор статей о черницах и их правовом статусе в предпетровское время78), В.Кивелсон (готовящая работу по истории колдовства в Московии XVII в.)79, Н.Бошковска-Ляймгрубер в Швейцарии (заканчивающая диссертацию о правовом и семейном положении женщины в России в начале Нового времени). Некоторые из них приняли участие во второй конференции по истории русских женщин, проводившейся в 1988 г. в Кенте (Огайо, США), материалы которой были опубликованы три года спустя в сборнике статей под редакцией Б.Энгель, Б.Клементс и К.Воробек и названном "Русские женщины: приспособление, сопротивление, трансформация" 80. Но и те доклады, которые не превратились в статьи и не вошли в сборник, отличались нетрадиционностью и разнообразием. Среди тем были и такие, как, например, "источниковедение истории русских женщин", проблемы истории канонического права в связи с проблемами распределения семейных ролей в древнерусской семье, морально-психологические и сексо-патологические стороны межличностных и иных социальных связей, частноправовые аспекты истории имущественных отношений в русских семьях в эпоху позднего феодализма и др. Проблемы частно-правового и семейного статуса русских женщин допетровской эпохи рассматривались также в 1989 г. на Международной конференции по социально-экономической истории в Прато (Италия)81, а также на конференции американских славистов в 1992 г. в Коламбусе (Огайо, США)82.
Наконец, последние работы юриста из Сан-Франциско Г.Вейкхарда, посвященные истории развития имущественных прав женщин с XII до середины XVIII столетия, ставят целью пересмотреть утвердившуюся хронологию изменения социально-правового статуса русских женщин: с его точки зрения, никакого прогресса с X до XV в. не наблюдалось, XVI в. является в русской истории периодом резкого сокращения всех собственнических и владельческих прав русских женщин (поскольку "московское право вообще было самое строгое и тоталитарное в Европе и женщинам в нем не было места")83, а XVII и начало XVIII в. — периодом "великой экспансии женских прав". Таким образом, автор спорит и с современной российской, и с западной историографией (Дж. Вернадским, А.Клеймолой, С.Леви, Н.Герке, Д.Кайзером) и пытается пересмотреть выводы и результаты исследований нескольких десятилетий (не привлекая новых источников, а даже сократив их объем, строя свою концепцию на шести публикациях актов социально-экономической истории и 258 выбранных из них документах).
Зарубежные ученые уделяют в последнее время немалое внимание изучению статуса русских женщин в XVIII — начале XIX в. Как и в исследовании более ранних эпох, в изучении этой темы лидируют американские специалисты. Они начали с создания "группового портрета" русского дворянства той эпохи84 (поскольку дворянство как социальная группа, ее "повседневность", "модели жизни" в России не изучались), с анализа "истории интеллектуальной жизни" высших слоев общества85. От этих тем они пришли к таким темам, как женское образование в XVIII столетии (речь шла, разумеется, о привилегированном сословии)86, семейная жизнь и брачное право в России того времени87, социальные роли женщин в представлении их самих (по материалам нарративных источников)88, особенности "женских правлений" ("российского матриархата" в XVIII в.)89.
Среди наиболее значительных работ выделяется статья Г.Фрииза "Внося порядок в русскую семью: брак и развод в имперской России", построенная на анализе значительного количества архивных дел, отражавших ситуацию прежде всего в Центральном районе России. Г.Фрииз пришел к выводу о том, что в России второй половины XVIII — начала XIX в. влияние церкви на "упорядоченность" семейных структур не уменьшалось, а росло, видоизменив свои формы. "Секуляризация духовной жизни, особенно жизни крестьянской, в таком ее аспекте как брак и семья, произошла не ранее начала XX в." писал он, полагая, что не менее важно изучать не только то, что подверглось изменениям, но и традиционное, консервативное. "И трудно назвать сферу российской жизни менее освободившуюся от церковной власти, чем сфера семьи и брака" 90. Судя по его очерку, женщины России мало, что приобрели в правах и, особенно, в их реализации в течение рассматриваемого времени.
Иной предстало XVIII столетие в исследованиях специалистов, изучавших политическую историю России. Особенно ярко о том свидетельствует статья профессора университета в Канзасе Дж. Алексэндера, написанная под углом зрения так называемой "интерпретативной истории". Заметив в самом факте смены "европеизированного владыки" (Петра I) чередой "женщин на троне" иронию истории, Дж. Алексэндер поставил целью разобраться, "чем же была для России эпоха "женских правлений" (female rule) и фаворитизма" ? "В первую очередь, [мужчины-] фавориты призваны были осуществлять сексуальную и эмоциональную поддержку, — писал Алексэндер. — воплощая собой то, что обычно ожидается от супругов или от родственников в семье: отдых, развлечение, забаву, увлечение, новизну, покорность, лояльность, временами — интимность. Во-вторых, они как бы высвечивали и оттеняли в женщинах-правительницах то, что принадлежало им по праву владения троном: власть, влияние, деньги, значимость, земельные богатства. "В силу большей эмоциональной насыщенности отношений женщин-правительниц с их фаворитами, считал автор, анализ соотношения политических и социальных интенций и их реализации оказывается более плодотворным, каждое явление — более четким, поскольку личные записки и письма, дневники и воспоминания женщин наполнены большим количеством мелких подробностей91.
Идеи Дж. Алексэндера оказались созвучными восприятию "российского матриархата XVIII в." другими американскими историками, поместившими свои статьи в том же сборнике. Среди них — А.Кросс (написавший статью, оценивающую Екатерину II как правительницу и личность "с точки зрения оценки ее как женщины" (the Distaff Side") и как "великой личности" в различных работах и популярных изданиях), а также Дж.Хартлей (автор работы о филантропии Екатерины II)92.
Последняя тема — в рамках изучения "истории благотворительности" и меценатства, ставшей весьма популярной и "модной" темой последних лет — оказалась в центре внимания и А.Линденмейер93. Оценивая вклад русских благотворительниц в "дело милосердия" еще до создания каких-либо благотворительных организаций, которые появились не ранее 10-х гг. XIX в., автор пришел к выводу, что в предыдущих исследованиях о русских женщинах несознательно преуменьшались значение и размеры женской благотворительности, а само это дело объявлялось чем-то подчиненным, второстепенным, малозначимым по сравнению с прямым участием женщин в политической и социальной жизни. Напротив, в истории русской благотворительности, считала А.Линденмейер, наблюдаются — со стороны женских участниц — проявление высоконравственных доминант, рост значимости общечеловеческих ценностей (самопожертвования, готовности идти на помощь и т.п.). Учитывая это можно говорить даже о демократизации и гуманизации общества, бывшего далеким, в сущности, от тех идеалов и ценностей, которые присущи буржуазному строю. А.Линдейнмейр исследовала мотивацию женской благотворительности конца XVIII в. и пришла к выводу о том, что в основе ее лежали прежде всего религиозные факторы, а также влияние педагогических идей того времени (в том числе просветительских).
Несомненным шагом вперед в изучении русской семьи доиндустриаль-ного времени, в том числе статуса женщин в ней, стали в последние годы работы Дж.Товров, заявившей о своей готовности посвятить себя изучению этого сюжета еще в студенческие годы94. В книге Дж. Товров "Русская знатная семья: структура и изменения" ставилась задача выявить динамику эволюции русских семейных структур в среде знати. Несмотря на обширную и очень длительную историографическую традицию, история русской знатной семьи была практически не изученной ни в России, ни на Западе. Исследовательница пришла к выводу о том, что основными "организационными принципами", характеризовавшими знатную русскую семью на протяжении всей ее истории с X по XX в., были "иерархичность", "половая сегрегация" и диктуемые первыми двумя принципами различия в поведении и статусе. В сравнении с эволюцией семейных структур и семейных отношений в Европе, аналогичные процессы в России, по ее мнению, "как бы несколько запаздывали", роль и место женщины в знатной русской семье XVIII — начала XIX в. виделись автору незавидными (статус женщины "можно определить как прислуживание, пожертвование, страдание"). Большую роль в "улучшении" социального положения дворянок Дж. Товров придавала "вестернизации России" 95.
Новейшие исследования "истории русских женщин" в XVIII в. принадлежат Р.М.Биша (Университет штата Индиана) и М.Маррезе (Университет в Делавере). Первая из них является автором диссертации "Перспектива патриархата: брак в России XVIII столетия" (руководитель — Д.Рэнсел)96, вторая — написала работу "Царство женщин: женщины и имущество в России XVIII в." 97. Обе диссертации пока не опубликованы.
Завершая обзор работ зарубежных авторов, касавшихся в своих исследованиях "истории женщин" в России XVIII в., стоит упомянуть о публикации К.Кареем в Гааге русских фольклорных материалов, которые по ряду причин не могли быть опубликованы в России — эротических поговорок, пословиц и загадок из архивных собраний выдающихся русских фольклористов — В.И.Даля и А.Н.Афанасьева. Эта публикация сослужила верную службу многим западным ученым, изучавшим статус женщины в русской семье Х\/1М-Х1Х вв.98 Можно прогнозировать несомненную значимость готовящейся публикации мемуаров и автобиографий русских женщин XVIII — начала XX вв., которые собраны и прокомментированы Т.В.Климаном и Дж.Воулс99.
Что касается последующего периода — истории русских женщин в индустриальную эпоху и в "советское время" — то он изучен зарубежными исследователями полнее и лучше, чем период, анализируемый в данной диссертации. Основным принципом выбора тем зарубежными историками был в течение десятилетий принцип "восполнения пробелов" : если какой-либо сюжет или проблема замалчивались советской историографией или изучались под определенным углом зрения (в угоду идеологии) — они немедленно становились предметом изучения западных, прежде всего американских специалистов. Такими темами (касающимися "истории женщин" Х1Х-ХХ вв.) были, например, история проституции100, тендерный аспект "истории нищеты и бедности" 101, история женской сексуальной культуры102 (в том числе в этнографическом аспекте — изучение обрядов и народной магии, связанных с женской сексуальностью)103, роль и значение участия женщин в либеральном и радикальном движениях (террор)104, история российского феминизма105. В иных ракурсах изучалась западными учеными и история советских женщин — они стремились доказать нереа-лизованность и утопичность идеалов равенства полов106.
Модернисты и советологи преобладают и на международных научных встречах, непосредственно посвященных "истории русских женщин" или же косвенно относящихся к этой проблеме. Среди самых последних встреч можно назвать, например, состоявшуюся в июле 1996 г. в Англии международную конференцию "Гендер и восприятие половых различий в русской культуре и истории", в которой приняли участие американские, английские, канадские, швейцарские и голландские историки и литературоведы. Большинство докладов на ней было посвящено Х1Х-му и особенно XX столетию. Тем более значимыми оказались выступления специалистов по XVIII в. Так, например, англичанка К.Нелли (Оксфорд) подготовила доклад "Воспитывая Татьяну: материнство, манеры и моральное воспитание (17601860 гг. )", а американка Е.Госило (Университет Питсбурга) попыталась реконструировать русский образ женского вдовства Х\/1М-Х1Х вв. Наконец, на конференции "История частной жизни в России Х-ХХ вв.", проводившейся по инициативе россиеведов Мичиганского университета (США) тема "открытия самосознания" женщин в екатерининскую эпоху, проблемы восприятия этого процесса современниками обсуждались не только историками, но и специалистами по русской литературе (в частности, в докладе А.Шёнле о "пространствах" частной жизни русского дворянства, Университет штата Мичиган)107.
Трудно переоценить масштаб работы, которую провели зарубежные исследователи "истории русских женщин". Прежде всего — они были первыми, кто эту тему поставил, кто "открыл" женскую историю, находясь в
V/ (I II V вынужденной оторванности от многих первоисточников, от россииских библиотек, от возможности плодотворно обсуждать результаты своих исследований с людьми русской культуры. Меньшая изученность социально-правового и семейного статуса женщин в Древней Руси объясняется как раз состоянием источниковой базы и ее долговременной недоступностью для западных специалистов.
И достижением зарубежной историографии следует, думается, отнести и попытки хронологизировать "историю русских женщин" доиндустриальной эпохи. Основными рубежами в ней "по традиции" считаются Х\Л-й и начало XVIII-гo века. Период до конца XV в. большинством ученых рассматривается как "прогрессивный", отмеченный положительной динамикой изменений в социально-правовом и семейном статусе женщин. "Период Московии" оценивается, в основном, как время "сужения" женских прав, хотя "даже на политической сцене женщины, так или иначе, оставались важными актерами" 108. Наконец XVIII — начало XIX в. — представлен как противоречивый период "приспособления [женщин к правилам и законам "мужского общества", отринувшего их — Н.П.] и сопротивления [им]".
Безусловным успехом новейшей зарубежной историографии следует признать расширение источниковой базы исследований за счет работы в провинциальных архивах: последние диссертации, защищенные по рассматриваемой теме, равно как и новейшие статьи, посвященные, например, имущественно-правовому статусу женщин в XVIII в. отличает тщательная проработка материалов архивохранилищ Центрального района России (Твери, Ярославля, Орла и др.). Первыми отойдя от понимания прошлого как истории деяний "великий мужей", зарубежные авторы заявили о необходимости реконструкции истории частной жизни и быта простых людей, в которых женщины играли важную, подчас определяющую роль. Эти труды способствовали общей переориентации исторических исследований на проблемы Личности, показали плодотворность исследования строя мышления жизни людей неименитых и незнатных, которые во все времена и во всех странах составляли большинство.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Женщина в русской семье X - начала XIX в.: динамика социо-культурных изменений"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение положения женщины в контексте частной» семейной сферы жизни русского общества на протяжении X — начала XIX вв. привело к выводу о наличии своеобразной, нелинейной динамики в изменениях общественного сознания и в адекватных (соответствующих этой динамике) формах тендерных взаимодействий. Поскольку русская семейная организация была сложной социальной структурой, основанной на многообразных отношениях и связях — а они сохраняли свое значение на всем протяжении доиндустриальной эпохи, — постольку в данном исследовании были рассмотрены главные "узлы", составляющие этой структуры (домохозяйство, система правовых отношений, супружество, материнство, индивидуально-интимный мир), равно как пути "входа" в эту структуру или систему (замужество) и "выхода" из нее (прекращение брака и развод).
Привлечение к анализу нормативных актов, данных эпиграфики и летописей, а также тех нарративных источников, которые традиционно относились к второстепенным по репрезентативности памятникам — литературным произведениям, церковным проповедям и "словам о добрых и злых женах", вопросникам исповедных книг и, отчасти, фольклора — позволило проникнуть в мир идей и чувств русских людей доиндустриальной эпохи. Перемещенные с периферии в фокус исторического видения, эти источники — равно как те факты в памятниках личного происхождения (мемуарах, дневниках, письмах), которые отражали индивидуально-личностное восприятие событий, — заставили признать, что поступки людей на протяжении всей доиндустриальной эпохи диктовались не и только и не столько материальными интересами, сколько сложившимися представлениями, идеалами, мировосприятием в целом, культурной традицией. Тендерный подход к истории заставил отказаться от традиционного рассмотрения социально-исторического процесса в категориях
"господстваТподчинения" или "возвышенияТунижения" в пользу процесса изучения "диалога полов", своеобразия их взаимодействия, отразившегося буквально во всех типах и видах источников.
Их анализ привел к выводу о том, что даже в самый ранний период соперничество-взаимодействие противоположных полов возникало не только под воздействием реальных жизненных стимулов (выживания, поддержания жизни, сохранения рода), но и в соответствии с некой моделью осмысливаемой современниками реальности. Эту модель формировала, разумеется, и сама действительность — бурные события политической истории, войны, голодовки, бедствия, но и — в неменьшей степени! — культурные обычаи и стереотипы, мифы, надежды и фобии ("ненависти"), страхи, фантазии, символика и т.п. Воспроизведение социо-культурного контекста изменений семейного статуса женщин за несколько веков позволило убедиться в том, что взгляды, культурные представления, стереотипы сознания, которые характеризовали отношение к женщинам в русском доиндустриальном обществе и прежде всего — в семье и домохозяйстве, отражали медлительность трансформаций демографического и социального поведения, а в общественном сознании — устойчивость всего самобытного и традиционного,
интерференцию (взаимопроникновение) народного и православного этосов.
На протяжении доиндустриальной эпохи семейная жизнь занимала одно из центральных мест в жизнедеятельности любого человека. И если для мужчин главнейшей референтной социальной группой могла быть община, ремесленное объединение, дружина и т.п.1, то для большинства женщин семья образовывала ближайшее социальное окружение. Семейная жизнь для женщин была нормой. В этом убедил и "сквозной" анализ истории русского права X — начала XIX в. с точки зрения широты прав и свобод женщин при заключении брака. По меньшей мере семь веков оно развивалось под воздействием православной концепции, четко определявшей место женщины и позволявшей ей самореализацию главным образом в семейной, частной сфере жизни социума. Церковь санкционировала только венчальную форму брака и моногамию, строго ограничивая одновременно право- и дееспособность впервые вступавшей в брак женщины мнением и решением родителей или родственников. Однако одновременно с церновной формой брана, в течение всего рассматриваемого времени сосуществовали и внецерновные формы его заключения ("убеги", "скрадывания"), превратившиеся уже к концу Х\/-Х\/1 вв. из обязательного обряда в ритуал. Важно, что с древнейших времен и в дальнейшем в России существовала традиция предварительного "съвещания" о готовящемся умыкании с потенциаль-ной "невестой". При разработанности законов, каравших за похищение девушек (нормы такого рода включались в своды до конца XVII — начала XVIII в.), наказания за них не встречены. Вероятно, девушки знали своих "обольстителей", а "съвещание" оставалось элементом ритуального действия.
Влияние родителей, родственников и опекунов на выбор брачного партнера для впервые вступавшей в брак было значительным. Оно не было ограничением именно женщин: брачные дела сыновей тоже вершили родители. Заключение брака было прежде всего сделкой между кланами, руководствовавшимися экономическими соображениями и задачами родственной преемственности моральных и материальных атрибутов родства (родового имени, имущества). Трудно переоценить общественно-политическое значение "функций" дочерей, наследовавших знатный статус и богатства, в формировании структур господства. Сексуальное влечение и предпочтение вплоть до обмирщения культуры и общественного сознания в XVII в. играли, по-видимому, второстепенную роль. Однако индивидуальный выбор девушки мог быть так или иначе высказан (об этом свидетельствуют запретительные нормы законов, каравших за насильственную выдачу замуж). При общем приоритете родительского (опекунского) слова, факты несогласия с общепринятым (а они были обнаружены в ненормативных источниках), проявления "своеволия" и "непослушания" — встречались, что способствовало раньше или позже изменению законов и неписанных правил.
Законодательное закрепление права девушки публично высказывать свое мнение и подтверждать ненасильственность брака относится к началу XVIII в., когда стало обязательным обручение молодых. К середине XVIII в. это новшество (право невесты отказываться от навязываемого брака) стало приживаться в привилегированной части
городского населения, ориентировавшейся на нормы писаного права. При этом большую свободу выбора имели богатые невесты. Однако и в XVIII в. в русских семьях сохранялась определяющая роль родителей при выборе брачного партнера, изменившаяся в ритуал родительского благословения. Причины отказа в нем могли быть и эмоционально-личностные, и материальные. Иногда в них проявлялась зависимость от традиции (соблюдения "очередности" выдачи замуж). К XVIII в. относятся распространение тайных венчаний (против воли родителей), превратившиеся со временем в распространенное явление.
Что касается эмоционального фантора при оформлении супружеских отношений, то следы его прослеживаются не ранее XVII в. Вполне допустимо, что и в более ранний период супружеское расположение основывалось на индивидуальном предпочтении, проявлявшемся еще до заключения брачных уз. Но документальных подтверждений тому нет. Зато в отношении XVII, а особенно — XVIII в. можно с уверенностью утверждать, что такое предпочтение стало одним из важнейших мотивов согласия на заключение брака. Впрочем, более широкими возможностями заключить "брак по любви" всегда располагали не женщины, а мужчины, имевшие большую свободу в проявлении своих желаний. Женщины, вступавшие в брак во второй и последующие разы, с древнейших времен (с X в.) имели полную самостоятельность как в вопросах выбора партнера, так и в праве заключать с ним брачный договор (древнейший из известных — XIII в.).
Однако все вышесказанное касается лишь неподатных сословий. Представительницы зависимого и крепостного населения оказывались "в воле" не только родителей, но и владельцев их "душ". И хотя насильственность браков крепостных оставалась рядовым явлением на протяжении всего рассматриваемого времени, хотя в церковных законах формально и существовало наказание для "господ", насильно женивших своих "хрестьян", не стоит сбрасывать со счета и то, что крепостные, челядь составляли лишь часть податного населения. В другой части крестьянства указанная зависимость от "внешних обстоятельств" могла быть слабее. Однако к XVII в. в нормах законов появилось правило, согласно которому зависимая девушка (женщина), вступавшая в брак, должна была просить о том разрешения у своего "осподина", а окончательное закрепощение крестьянства привело в XVIII в. к тому, что браки зависимых людей заключались в пределах лишь одной вотчины. Это сузило брачный рынок и уменьшило возможность "браков по любви" для крепостных девушек.
Широта выбора брачных партнеров всегда находилась в прямой зависимости от возможностей их добрачного знакомства. Немалую роль в нем играл институт сватовства (традиционно женская сфера социальной реализации). Первые упоминания о нем относятся к XII в. Простой люд не знал ограничений в формах добрачного знакомства; обычными "местами социальности" (местами знакомства) простых горожанок и крестьянок с будущими женихами, были поля, улицы, дворы, места сбора воды и, конечно, церкви.
Для представительниц средневековой знати ограничения были весьма существенными. Поскольку дочери в княжеских и боярских семьях были формой "дорогого товара", который необходимо было выгодно продать, родители стремились ограничить свободу их общения с возможными женихами. Законченное выражение эта тенденция нашла
к середине XVI в., когда в среде элиты получила распространение "теремная система". В период ее господства (XVI - конец XVII в.) добрачное знакомство молодых не было даже желательным. Родственники жениха полагались на мнение "смотрильщиц"» к которым могли относиться и посторонние (сватья), и близкие, родные люди (мать, сестры). Традиция "неизвестности невесты" держалась долго, а в виде ритуала (раздельное нахождение жениха и невесты перед свадьбой) или его элементов (убрус-фата в наряде новобрачной) перешла и в последующую эпоху. Добрачное знакомство девушек с будущими женихами в XVIII в. стало нормой, поскольку "теремная система" оказалась разрушенной, появились новые формы знакомства и времяпрепровождения молодежи (ассамблеи, балы, танцы, посещения театров, совместные гостеванья). Для представительниц большинства сословий и социальных страт "теремное затворничество" вообще не существовало.
Договоренность родителей, родственников или самих новобрачных, наличие добрачного знакомства не исчерпывало условий вступления в брак в доиндустриальной России. Подавляющее большинство условий замужества были сформулированы православным брачным правом (так как все вопросы, касавшиеся оформления супружества, были в Х-ХУН вв. исключительно в ведении церкви).
Первым из них было достижение минимального брачного возраста. До XVIII в. он определялся в 12 лет, однако в дальнейшем — с неоднократными отступлениями — наблюдалось постепенное его повышение. К началу XIX в. минимальный брачный возраст для девушек равнялся 16 годам, но нарушений этого правила во всех сословиях и стратах русского общества было немало. Максимальный брачный возраст женщин вначале никак не определялся и лишь к концу XVIII в. в законах появилось запрещение выходить замуж старше 60 лет, которое мотивировалось невозможностью деторождения в этом возрасте. Проблема соответствия возрастов женихов и невест, допустимости браков между людьми с возрастной разницей не нашла отражения в источниках домосковского времени. Но нарративные памятники XVI-XVII-гo, а особенно XVIII в. позволяют сделать вывод, что к подобным бракам общественное мнение относилось как к неравным, в особенности к тем из них, в которых жены была старше мужа. Это диктовалось первостепенностью фактора продолжения рода над материальными причинами, эмоциональной привязанностью и т.п., а также нравственными соображениями (потенциальной возможностью снохачества).
До XVIII в. наблюдалось стойкое сохранение в нормах церковного права единоверства, социального равенства, а также отсутствия близкородственных и близкосвойственных связей у собирающихся породниться как условий заключения венчального брака. Но в среде знати учитывались в первую очередь не они, а родовитость и богатство. В среде "простецов" допускались браки с иноверцами, поскольку они потом крестились в православие. Терпимым было и отношение к мезальянсам. Девушкам по сложившейся традиции допустимо было повышать свой социальный статус за счет замужества. Способом ограничения социально неравных браков был указ XVI в. о необходимости внесения женихом залога в размере не менее 2/3 стоимости приданого. Женщинам (как и мужчинам) позволялось
идти под венец не больше трех раз (переждав к тому же не менее полугода после смерти предыдущего супруга), однако нарушения этого предписания были частыми и диктовались необходимостью содержать семью. С XVI 1-го и до начала XIX в. в законах неоднократно повторялся запрет венчать "от живого мужа" (жены), что подтверждает распространенность двоемужества и двоеженства, условия к которым создавались географическим фактором и сложностью формального учета. В XVIII в. хлопотность и внушительная стоимость процедуры развода способствовала распространению браков "от живого" супруга. К ним толкала и существовавшая с середины XVI и до середины XVIII в. процедура составления венечных памятей и сборов венечных пошлин (венчание без которых каралось штрафом, а с ними — было дорогим).
XVIII век внес коррективы во все эти условия и установил новые (например, об образовательном цензе для женихов). Все это отвечало сложившимся реалиям и, в конечном счете, интересам женщин. Смешанные в конфессиональном и этническом отношении дворянские браки были объявлены не только дозволенными, но и "похвальными"; позже эту норму распространили на все социальные слои. До петровского времени "близкородственными" считались связи до 5 степени родства, с XVIII в. — строгий запрет стал относиться лишь к двоюродным. В случае обнаружения брака в запрещенной степени родства супругов не разводили, особенно если у них были дети. Определенные изменения произошли и в отношении общества к мезальянсам. На протяжении всего XVIII в. светские и церковные власти считали принципиально недопустимыми брак "подлых" людей с благородными, однако число "неравных браков" росло. Поэтому к концу XVIII в. социально свободным женщинам было позволено сохранять свои привилегии в браках с более низкими по имущественному и социальному статусу, хотя передавать их детям было все так же запрещено. Браки знатных и богатых помещиков с простолюдинками оставались редкостью, а дворянок с простолюдинами — практически не встречались.
Основой сохранения традиции социального равенства был принцип "немалой пользы" имущественного и сословного "баланса" породняющихся фамилий, облегчавший адаптацию невесты в семье и уменьшавший возможности внутрисемейных конфликтов. Социально равенство новобрачных было предпосылкой соблюдения принципов единой фамилии для мужа и жены (хотя в начале XVIII в. и были попытки отойти от него, новшество не прижилось), а также общего местожительства. Принципиально разрешенное раздельное проживание супругов было не нормой, а исключением. Женщины отправлялись в ссылку за мужьями (так того требовала традиция); мужья же аналогично, как правило, не поступали). Типичным было введение невесты в дом родственников жениха и дальнейшее проживание семьи в доме мужа. Проживание молодых по месту жительства родственников жены выглядело предосудительно, свидетельствовало о материальной несостоятельности новобрачного, который именовался в этом случае "влазнем".
Помимо церковных запретов и предписаний, в русском повседневном быту X — начала XIX в. существовали и некоторые традиционные условия, следование которым было характерно для
многих социальных страт, и прежде всего — для простонародья. Одним из них было заключение брачного договора ("ряда") и обязательности выплаты неустойни ("заряда") в случае его расторжения, бывшей формой моральной компенсации. Сохранение девственности новобрачной, как доказал анализ фольклорных и актовых источников, никогда не было условием заключения брака. Добрачные интимные отношения девушек из среды простонародья в некоторых (особенно — южных) регионах России были довольно частым явлением; к потере невинности до брака — при всем стремлении сохранить ее — относились чаще всего терпимо. Однако безусловно унизительной считалась невозможность "покрыть грех девичой венцом". С начала XVIII в. в светских законах появилось требование к обольстителю жениться на растленной, однако принуждение к исполнению этого предписания не всегда заканчивалось успешно.
Обязательным условием признания замужества в глазах общества было проведение свадебного "веселья" пира. Его история отражает позитивные изменения в отношении к женщинам в русских семьях, происшедшие за восемь веков. Обряды и ритуалы, связанные с "весельем", свидетельствовали о высокой ценностности брака, сохранении семейно-родовых связей, указывали на высокую роль женщины в семье. Это были благопожелания, практичные и необходимые для будущей жизни семьи подарки, игровые споры о главенстве и праве распоряжаться семейным бюджетом, обряды, облегчавшие интимные контакты в первую брачную ночь, обычай объезжать всех родных и гостить у них после свадьбы. Другие ритуалы, родившиеся в XVI-XVII вв., — демонстрацию девственности новобрачной, условную передачу отцовской власти мужу — светские власти пытались отменить в начале XVIII в., но достигли успеха лишь в "образованном сословии". Правда оно, в известной мере, давало пример другим.
Второй аспект рассмотрения семейного статуса женщины доиндустриальной России был связан с реконструкцией "структур повседневности" — каждодневного женского быта и отношения к нему представителей разных социальных страт, тех идеалов, желаний и правил, которые регулировали поведение женщин и проявлялись в быту (распорядке дня, особенностях питания, конструкции и убранстве жилища), в восприятии житейских ситуаций и материальных объектов.
В допетровское время заметные женская повседневность заметно различалась лишь у привилегированной и непривилегированной части населения. Уже к XVII в. определенные различия возникли в "бюджете времени", содержании, соотношении работы и досуга у городского (особенно столичного) и сельского населения. Любые хронологические "привязки" здесь, однако, условны. Несомненные различия "структур повседневности" представительниц различных сословий окончательно определились к 20-40-м гг. XVIII в., что нашло отражение в источниках личного происхождения, литературных памятниках, фольклоре. Элементы динамики в эволюции структур "исторической долговременности" были обнаружены в ходе исследования как материальной стороны повседневности (содержания женской работы, утвари и других предметов, окружавших быт женщин, приготовления ими пищи, особенностей гигиенических и врачевательных процедур и т.п.), так и ментальной ее стороны — глубинных, а потому
малоразличимых социально-психологических перемен, касавшихся отношения женщин к своей работе, а общества в целом — к женскому труду. Менялась и оценка форм женской социализации (повседневного общения, гостевания, проведения внесемейного и внедомашнего досуга). В этом смысле лиминальными (переломными) оказались два периода: (1) вторая треть — середина XVII в., когда произошла смена неосознанных феноменов поведения, свойственных "традиционному обществу" и специфичных для его эмоциональной жизни, — новыми воззрениями и ценностями, характерными для начавшегося обмирщения. (2) Второй период — начало XVIII столетия — был подготовлен наличием первого и возник благодаря решительному сближению России с Западом, начатому Петром I и продолженному женщинами-правительницами.
Повседневность большинства женщин доиндустриального периода была связана с работой — трудоемкими и сложными сельскохозяйственными операциями. Принцип самообеспечения семей преобладал на протяжении столетий, что заставлеют признать в женнской работе форму выживания. Работа заполняла подавляющую часть дневного, полуденного, и иногда и вечернего времени женщин. Даже представительницы знатных древнерусских семей ежедневно "простирали свои руки на полезное". Однако иконография Х-ХУ1 вв. практически не сохранила образов женщин, занятых своим повседневным трудом. Изобразительные сюжеты, включавшие женщин, отображали лишь события исключительные: свадебные пиры, роды, похороны, реже — основание церквей и монастырей.
В домосковский период основной идеей православных проповедей о женской работе было утверждение ее тяжести. В эпоху Московии акценты сместились. Вместе с идеями исихазма и принципиальной возможности богоподобия в православной проповеди появилось понимание работы как духовного воспитания, труда как инструмента искупления и спасения. Именно тогда для княжеских и боярских дочек "хитроручное изрядство" стало превращаться из формы
времяпровождения в средство самовыражения. Изменилась и иконография: во фресках XVII в. сюжеты, связанные с женской работой, представлены достаточно полно (полевые работы, ткачество). При этом в повседневному быту Московии XVII вв. не было обнаружено различий между трудом мужским (как более престижным) и женским (менее престижным).
Участие женщин привилегированного сословия в организации экономической изни вотчин, бывшее традиционным с древнейших времен, не только доказывает фактическую причастность женщин к экономической жизни страны. Владелицы больших имуществ, главы домохозяйств, руководившие домашней экономикой в периоды отсутствия супругов (это в особенности касается сильно численно возросшего в XVI-XVII вв. служилого класса) древнерусские своеземицы, помещицы, вотчинницы занимались подобными делами совершенно самостоятельно и полновластно, а главное — весьма успешно, с хозяйкой сметкой и знанием действовавших в то время законов. Частные акты лредпетровского времени позволили воссоздать увлекательную и во многом неожиданную картину активной хозяйственной и предпринимательской деятельности матерей, жен, сестер земельных собственников. В домосковский период женщины из
княжеской среды выполняли и судебные функции; правда, в XVI в. и позже они уже не имели этих прерогатив.
Традиционность участия дворянок в решении всех дел, связанных с недвижимостью (даже если формальными собственниками ее были мужчины), умение организовывать и контролировать хозяйственную жизнь семейных владений было обусловлено постоянным — за исключением перерыва в столетие — наличием отдельной собственности женщин в браке и ее юридической защищенности. Эту традицию не преодолели никакие насаждавшиеся в XVIII в. новшества. Экономическая жизнь российских усадеб по-прежнему зависела от деловой хватки жен и матерей находившихся на государственной или гражданской службе дворян, а также самостоятельных владелиц недвижимости. Даже Указ 1762 г. и Жалованная грамота дворянству 1785 г. мало изменили складывавшееся веками положение, при котором "учиться мудрости сельского хозяйства" приходилось женщинам. Это бросилось в глаза и иностранцам.
Представление о домашней сфере нам о социально второсортной ("подсобной", "унизительной") оказалось одним из фантомов не только традиционной ("мужской"), но и марксистской, а также феминистской историографии2. В X — начале XIX вв. домашняя сфера была для женщин главной сферой их самоактуализации. Господствовавший вне сферы домохозяйства мужчина (пахавший, сражавшийся, управлявший, составлявший проповеди) не мог одновременно господствовать и в сфере домашней. Он только заставлял себя считать хозяином, мужем-" повелителем", а фактически "правили" и "господствовали" дома женщины. Они участвовали в распределении предметов первой необходимости, готовили пищу, организовывали всю жизнь дома.
Распорядок дня представительниц разных слоев русского общества мало варьировался на протяжении допетровского времени. Для всех женщин в X-XVII вв. был характерен ранний подъем и ранний отход ко сну; двух-, реже — трехразовое питание. Вплоть до конца XVII в. типичным элементом повседневности любого человека был послеобеденный сон. Немалое значение во всех социальных слоях имели традиции личной гигиены, в том числе банные, которые способствовали закаливанию, что было отмечено современниками-иностранцами и имело существенное значение в профилактике заболеваний, характерных для сурового климата.
Терапевтическая помощь женщины при банальных хворях воспринималась как обычное явление. В светских и церковных памятниках Х11-Х\/11 вв. немало образов женщин, оказывающих врачебную помощь страждущим. Епитимийные сборники рисут образ народной врачевательницы, знающей приемы родовспоможения (зачастую связанные с магией), основы фармакологии (приготовление домашних лекарственных средств), лечение травами и "рукодействием" (массажем). Для допетровского времени характерным элементом женской повседневности (особенно женщин из среды простонародья и низших слоев мещанства XVIII в.) было кулинарное творчество. Изощренность и изобретательность хозяек, вынужденных готовить разнообразную еду из ограниченного набора продуктов, с учетом многодневных постов, способствовала выработке вкуса к сложным в рецептурном отношении блюдам. К концу XVII в. гастрономическое искусство русских женщин было признано и иностранцами,
посетившими Московию. Пьянство как элемент повседневности горожан, в том числе повседневности женской, получало все большее распространение. Случаи женского пьянства в Х\/1-Х\/11 вв., зафиксированные актовым материалом и иностранцами, бывавшими в портовых городах и описывавшими русский быт, объяснялась сохраняющейся непродолжительностью женского досуга и тяжестью труда. В XVII в. элементом повседневности некоторого (пока еще узкого) социального слоя становилась проституция.
В женской повседневности XVIII — начала XIX в., особенно — в повседневности горожанок, отчетливо отразились перемены, обусловленные новыми материально-техническими возможностями, постоянным воздействием мощной социальной переструктурации сельского и городского населения, общественной поляризацией и выделением характерного для каждого социального слоя этоса3 (черт и специфики образа жизни, особенностей поведения). Образ жизни крестьянок за исследуемое время мало изменился. Правда, облегчилось выполнение ряда производственных операций (использование ткацких станов, мельниц, покупной глиняной посуды), однако сам ритм крестьянской жизни менялся мало (ранний подъем, непродолжительный сон, работа, равная по тяжести мужской). Слабая изменчивость моделей жизни простолюдинок была связана с исключительной бедностью, материальной незащищенностью существования большинства их семей4.
Скованностью в выборе "модели жизни", но все же медленной изменчивостью характеризовалась и повседневность провинциальных дворянок и сельских помещиц XVIII — начала XIX в. В отличие о представительниц низших слоев общества, они обладали определенными капиталами. Их образ жизни имел некоторые точки соприкосновения с жизнью народной, сохраняя традиционные черты и ориентацию на семью, заботу о детях. Для него также было характерно раннее начало дня, распределение бюджета времени в пользу его первой половины. Будучи заполнен отчасти хозяйственными делами, отчасти досужим времяпровождением (прогулками, играми, гостеваньем, к концу XVIII в. — музицированием, чтением), ритм жизни сельских помещиц отличался иммобильностью (поездка в город считалась событием, посещение столицы оставляло память на всю жизнь и т.п.).
Напротив, жизнь столичных и просто богатых дворянок отличалась мобильностью (частыми перездами, в том числе из деревни в город и обратно). В распорядке их дня характерными чертами были его позднее начало, сознательное, подчас — афишированное стремление к праздности. То, что этически допускалось в повседневности сельских дворянок (отсутствие макияжа, прически, сложных нарядов), исключалось для горожанок, особенно столичных. Женщины из высших слоев городской знати стремились выразить себя и закрепить свой статус во внешних формах, в том числе в укладе домашней жизни, одежде, комфортности жилья и его убранстве, изысканности стола, престижных тратах (на благотворительность), участии в балах и "машкерадах". Повседневность дворянок в Москве, Петербурге и крупных городах была более предопределена условными нормами, "типовыми эмоциями".
Распорядон дня и бюджет времени быстро формировавшегося "третьего сословия" - нупчих, мещанок - имел некоторые внешние черты образа жизни дворянок и был на него ориентирован (в плане жизненных стандартов). В то же время, он сохранял и черты образа жизни простолюдинок (ранний подъем и отход ко сну, ведение домашних дел, традиционные формы проведения досуга), то есть был как бы "промежуточной" моделью между моделями жизни представительниц высших и низших слоев русского общества XVIII — начала XIX в.
Тендерный подход к изучению структур повседневности представителей разных социальных слоев потребовал специального анализа вопросов, связанных с формами социализации и номмунинации женщин и мужчин в рассматриваемые эпохи. Анализ источников Х-ХУ вв. привел к выводу, что древнерусское общество сознавало себя как социум, в котором господствовал деятельный мужчина (воин, священник, правитель). Демонстративная социализированность женщин, их включенность в политику и административную деятельность официально не принимались, а в церковных памятниках — осуждались. Фактические же формы причастности женщин к социально-политической жизни были разнообразны (регентские и опекунские полномочия, участие в управлении и в судебных поединках, "послушество" в судах, врачевание). Среди них особенно важным оказалось участие женщин в передаче информации, простом повседневном общении, которое в не меньшей степени, чем общение мужчин, создавало общий социально-психологический микроклимат. Коммуникативная раскованность женщин гневно критиковалась всем "мужским сообществом" (авторами летописей и составителями церковных нормативов), видевшим в женских "незапертых устах" стремление к "мятежу" и "великим исправлениям".
Страх перед таким "мятежом", небезразличие общества (мужчин и женщин, каждых по-своему) к официально существующей политической дискриминации женщин, ощущение реальной угрозы патриархальному господству нашли выражение в установившейся к середине XVI в. системе "теремного затворничества" знатных московиток. Оно возникло как результат взаимодействия (1) суеверий о "нечистоте женщины";(2) распространения византийской феминофобии с ее представлением о женщине как о "сосуде греха"; (3) бытования религиозных представлений о необходимости самоочищения уединением; развития (4) патриархальных начал и (5) стремления исключить возможность внебрачных интимных контактов;(6) особенностей "семейно-матримониальной политики" и др.). Несмотря на то, что затворничество затронуло узкий слой социальных верхов и просуществовало всего около столетия, идея теремного уединения, запретов и ограничений как формы подавления социальной активности женщин, оказалась жизнеспособной и повлияла на ментальность значительной части населения Московии.
В середине — второй половине XVII в обнаружились первые "поправки" к созданному в предыдущие столетия образу говорливой и общительной женщины. Фольнлор и посадская литература XVII в. отразили смягчение оценок. Общение женщин во время многочисленных гостеваний все чаще допускалось, однако, главным образом, в своей собственной, женской среде. Присутствие женщин на
пирах (за исключением свадебных и поминальных) оставалось явлением исключительным. "Поцелуйный обряд" как обязательный элемент княжеских пиров свидетельствовал не о свободе нравов, а отражал дискриминированность и подчиненность женщин главе семьи, который "делился" принадлежавшим ему и зависимым от него "богатством" с гостем.
Ломка традиционно-бытового уклада в эпоху европеизации России кардинально изменила социотипическое поведение знатных женщин. Участие дворянок в ассамблеях, балах, маскарадах, посещение ими театральных представлений, допустимость и даже обязательность их присутствия во время деловых приемов, — усилили роль всех форм женского общения. Традиционным в нем осталось особое внимание к деловым, "серьезным" вопросам, опора на крепкие семейно-родовые связи ("все будто в родстве между собою"), проникновенное (до назойливости) участие в чужих судьбах. Умение интриговать — в том числе через использование интимных связей — превращалось в среде столичного дворянства в неофициально признанную ценность; передача подобных навыков "по женской линии", от матерей — к дочерям, стало явлением обыденным. Напротив, ограниченность общения считалась главным негативным фактором в оценке "преимуществ" жизни в провинции, в сельской усадьбе. Традиционное для русских частое гостеванье ("кровеносная система социально-психологического общения") оставалось важнейшим элементом повседневности для купчих, мещанок, а в типичных для простонародья формах (посиделки с работой) — и для крестьянок. Для последних вопросы общения, выработки достойного и соответствующего семейному статусу (дочь, невестка, "большуха", вдова) поведения нередко рождали проблемы, которые могли быть решены только путем семейных разделов.
Рассмотрение вопросов, связанных с имущественно-правовым статусом женщин в русских семьях X — начала XIX в., также позволило выявить динамику, которая тоже была не линейной (от бесправия к расширению полномочий), как ранее было принято считать5. В эволюции юридичесних воззрений на имущественную правомочность женщин выделяются три периода. Первый — X — начало XVI в. — отличает медленное расширение дееспособности женщин всех социальных страт в отношении лично им принадлежавшего и общесемейного имущества. Это период наличия в имуществе семьи "частей" мужа и жены, в отношении которых каждый имел право единоличного владения и распоряжения. Второй период — с середины XVI-гo до середины XVII в. — эпоха юридических ограничений владельческих и собственнических прав женщин, запретов дворянкам владеть поместьями, вотчинницам — наследовать родовую собственность. Это — эпоха строгой общности семейного имущества. Государство стремилось установить контроль за всеми землями, чтобы обеспечить их нахождение "в службе". Такая политика была причиной ущемлений, поставивших женщин в материальную зависимость от мужчин. Третий период — с конца XVII в. и до начала XIX в. — отличается сознательным укреплением индивидуальных прав, раздельности имущества супругов (1731 г.) и возвращения женщинам полномочий обладания собственной "частью" в общесемейном "добытке". Ликвидация различий между вотчиной и поместьем, введение понятий "недвижимого имения" и "субъекта недвижимой собственности"
способствовали допущению совершеннолетних женщин ко всем официально закрепленным в законах формам владения и распоряжения движимостью и недвижимостью.
Реконструируя систему юридических воззрений параллельно с особенностями их применения, изучая степень реализованноети юридических установлений, автор диссертации пришел к выводу о том, что даже в "эпоху запретов" (то есть в ХУ1-Х\/Н вв.) женщины в русских семьях фактически управляли и распоряжались недвижимостью. Сама экономическая жизнь создавала условия для участия в ней опытных женщин, знающих семейную экономику, умеющих управлять ею с умом и выгодой для себя и детей, проявлявших себя ежечасно в период отлучек мужей на государеву службу.
Права женщин на свое приданое были занреплены в древнерусских законах уже в X в. Приданое включало движимость (деньги, ценности, утварь, одежду) и, с XIII в., недвижимость и могло даваться родителями, опекунами, родственниками, в том числе — братьями (это явление — самобытно-русское, не имеющее аналогов в западных правовых системах). Право на распоряжение движимой частью приданого принадлежало женщинам, а недвижимой — фактически, обоим супругам (мужу — только по согласованию с женой). Бесконтрольное распоряжение приданым только мужем было скорее исключением, нежели правилом. В случае лишения женщиной материальной поддержки мужа (его смерти или развода с ним), приданое становилось основным источником ее существования. В случае смерти женщины оно возвращалось в ее род, который — пока существовал брак — был гарантом интересов женщины. Стремлением обеспечить выполнение всех этих норм было введение в XVI в. обязательства жениха вносить залог (2/3 суммы приданого), а также запрет использовать приданое жены при конфискациях, если муж совершил преступление.
С середины XIII и до середины XVI в. в приданом могло быть любое имущество. С середины XVI в. появились ограничения: вначале запретили давать в приданое более половины вотчинных земель, а затем и вообще исключили возможность "отписывания" в приданое родовой собственности. Жалованные земли приравнивались к купленным и могли входить в приданое. Поместья из приданого исключались, но с 20-х гг. XVII в. появились послабления (с "прожиточным поместьем" дочь служилого человека могла выйти замуж). Приданое невесты, к какому бы социальному слою она ни принадлежала, жених с середины XVI в. оформлял ("справлял") на себя. С 10-х гг. XVII в. закон обязывал за эту "справу" уплачивать пошлину. Это усилило материальную зависимость женщин в браке, урезав возможности ее родственников следить за судьбой данного дочери имущества. Распоряжения "придаными землями" стали осуществляться в лучшем случае совместно, а чаще — одним лишь главой семьи. Широкое распространение получило принуждение жен к распоряжению приданым и рукоприкладство мужей, когда они встречали сопротивление. Подпись одного мужа под документом о земельной сделке с приданым жены теперь никого не смущала. И все же фактическое владение и распоряжение женщинами своим приданым (сделки с родителями, обмен приданого на другие земли, передача приданых поместий "в по[д]жить" соседям, родственникам, "знакомцам",
пасынкам) — несмотря на все злоупотребления мужей (ограничены лишь указом 1676 г.)- характерная черта экономической жизни России допетровского времени.
В XVIII — начале XIX в. права женщин в отношении приданого еще более окрепли. Среди дававших приданое более половины стали составлять лица женского пола (матери, бабушки, тетки). Попытка пренебречь традицией и волевым усилием запретить давать в приданое недвижимость (1714 г.) оказалась обреченной: в 1731 г. указ был отменен. Напротив, в законах нашли дальнейшее обоснование исключительные права женщин на приданое как таковое: отмена права мужа "справлять" приданое на себя, запрет распоряжаться им без ведома жены, предписание наделять дочерей приданым во что бы то ни стало, непризнание купчих на приданые земли, если они подписаны одним мужем, хотя бы и при наличии "поверенных писем". Разумеется, в жизни случалось всякое, но законы времен Елизаветы Петровны и Екатерины II не поощряли всевластия мужей. В случае смерти жены муж-дворянин получил наследовать по закону 1/4 часть ее приданого, но в крестьяном быту оно по-прежнему, целиком "уходило" в род умершей женщины.
На протяжении всех девяти веков церковь настаивала на выдаче равных долей всем дочерям. Однако размеры приданого впервые были определены лишь в XVIII в.: не менее 1/14 части отцовского имущества. В реальной жизни все было "в воле" опекунов или родителей. Оспорить их решение было нелегко, а у родителей (до их смерти) — и подавно. И все же, с середины XVIII в. случаи фактических "добавлений" к приданому после смерти родителей и усиления дееспособности женщин стали умножаться.
Опекунские полномочия женщин разного социального положения, как и права их на приданое, были зафиксированы и в нормативных, и в ненормативных источниках X-XVIII вв. В отличие от Западной Европы, где женщины получали статус законной личности лишь через мужчин-соопекунов, на Руси с древнейших времен женщины сами могли быть опекуншами. Матери не были, конечно, обладательницами "ближайшего" права быть ими; соопекуны-мужчины были явлением распространенным, но, однако же, не обязательным. Попечительство над самими вдовами оформлялось нуждающимся в помощи по владению собственностью, если это было оговорено в духовной. Ограничением опекунских полномочий женщины было ее новое замужество или поступление в монастырь. До XVII в. (по закону) и до XVIII в. (фактически) вступление женщины в опекунские полномочия происходило без правовых санкций (не составлялось документов; не был определен и круг прав и обязанностей, за исключением некоторых финансовых дел, перечисленных в духовной; вопрос о вознаграждении тоже решался по обычаю).
В XVIII в. институт женского опекунства получил дальнейшее развитие. Хотя возраст совершеннолетия повысился с 15 до 20 лет, ограничения, наложенные на женское опекунство (до нового замужества или пострижения) отменены не были. И все же у женщин-опекунш появились некоторые права, например, право требовать замены соопекуна или жаловаться на недостаточную его рачительность в управлении вверенным имуществом. С 1775 г. стала создаваться система опеки над сиротами и вдовами дворянского происхождения и,
одновременно, нормой юридического быта стали отчеты матерей-опекунш о своей деятельности органам Дворянской опеки.
Наследственные права менщин были тесно связаны с общим состоянием правовой защищенности женщин, их правом на получение, владение и распоряжение недвижимостью, а в некоторых случаях и с опекунскими полномочиями. Наследственные права женщин были впервые сформулированы в законах XI в., а право на наследование женщинами недвижимости — в ионце XII — XIII вв. С древнейших времен женщины могли наследовать и по закону, и по завещанию (что было способом обойти нормы законов), а вдовы принадлежали к первому кругу наследников (после сыновей). В X — начале XVI в. право на свою долю в наследстве ("прелюбодейную часть") могли иметь не только законные жены, но и "меньшицы". Сестры в X — начале XVII в. наследственной доли не получали; их должны были выдать замуж братья, обеспечив приданым. С XVII в. у сестер даже при братьях появилось право иметь "часть на прожиток", которая могла быть добавлена к приданому.
До конца XVII в. размеры женского наследства никак не определялись и могли быть различными.
Запретительные указы второй половины XVI в. наложили на содержание наследства, "отписываемого" женщинам, те же ограничения, что и на дачу приданого. Родовые вотчины было запрещено давать даже частями и даже по завещанию, не говоря уже о наследовании по закону (те, дали ранее, — отобрали). В жалованных землях жены могли получить лишь часть в собственность, а часть — на прожиток, и то лишь в случае, если земли были пожалованы всей семье, а не одному "войнику". Купленные земли давались в наследство свободно, но Соборное Уложение подкорректировало и эту норму: во второй половине XVII в. лишь часть "купель" могла быть передана женщине в собственность (другую часть оставляли "до живота"). Поместные земли женщины не получали в наследство до начала
XVII в., когда часть их стали давать на прожиток (тем больший, чем больше были заслуги хозяина поместья: гибель на государевой службе или, тем более, в ходе военной кампании была значимее, чем простая смерть дома).
Но, несмотря на все запреты, частные акты XVI-XVII вв. рисуют богатую картину приемов и уловок, к которым прибегали составители завещаний, чтобы отдать общенажитое женам. Кто-то передавал жене наследство на правах совладельчества или представительства, кто-то для этого использовал подставных лиц, кто-то завещал продать земельный участок, а вырученные деньги отдать вдове. Как и в домосковский период, в Х\/1-Х\/11 вв. женщины свободно дарили, жаловали, продавали, отдавали в приданое и по завещанию, обменивали, разделяли, закладывали, получали в дар, приданое, в наследство и, наконец, покупали движимость и недвижимость.
Всеми этими операциями обеспеченные дворянки занимались и в
XVIII — начале XIX столетия, что было подтверждено специальными законами (о праве писать купчие и закладные, наследовать недвижимость и т.д.). С наследования по завещанию были сняты все запреты ("кому похочет"). Нормы о наследовании вдов по законам этого времени, если не обеспечивали прямо их интересы, то создавали лазейки для их обхождения. Например, норма, требующая выдавать
вдове по закону только 1/7 часть семейного имущества, легко обходилась получением дополнительной части (в том числе земли) через закладную процедуру. В семьях победнее вдовы в XVIII в. получили право на "пенсион". Он назначался пожизненно и равнялся 1/8 получаемого мужем заработка (иногда — земельному эквиваленту годового жалованья, но участок давался далеко от центра).
В крестьянской среде письменных завещаний не составлялось, женщины наследовали по обычаю. Община, выполняя функции душеприказчика и определяя размеров наследства, исходя из двух "начал" кровного и трудового (меры труда, вложенного на приобретение семейной собственности). Когда община решала отдать все добро кому-нибудь из дальних родственников-мужчин, — вдовы часто "чинили упорство и противоречие", посылая жалобы властям и требуя пересмотреть решение общинного схода. Дочери ("законные наследницы", в отличие от "природных наследников" — сыновей) получали свой выдел из имущества семьи, как и сыновья. Иногда их наследственная квота могла уступать и в 10 раз доле "природного наследника", а могла быть и равной ей.
Вопрос о процессуальной дееспособности женщин и месте их в системе уголовного права в доиндустриальной России внес особый — и очень важный — оттенок в картину их правового положения. С самого раннего времени женщины на Руси являлись субъектами права. Они сами отвечали за свои проступки по закону и были этим законом — по крайней мере формально — защищены от всевластия мужей и других родственников. В древнейший период (до XV в.) в ряде русских земель им было предоставлено право выбора: самим участвовать в судебном поединке ("поле") или же выставлять вместо себя наймита (при поединке двух женщин наймиты отменялись). В XVI-XVII вв. женщины по-прежнему могли участвовать в судебных делах — через крестное целование поручителей (в 1690 г. заменено доверенностью). В то же время, в 1550 г. было введено процессуальное ограничение: женам запрещалось послушествовать "за" или "против" мужа, так как они считались в их "воле". Аналогично, считались недостоверными завещания жен, в которых мужья объявлялись душеприказчиками. Жена одного тяжущегося не могла свидетельствовать по ссылке другого; детям не разрешалось свидетельствовать против матерей. Московские законы не запрещали женщинам быть поручительницами по договорным обязательствам, но обычно женщин в поручители не брали. По документам уголовного права и "вопросникам" епитимийных сборников женщин предстают участницами множества мелких насильственных действий (драк, потасовок, мелких краж), причем равно часто они были жертвами, и инициаторами стычек и сквернословия.
XVIII столетие стало эпохой расширения процессуальных полномочий женщин разных социальных страт. Женщины (даже крепостные) получили законное право выступать "стороной" на судебных процессах (что случалось и ранее, но — явочным порядком) и считались теперь с 17 лет субъектами права. Изуверские способы наказания женщин, существовавшие в допетровской России, были заменены цивилизованными. Все ограничения на обязательственные сделки между супругами были отменены. Материальная и процессуальная независимость женщин в браке способствовала
индивидуальной самоидентификации отдельных представительниц верхушки общества и росту женского самосознания в целом. История эволюции гражданских и личных прав женщин России с X по XVIII в. привела к выводам о динамичности и поступательности, хотя и нелинейности процессов укрепления юридического статуса женщин, трансформации социально-правовых взглядов, ориентированной в перспективе на идею равенства лиц, принадлежавших к одному социальному слою, независимо от пола и семейного статуса.
Изучение эмоциональной стороны древнерусского супружества, роли в нем женщины, анализ бытования образов "доброй' и "злой' жены, особенностей межсупружеских отношений в предындустриальную эпоху (XVIII в.) привело к выводу, что объем имущественных и процессуальных прав супруги в допетровское время зачастую мало влиял на ее положение в семье, а в XVIII в. превратился лишь в предпосылку "выравнивания" супружеских отношений. Отношения между мужем и женой в русской семье доиндустриальной эпохи регулировались и определялись не столько нормами законов, сколько православной концепцией брака, семьи и роли в ней женщины. Акцентируя внимание на тендерной стороне этого утверждения, стоит подчеркнуть, что взаимоотношения полов подобны социальным, культурным, этническим: образцы в них всегда навязывались сильнейшими. Идеальная роль женщины в супружестве была создана мужчинами, пропагандировалась ими же, а изменения во всех оценках были связаны с изменениями прежде всего мужсного и лишь затем женского (с середины XVIII в.) самосознания. Вызывающее акцентирование мужского превосходства во всех источниках допетровского времени скрывало, возможно, неуверенность и страх перед фактическим женским "господством" в одной из главной сфер жизни — домашней. Признание церковью ценностности супружеской роли женщины
произошло отнюдь не вместе с принятием Русью христианства.
В Х-ХШ вв. более желательным объявлялись девственность и безбрачие, подлинно достойными христианками — те, что отвергли "плотногодие". Это был период упорной борьбы церкви с существованием супружеских союзов, в которых "женами" назывались все сожительницы князя. Однако уже в домонгольское время наряду с первой концепцией существовала и вторая, также настаивавшая на превосходстве девственниц над "мужатицами", но тем не менее пропагандировавшая брак ради "детородия". Утвердившись к XIV в. в верхних слоях русского общества (тогда и церковное благословение стало обязательной процедурой в бракосочетании князей), эта вторая концепция — моногамного брака — заставляла видеть в нем отношения духовного единения и эмоциональной близости, "любви", которая, однако же, не должна была нести в себе плотского смысла. Вместе с концепцией супружеской любви, православные проповеди пропагандировали образ идеальной, доброй жены, для которой супружеская роль выступала как единственно возможная из всех социальных ролей, а домашняя жизнь — как особая "среда обитания" и положительной деятельности.
Обобщенный образ доброй жены, встающий со страниц православных текстов Х-ХМ вв., — это образ женщины целомудренной и верной, работящей, смекалистой в хозяйственных делах, хорошей
матери, ровни мужу по социальному и материальному положению, молчаливой и безответной в страдании, религиозной, социально пассивной, покорной, красивой внутренней (духовной), а не внешней красотою, согласной не выходить замуж вторично в случае вдовства. Примеры добрых жен обнаруженные в летописях, повестях, "словах" — это жены, матери, сестры известных князей, прославившихся добрыми деяниями и уже по рождению бывших носителями "врожденного капитала добродетелей".
Проявление же себя в осуждаемых церковью формах социальной активности — внесемейной, внесупружеской, внедомашней — было для большинства женщин средством самоактуализации, хотя социально допустимые формы ее в политической, экономической, культурной жизни были до середины — конца XVII в. очень узкими. Этой самоактуализации и старались не допустить авторы православных проповедей, конструируя образ-антагонист. Обобщенный портрет злой жены объединял в домосковское время не только вневременные негативные качества (неверная, ленивая, безалаберная, плохая мать), но и свойства, осужденные церковными проповедниками (красавица; общительная; сомнительно религиозная; неровня мужу — и к тому же занимающая более высокий социальный статус; социально активная). Примеров злых жен было в обычной жизни с избытком (этим объясняется лучшая "проработанность" и детализированность их образов). Но в летописи их прототипы попадали куда реже жен добрых-, переписчики не фиксировали внимания на их судьбах из дидактических соображений.
Развитие культа Богородицы в XIV-XV вв., распространение исихазма, окончательная периориентация православных проповедей с идей целибата на идеи целомудренного брака — хронологически совпали с ростом общественного признания супружеской роли женщины и переосмыслением ценностных ориентаций. Некоторое отступление от идеи "второсортности" женщины, казавшееся поначалу почти еретическим, к началу XVII в. привело к изменениям если не во взаимоотношениях полов как таковых, то во взглядах на них, в оценках со стороны современников. Идеал доброй жены в XVII в. существенно расширился и изменился. Лишь постулаты "верности" и "хорошего материнства" не испытали эрозии. На первое же место в оценке супружской роли женщин выдвинулись ум, умение дать продуманный совет (в то время как раньше "высокоумие" женщины считалось ее "погрешением"). На втором месте оказались самостоятельность и инциативность супруги, что подпитывалось изменившимися обстоятельствами жизни: возрастающей активностью дворянок в делах управления и распоряжения земельной собственностью. Положительно стало расцениваться стремление женщин в нужный момент вмешиваться в служебные дела сыновей, мужей, племянников, составлять протекцию родственникам и знакомцам — то есть истинно женское умение участвовать в социальной жизни, оставаясь как бы невидимыми. Доброй женой стала считаться женщина общительная ("людцкая"), красивая (но не за счет косметики), эмоциональная, сопереживающая и сочувствующая чужой боли, обеспечивающая сохранение "клановости", корпоративности членов семьи. Создатели концепции доброй жены — а это были мужчины — присвоили ей качества "олицетворенной совести" : идеальные женщины должны были
постоянно быть нравственным примером своим мужьям, принципиально неревнивыми, равнодушно относящимися к их изменам, и при этом сознательно признающими свою второстепенность, слабость, "за-мужность", хотя бы в жизни они и были очень активными. Частная переписка показала, что в реальной супружеской жизни непременными условиями доброго супружества стали считаться отношения взаимного заступничества, доверия, уважения и нежности (слово родилось именно в XVII в.); но в литературе дидактической все пожелания оставались односторонними (от мужей требовалось меньшее). Добрая супруга рассматривалась как самоценное существо, обладающее достоинствами и добродетелями, сопоставимыми с мужскими, а в некоторых — довольно редких, однако, — случаях даже превосходящими их.
Образ злой жены в предпетровсную эпоху как бы приблизился к современным представлениям о плохой супруге, дополнившись привычными характеристиками: "сварливая", "гневливая", "крадливая". Злыми женами стали именовать также "еретиц", чародейниц (поскольку именно женщинам приписывались магические способности), а также тех, кто обманным макияжем умел выдать себя за красавиц.
Не только авторы-посажане, но и переписчики дидактических текстов к XVII в. признали, что вполне добрая жена при ущемлении ее достоинства, обиде, клевете на нее, измене — могла обнаружить себя не терпеливым агнцем, а женой злой. Вопрос о способах "перевоспитания" злой жены в жену добрую, которое должен был осуществлять глава семьи при поддержке "отцов духовных", неоднократно поднимался в дидактической литературе XVI-XVII в. Самым простым из таких способов, известных по "Домострою" и запискам иностранцев, был способ физического воздействия. Вне сомнения, в средневековье и ранее Новое время, когда вся жизнь людей была наполнена насилием, вряд ли можно было ожидать от семейных отношений только душевности. При этом судебные акты, содержащие описания бытовых конфликтов, изобразили одних супруг скандалистками и драчуньями, инициаторами и провокаторами ссор, а других — безвинными жертвами агрессивности мужей. И все же и светская, и церковная литература предпетровского времени стали активно настаивать на принципиальной возможности изменить характер супружеских отношений, не "бия" супруг "жезлом", но обороняясь от их нападений и сквернословия "приложением пластырей разума". Идеи дидактиков находили отклик прежде всего в образованной среде: частная переписка дворян и князей — живое свидетельство не только партнерских отношений мужей и жен, но и искренней супружеской привязанности в современном понимании слова. Правда, в отличие от более позднего времени, признания значимости сексуальной стороны супружества в России XVI-XVII вв. так и не произошло.
XVIII столетие внесло свои поправни в оценку супружеской роли женщины, и связаны они были со своеобразным "открытием индивидуальности" и осознанием — по крайней мере "образованным сословием" — ценностности семейной жизни и супружества. Этому способствовали три важнейших фактора: (1) централизация и бюрократизация административной власти, окончательно обозначивших "отделенность" друг от друга частной и публичной сфер6; (2) новый, светский характер культуры; (3) большая доступность книг и развитие (не без влияния Запада) литературного процесса. В произведениях
позднего барокко, классицизма, а в конце XVIII в. сентиментализма отразилось противопоставление личного и общественного, долга и влечения, разума и чувств, то есть всего того, что характеризует две стороны жизни общества и индивида7.
В "мире мужчин" по-прежнему господствовали внедомашние ценности, противовес которым в виде "семейного рая" возник (только для дворян, да и то условно!) после указов "о вольности" от гражданской и военной службы 1762 и 1785 гг. Тем не менее, именно в XVIII в. отношение мужчин к семейной жизни переменилось, в ней стали видеть душевное спасение от неудач в карьере, жизненную альтернативу, а дом — понимать как "пространство сферы частного". Общественное мнение, сформированное литературными образцами, предписывало теперь представителю дворянского сословия уважать "нежнейшие чувствования" и саму личность женщины, уметь развлечь ее, быть "вежественным" и готовым ради нее к самосовершенствованию. Социальный престиж женщин рос параллельно повышению самооценки собственного достоинства мужчин-дворян, оказывая воздействие на формирование новых черт в их представлениях об идеальной супруге.
Женский же мир для большинства россиянок как был, так и остался в XVIII в. миром прежде всего домашним. Это был мир замужних женщин, обремененных несколькими детьми, чьи попытки духовной самореализации были все так же ограничены рамками семьи, а супружеская роль оставалась одной из ведущих.
Хотя значение церкви в формировании идеала супружества и ослабло, однако внедренные православной концепцией нравственные постулаты превратились в элемент национального сознания и в немалой степени определили содержание женского самосознания, в том числе в отношении супружества. В новой концепции доброй жены, отвечавшей идеалам и ценностям верхушки общества, на первом месте оказались: внешняя привлекательность и обаяние; любезность; достоинство в сочетании с добрым, веселым нравом; молодость; воспитанность ("учливость") и, к концу века, образованность. Все эти качества "добрых жей' повышали престиж их мужей: в отличие от предыдущих столетий, супруги должны были теперь часто бывать в обществе, а нем родилось понятие "хорошего вкуса" (в отношении одежды, убранства дома и — в выборе спутницы жизни). Впрочем, далеко не все дворяне, а лишь узкий слой столичной аристократии, могли позволить себе иметь жену, играющую роль декорации, а потому защищать ее праздность как символ своего социального статуса. При сохранении традиционного распределения супружеских ролей (когда муж служил, а жена вела все дела, связанные с имениями), особую значимость приобрела концепция "жена-друг" ("лучший советник по кабинетским занятиям"), то есть такая супруга, которая умела бы похлопотать о выгодном назначении мужа, проникнуться его интересами и желаниями. О целомудрии как необходимой добродетели замужней дамы в дворянском сословии говорилось редко. Разумеется, ни один муж не мог желал иметь жену-ветреницу, а тем более изменницу, однако возросшая публичность женского образа жизни создала предпосылки для пермиссивного ("допустительного") отношения не только к женской коммуникативности и социальности, но и к латентным (скрытым) формам внебрачной активности. Социальное
равенство супруги заместилось в XVIII в. пожеланием материальной обеспеченности спутницы жизни. Не испытали изменений — как и ранее — такие качества, как преданность и верность, "доброе" материнство, хозяйственность и рачительность. Идеал доброй жены по-прежнему был ориентирован на женщину профессионально не работающую. Хотя в России XVIII в. и появились зачатки системы женского образования, они мало повлияли на "мужские" идеалы; подспорьем им служили распространяющиеся просветительские идеи с их "научным" обоснованием "естественного" (заданного функцией продолжения рода) предназначения женщины к заботам по дому. В остальных социальных стратах, помимо дворянской, концепция доброй жены почти не испытала трансформаций; это касается и взглядов на женский труд.
Образ злой жены в XVIII в. практически исчез из литературных произведений, оставшись в фольклоре и лубочных картинках. Приписываемые злой жене качества остались — по сравнению с допетровским временем — почти без изменений. К ним добавилось лишь осуждаемое простонародьем стремление подражать иноземному (злых жен изображали на лубках в иноземной одежде, с модными прическами). На супружество в народной среде смотрели как на неизбежность; добрые отношения между мужьями и женами культивировались традицией, общественным мнением. Частная переписка образованных крестьян конца XVIII — начала XIX в. показала, что без доброты и привязанности, которые жены испытывали к мужьям, их повседневность, наполненная тяжелым трудом, была бы еще более нелегкой. Скудость комплекса источников личного происхождения, связанных с частной жизнью крестьянства, не позволила сделать обобщений об отношении к супружеству самих крестьянок.
Напротив, число источников личного происхождения (мемуаров и записок) представительниц верхушки российского общества вполне достаточно для реконструкции "мира чувств" супруг-дворянон, которые до возникновения жанра женской автобиографии "безмолствовали". Именно в XVIII в. появились дворянки, анализировавшие собственную жизнь, мир вокруг них и свое место в нем. Но ценностность своего мира, его самостоятельность и отличность от мира "мужского" осознавали единицы. Редкие из женщин стремились доказать свою "самость" в отношениях с мужьями. Мотивы их вступления в брак были очень традиционными (брак и материнство рассматривались как норма жизни). Давать простор интимным чувствам было не принято. Главным свойством доброй жены женщины считали любовь к мужу, но в их понимании "любовь" была скорее моральным обязательством, нежели всепоглощающим чувством. Из этого свойства вытекало второе: обязанность быть рядом со своим суженым, какие бы невзгоды ни выпали на его долю (мужчинам этот мотив не внушался, и они никогда не касались этой темы). Готовность жертвовать собой во имя супружеского долга, быть духовной опорой мужчине ("подкреплять" его) демонстрировали многие из российских дворянок, считая подобные поступки жизненным призванием (мужчины об этом также не рассуждали). Любая дворянка была готова видеть в муже наставника, "руководителя", "старшего". В отношении собственного "права" на адюльтер женщины — авторы мемуаров — были категоричны:
нравственный долг требовал от них быть верными супругами. Общее впечатление, оставляемое мемуарами дворянок с точки зрения истории супружества и женских эмоций — это снованность, самоуглубленность, умышленное самоограничение, большая зависимость — и от условностей, и от традиций, и от религиозно-нравственных постулатов. Ни в одном из воспоминаний женщины не проявили прагматизма в оценке своего супружества (стремления улучшить через него своего материального положения, повысить социальный статус), мужчины же признавались в подобных мотивах заключения брачных уз без всякого стеснения.
Повседневные межличностные отношения супругов в российских семьях XVIII — XIX вв. харантеризовались по-прежнему большой вариативностью. Жалобы и прошения, поступавшие в адрес обер-прокурора Синода, свидетельствуют, что насилие — главным образом, мужей над женами — было рядовым явлением и в крестьянской, и в дворянской среде. Мотивами конфликтов чаще всего было неподчинение жены мужу, психологическая непереносимость супругов, измены. В памятниках личного происхождения описаний семейных конфликтов почти нет. Традиция "не выносить сора из избы" действовала сильнее формальных запретов. Преимуществом дворянок в семейных ссорах была их образованность: они могли хотя бы составить жалобу и надеяться на наказание супруга-обидчика. Крестьянки оказывались беспомощнее, отвечая на насилие, как умели: просили священников развести, решались на убийства и самоубийства. Грубый и откровенный произвол во внутрисемейных отношениях крестьян был не нормой, а исключением. В "мире чувств" и крестьянок, и дворянок XVIII — начала XIX в. преобладали не злоба и ненависть, а мир и лад.
Отношение современников к материнству и "материнской роли" женщин в течение X — начала XIX вв. изменилось незначительно, что было обусловлено биосоциальностью самого явления материнства8. Характерной чертой отношений матерей и детей в России на всем протяжении рассматриваемого времени была их эмоциональная насыщенность.
Потребность в детях в древнеруссних семьях и репродуктивное поведение самих женщин определялась прежде всего — социальными и лишь во вторую очередь — индивидуальными факторами. На формирование социальных факторов и, следовательно, на отношение к материнству до конца XVII в. оказывали влияние две традиции — народная и церковная. Народная концепция материнства придавала ему изначально большую ценность. Бездетной паре грозили нищета и бедность. Бездетная женщина, как и бездетная семья, в крестьянском мире XVIII в. в обычном праве считались неравноправными. Церковная концепция материнства видела в постоянном рождении "чад" оправдание сексуальных отношений супругов и, поощряя многодетность, трактовала как благо категорию общественной необходимости. И светская, и церковная традиция высоко оценивали репродуктивные и воспитательные функции женщины-матери и в равной мере характеризовали "норму" в межличностных детско-родительских связях.
Стандартом для русского общества до начала XIX в. была высокая рождаемость, хотя детность семей была средней (немногие из "чад"
доживали до совершеннолетия). Отношение самих женщин к частым родам было двойственным: в них видели и благо, и тяжкое бремя. Контрацепция практически отсутствовала (и была наказуемой строже абортов). Бесплодие и выкидыши могли быть приписаны религиозному нерадению, неверности мужу, совокуплению с ним в "неположенные" дни. На высокую детность семьи "настраивали" женщин обе традиции: и светская, и церковная. Они требовали равного отношения ко всем детям, независимо от пола и эмоционально-индивидуальной привязанности и вменяли в обязанность лечить заболевших детей без какого-либо предпочтения. На протяжении всего доиндустриального периода и создания системы здравоохранительных учреждений (да и тогда, когда они возникли) обязанность выхаживать детей считалась типично женской, материнской. Матери столетиями хранили и передавали по женской линии составы терапевтических средств, в том числе гинекологических, акушерских, педиатрических. Родовспоможение до начала XIX в. оставалось на низком уровне: большинство женщин рожало дома, часто без помощи повитух. К смертям детей матери относились как к неизбежности; детей с уродствами принято было умерщвлять (запрещение 1704 г. действовало слабо).
Разные виды и типы источников дали противоречивую информацию об эмоциональном содержании взаимоотношений матерей и детей и отношении и материнству в ранний (домосновсний) период. Сравнение источников домосковского периода с памятниками ХМ-ХУП вв. позволило прийти к выводу, что поддержание теплых, эмоциональных отношений между матерями и детьми в русских семьях существовало не "от веку" 9. На первом месте в репродуктивном поведении женщин X — начале XVI в. стояли фанторы прантичесние. Отношение самих женщин к выполнению их, как настаивала церковь, "предназначения" — быть матерью, в разных семьях (неразделенных и малых, городских и сельских, зажиточных и бедных) в разные периоды истории было разным (амбивалентным). Эта амбивалентность и рождала двойственность эмоционально-психологических связей матерей и детей, обуславливая, с одной стороны, некоторое недостаточное внимание к детям, особенно типичное для раннесредневекового периода (о чем говорят низкие штрафы за избавление от детей, стремление быстрее считать детей взрослыми, отсутствие разделения "чад" и взрослых как адресатов дидактических текстов). С другой стороны, приведенные в диссертации факты, собранные в нарративных памятниках X-XV вв., свидетельствуют о многочисленности примеров материнской и, шире, родительской любви и заботы о детях10.
Православная этическая мысль Х-ХУН.вв. не отделяла материнского воспитания от отцовского, настаивая на их преемственности и взаимодополняемости. Народная традиция зафиксировала большую мягкость материнских методов воздействия по сравнению с мужскими, отцовскими, большую свободу, предоставлявшуюся детям матерями. Эта условная "свобода" сосуществовала в умонастроениях древних русов с тенденцией мужского воспитания ("запретительной"), отличавшейся явными строгостями и ограничениями. Ее и пропагандировала вплоть до конца XVII в. православная этика, активно вмешиваясь в частную жизнь женщин и пытаясь направить в необходимое для нее русло семейную, в частности — материнскую педагогику. Подоплекой репрессивных методов воспитания была
закрепляемая церковной идеологией иерархичность семейных отношений. В то же время, настаивая на моральной ответственности матери за жизнь и воспитание ребенка, церковь способствовала его сближению с нею, делала маленького человека более "заметным" и для общества.
Постепенно, но не ранее нонца XVI — XVII вв., на передний план в материнском воспитании, отношениях матери и детей выдвинулись факторы личностно-эмоциональные, которые как "элементы", как "ростки" существовали и ранее, когда материнская любовь была делом индивидуального усмотрения и явлением социально вероятным, но не слишком распространенным. Трансформации в отношениях матерей и детей основывались на обновленной православной концепции материнства, прославлявшей теперь его "светоносность", "непечалие", величие. С другой стороны, индивидуально-личную остроту отношения матерей и детей в Московии Х\/1-Х\/11 вв. могли приобрести и в ситуациях, вызванных нарушением детьми общепринятых нравственных норм, совершения ими уголовно-наказуемых деяний или же неординарностью ситуации (развод родителей, усыновление ребенка). Невнимание матерей к детям сменилось в XVII в. бережным к ним отношением, но это обнаружившееся внимание было ассиметричным: и светская, и церковная традиции требовали уважительности со стороны именно детей к матери без "обратной" связи — уважения матерью интересов ребенка. Жаловаться на произвол матерей дети не могли ни в XVII в., ни позже. Напротив, матери могли наказывать непокорных; в XVIII в. — отправлять в смирительный дом. Своеволие детей матери либо выколачивали (что, вероятно, было частым на практике), либо вытесняли длительным психологическим прессингом (нравоучениями, назиданиями, примерами из собственного опыта и жизни святых).
И в эпоху петровских реформ, и позже в редкой семье родители понимали, что статус ребенка имеет свои особенности. Лишь во второй половине XVIII в. появились первые законодательные акты, смягчившие тяжесть уголовных наказаний для детей, а в мемуарах и литературных произведениях была зафиксирована не просто "отличность" мира детей от мира взрослых, но и восприятие его как "золотой поры". С известным допущением можно утверждать, что это было время открытия матерями ценностности детства, смягчения "асимметричности" отношений, которые (если судить по источникам личного происхождения) начались "сверху" — с "образованного" сословия. Первые размышления о "правильности" или "неправильности" детского воспитания, его полноте, качестве, "утонченности", целях прослеживаются именно в женских мемуарах, поскольку материнство было для дворянок одной из главных сфер самореализации. Основной упор в дидактике, касавшейся материнского воспитания, стал делаться на ласку, разумное ограничение, запрещение лишь тех прихотей ребенка, которые могли угрожать его здоровью. В реальной жизни, детей воспитывали по-разному. Большинство мемуаристов (как мужчин, так и женщин) отметили исключительную доброту матерей. Деспотизм матери не был отмечен никем — не оттого, что не существовал, а оттого, что неписаные нравственные нормы исключали возможность фиксации подобного.
С древнейших времен на Руси складывалась традиция особых отношений между матерями и взрослыми детьми, которые — согласно
православной концепции — должны были "отплачивать" матерям за их материнский труд (в законченной форме это нашло отражение в сюжете о спасении Спасителем-сыном материнской души). Длительные, эмоционально богатые отношения детей с матерями оказывали влияние на формирование детских взглядов на мир, а затем на проверку их "соответствия" сложившимся представлениям, "общепринятому". Это утверждение можно признать верным с учетом фактора времени, социальной среды (ибо в семьях "простецов" воспитание детей происходило стихийно, во время труда и досуга, а в знатных семьях этот процесс направлялся православными идеологами через дидактическую литературу), а также формы органической группы (семьи, рода, клана), к которым принадлежали мать и ее ребенок. Устойчивость межпоколенных связей способствовала цементированию родового единства, осознание которого прослеживается в традиции имянаречения. Она сохранялась и в Х\/1-Х\/11 вв., и позже. Важным социопсихологическим механизмом, обеспечивавшим связь поколений, был обычай поминовения душ усопших, соблюдение которого возлагалось в случае смерти матери на всех живущих.
К XVIII в. защитники постулатов православия добились того, что уважение к матери превратилось в общепризнанную норму нравственной жизни, моральный императив. К "винам сыновнего неблагодарствия" к матери были отнесены не только очевидно криминальные и безнравственные поступки, но и все проявления личностного противоречия воли матери, все факты индивидуальной самостоятельности. Источники личного происхождения, созданные в дворянской среде, доказывают, что к матери принято было относиться как к "слабой", защищать ее, уступать ей, а это исключало создание обстоятельств для проявления своеволия и любых форм протеста против авторитарности. "Обратная связь" — внутренне осознаваемая обязанность "поднять" детей, ответственность за них, настойчивая материнская "любовь" простиралась и на взрослых сыновей, довольно активно стремившихся в самостоятельности. Нормой в отношениях матерей и взрослых детей было сохранение в руках родительниц всех "нитей" управления поместьями, выделение детям лишь определенной суммы "на прожиток", контроль за выполнением ими покупных операций. Матери часто выручали сыновей при материальных затруднениях, но могли и наказать лишением поддержки и помощи. Особенной авторитарностью и критичностью отличались отношения матерей с незамужними взрослыми дочерьми. В "самовластие" матерей проявлялась стойкая российская традиция приоритета материнского слова и поступка по отношению к ребенку, каким бы взрослым он ни был.
Содержание материнсного воспитания и обучения менялось в соответствии с изменением педагогических взглядов общества в целом. В X-XVI-oм, да и в начале XVII в. главным в домашнем (и, следовательно, материнском) воспитании была выработка в ребенке нравственных начал, веры, покорности, великодушия, умения прощать, ладить с людьми, особенно с родственниками, соседями, друзьями. Авторы церковных проповедей ставили на первое место задачу сохранения девственности девочек и выработки половой сдержанности мальчиков и совсем не касались, например, вопроса об обучении детей профессиональным навыкам или грамоте. Летописи и нарративная
литература свидетельствуют, однако, что образовательные функции были значимой частью материнского воспитания не только в XVIII в., но и на протяжении древнерусского и московского периодов (об отце речь заходила лишь при переходе ребенка в отрочество).
В XVIII в. значение материнской педагогики в дворянских семьях резко выросло. Никакие пансионы и институты не могли покрыть потребностей в женском образовании, да и при подготовке мальчиков к обучению в профессиональных школах роль их матерей была высока. Если у семьи была возможность — нанимали учителей. Функции подбора репетиторов и гувернеров, организации их жизни в доме и контроля за ними были типично женской обязанностью. Любая ограниченность семьи в финансах при осознанной потребности "дать образование" возлагала на матерей дополнительные требования: именно мать (иногда — вместе со старшими детьми) обучала иностранным языкам, музыке, рисованию, пению, девочек — "швению" и "разным рукоделиям". И концу XVIII в. в России относится появление женских и детских библиотек, оказавших существенное влияние на формирование духовного мира девочек и девушек. Имея больше досуга, нежели мужья, матери в дворянских семьях были прекрасными педагогами, умели привить детям вкус к книге и знаниям, формировали — с помощью круга чтения — их духовный и нравственный облик.
Особой страницей в истории российского материнства доиндустриальной эпохи были отношения матерей-воспитательниц и "не своих детей" — воспитанников, внебрачных детей, приемышей и др. В Х-ХУП вв., когда семьи представляли собой обширные домохозяйства, а супруги глав этих домохозяйств были заняты более организацией "домашней экономики" и работой челяди, нежели поисками общего языка с детьми, тесные эмоциональные контакты часто складывались у воспитанников и воспитанниц с их кормилицами, няньками (в XVIII в. в дворянских семьях они чаще всего были крепостными, а в семьях простонародья функции нянь исполняли сестры), "мамками", воспитательницами. В известной степени эти отношения замещали, сублимировали потребность детей в материнской любви.
Рождение и проживание в одной семье детей "законных" и "незаконный (побочных) долгое время не считалось моральным позором для женщины, и они даже могли поначалу (Х-ХШ вв.) наследовать свою "часть" имущества наряду с законными детьми. В XVIII в. в непривилегированных социальных слоях принято было терпимо относиться к добрачным детям и критично — к внебрачным; в привилегированных — наоборот — добрачные дети были редкостью, наличие же внебрачных (бастардов) превратилось в социальное явление, потребовавшее законодательной регламентации. К приемным детям, взятым на воспитание по практическим (интересы наследования) или, реже, эмоциональным мотивам в семьях относились часто даже с большим вниманием, чем к родным детям.
Аналогичные по окраске эмоциональные связи могут быть прослежены и в традиционных для русских семей ХУ1-ХУШ вв. теплых отношениях бабушек и внуков. О существовании их в более раннее время делать выводы затруднительно, поскольку бабушки — в силу меньшей продолжительности жизни в Х-ХУ вв. часто, вероятно, просто
не доживали до "третьего поколения". В XVIII же веке бабушки превратились в "структурообразующий" элемент семейных связей, а их отношения с внуками — в "смягчающий элемент детства". Уважительность к бабушкам превратилось в стойкую народную и православную нравственную норму, которая основывалась на материальных (распорядительницы имений и душ) и эмоциональных (воспитательный опыт) основаниях.
Эмоциональную окраску отношений мачех с детьми мужей от предыдущих бранов — лучше всего отразили поздние (ХУИ-ХУШ вв.) фольклорные источники (негативные характеристики мачех). Актовый материал отразил реальную жизнь в ином свете: жены и вдовы часто принимали на себя опекунство и уход за этими детьми. Усиление эмоциональности в материнско-детских отношениях шло параллельно с процессами обмирщения духовной сферы, ростом значимости и ценности частных, личных переживаний. Развитие этих процессов влекло за собой большую "социальность" в биосоциальных отношениях матерей и детей, их большую осознанность, ответственность друг за друга и глубину.
Анализ социокультурных и социопсихологических изменений во взглядах на роль и место женщины в русской семье X — начала XIX в., выявил исключительную важность отношения современников к интимной жизни женщин в бране, оценке ими внутренних (интериорных) переживаний женщин, связанных с нарушением норм и запретов, выработанных составителями покаянных книг, авторами проповедей и светских дидактических сочинений, т.е. мужчинами. Этот анализ подтвердил также и то, что "половая мораль относится к числу
самых консервативных и устойчивых элементов культуры.
Голос самих женщин в отношении интимной сферы жизни оказался практически неслышимым (причем не только в допетровскую эпоху, но и в XVIII — начале XIX в.). Это не является подтверждением малой значимости для них сексуальной стороны брака. Любовные записки XII-ХМ-го и XVII в. не оставляют сомнений в важности этой стороны жизни для русских женщин, но не дают основания утверждать что-либо об особой "духовности" этих отношений в доиндустриальную эпоху. Физические удовольствия представляли для многих женщин известную ценность и в этом смысле мало отличались от желания досыта наесться. Однако вся история морального воспитания женщин с помощью постулатов церковной дидактики — это история суггестивного воздействия, внедрения в их сознание понимания любви как сострадания, милосердия, жалости без какого бы то ни было чувственного оттенка. Главным методом работы православных проповедников с женской паствой было не устрашение (как на католическом Западе), а апелляция к совести и убеждение.
"Открытия" мира чувственных переживаний представительницами привилегированных сословий в России (в отличие от Западной Европы) в доиндустриальную эпоху так и не произошло, хотя вся история "интимности" от раннего средневековья к Новому времени постепенно создавала необходимые предпосылки для этого. Тендерный подход к истории интимности заставил признать, что "мир мужчин" (в отличие от "мира женщин") преодолел к середине — концу XVIII в. ограничения средневековой православной морали. "Мир женщин" — напротив, воспринял их настолько глубоко, что и в начале XIX в. отношение к
интимному у женщин "образованного сословия" определялось понятиями "воспрещенного" и "недостойного". Вся эротическая культура в России оставалась сферой мужского эгоизма. Отношение к интимной сфере женщин из нрестьянсной среды характеризуется за рассматриваемый восьмивековой период слабой изменчивостью. Никакого эмоционально-психологического ореола, полного запретов, никакой истерической озабоченности вокруг половой жизни женщины в браке у крестьян не было. Общая тенденция с Х\/11-го в. (когда появились первые записи пословиц и народных песен) до начала Х1Х-го в. характеризуется в среде простонародья — в том числе в среде женщин — ростом признания самоценности чувственных радостей.
Анализ церковных нормативных и нарративных источников, летописей, редких свидетельств частной переписки Х-ХУ вв. показал, что в ранний (домосновсний) период у средневековых русов отсутствовало даже само понятие интимности в современном смысле слова11. Граница, отделявшая один пол от другого, осмысливалась иначе, чем ныне. Брезгливость и стыдливость отсутствовали (члены одной семьи ели и пили из одной чаши, купались без различия пола, спали вповалку на одной постели — за исключением представителей верхушки феодальной знати). Обнажение — в том числе обнажение женщины — само по себе не считалось постыдным.
Отношение составителей назидательных "поучений" и "слов" Х1-Х1У вв. к сексуальности женщины формировалось общими установками православной концепции, видевшей в них воплотительниц сексуального удовольствия. При этом сексуальное влечение будущих супругов не бралось в расчет ни родственниками, ни "отцами духовными". Способность к деторождению у женщин (в не меньшей степени, чем потенция мужчин) могла быть — без всякого стеснения — предметом обсуждения родственников, соседей, и, соответственно, отсутствие ее закон формально признавал основанием для развода. При всем осуждении греховного "плотногодия", составители покаянных сборников настаивали на неправомерности уклонения кого-либо из супругов (особенно — мужчины) от выполнения супружеских обязанностей. Церковь была заинтересована в том, чтобы ребенок считался в семье даром Божьим, и потому настаивала на запрете регулировать рождаемость с помощью "зелий" и механических абортов.
Некоторые церковные нормы способствовали защите здоровья женщин (требование гигиены половой жизни и пр.), иные — их было большинство — противоречили (осуждение контрацепции и др.). Так называемый "блуд" (добрачный секс и внебрачные отношения вдов и "пущенниц") был менее наказуем для женщин, чем "прелюбьГ (адюльтер): последние нарушали традицию подчинения, постулированную православием. В делах супружеских измен четко действовал "двойной стандарт" : мужчины наказывались меньшими епитимьями, чем женщины, замужние женщины — большими, чем незамужние.
С точки зрения "истории эмоциональности", а также диалога между социотипическим и индивидуальным в ментальных процессах русского средневековья, важным наблюдением православных дидактиков было обнаружение связи между сексуальной жизнью женщин и "страстями" — особыми наклонностями души, обладающими — по мнению православных проповедников — способностью к подавлению всех иных
сторон человеческого "естества". Как и их католические коллеги, православные деятели настаивали на том, что в самой женской сути присутствует "провоцирующее начало", ведущее к нарушению общепринятого (девиациям) — вначале в сексуальной, а затем (как им казалось) и в социальной сфере12. Увязав "любовь" и отрицательные переживания в самом слове ("страсть" — и любовное чувство, и страдание), авторы XIV-XV вв., впервые заглянули во внутренний мир своих героинь, сделали первую попытку понять, а где возможно — объяснить их переживания (хотя бы даже "женской слабостью"). Как общие черты душевного мира женщины ими были выявлены повышенная эмоциональность и большая склонность к аффектации (в том числе в положительных проявлениях: платонической любви, умилении и проч).
Подобные наблюдения и размышления над физиологической и эмоционально-психологической стороной интимного мира женщин имели безусловное значение в общей культурной перспективе. Они подготовили почву для тех изменений, которыми характеризовался бурный, "бунташный" (в том числе в историко-культурном отношении и в плане тендерных взаимодействий) XVII вен. Он был отмечен не столько сужением сферы запретного, сколько расширением диапазона чувственных — а в их числе сенсуальных — переживаний. Церковная дидактика по-прежнему препятствовала любой романтизации интимных рефлексий и чувств. Возникшая же в городской литературе тенденция к эстетизации интимных отношений, способствовала "открытию" интимно-личного мира мужчин и женщин, а с ним — "открытию" тела ("телесного низа"). В списках вопросов исповедных требников, обращенных к женщинам, появились детализированные перечисления воспрещенных форм и методов оптимизации сексуальной жизни (причем меры "наказания" за них были невысокими), визуальные запреты, связанные с телом (запрет показывать тело, требование стыдиться его даже в одиночестве). Следом (или одновременно) возникли ограничения, связанные с обсуждением телесных ощущений. К XVI-XVII вв. относится превращение многих обычных слов, не имевших ругательного оттенка, в инвективы.
Вопросы, касавшиеся использования приворотных "зелий", были обращены только к женщинам. Это означало, с одной стороны, твердое убеждение дидактиков в том, что именно женщины являются активной стороной в интимных делах, а с другой — отражало "самодовольство" мужчин, уверенных, что им достаточно формальной способности к сексуальной жизни. Женщины оставались "фоном" в молодецких утехах, объектами плотских страстей, жертвами обмана или уловок. Ни в иконографии, ни в литературных источниках того времени не появилось сексуально-притягательных образов мужчин. Напротив, русская эротическая культура XVII в. сформировала довольно четкий образ сексапильной женщины. То есть нультура Мосновсного царства оставалась по-прежнему маснулинно-ориентированной, а потому удовлетворяла в первую очередь визуальные потребности "мужей" с традиционной сексуальной ориентацией.
Если церковная мораль XI-XIII вв. исходила из невозможности подавления естественных сексуальных желаний (хотя и осуждала их), то русская дидактика XVI-XVII вв. — и светская, и церковная — убежденно настаивали на таком подавлении. В особенности эти
запреты коснулись представительниц столичной знати, найдя выражение во всячески поддерживаемой церковью традиции теремного уединения девушек и женщин. Лишенность "самых нежных чувств" заставляла княжен и боярынь вышивать по краю предметов церковного культа: "Да молчит всякая плоть.". В то же время, вынужденная сосредоточенность на "высоких материях", стремление осмыслить запреты, заставляли образованных адресаток поучений учиться преодолевать формальные физиологические потребности и — через глубокое осмысление — добровольно соглашаться на исполнение предписаний. В отличие от женского, эмоциональный мир мужчин в России XVII в. способствовал началу легализации индивидуальных интимных переживаний, первичному осознанию их ценностности, стремлению к расширению и обогащению их.
Расхождение между "мужским" и "женским" сексуально-эмоциональным миром, его содержанием и соподчиненностью составляющих (аксиологией) стало особенно ощутимым в XVIII столетии. "Золотой вен частной жизни" стал таким прежде всего для "сильного пола". Изменения в структурах повседневности, затронув в первую очередь знать, активно способствовали созданию сферы интимного: дворянские дома стали строиться с несколькими (различными по функциям) комнатами, раздельными спальнями супругов, появились более совершенные системы отопления и освещения, создающие интимность, уют, удобство. У зажиточной части городского населения появился вкус к хорошему постельному белью, предметам гигиены, одежды и обстановки, усиливающим интимность, в частности, в гардеробе женщин появились ночные сорочки. Особенности западноевропейской моды, проникнув в Россию, сформировали новое представление о женской красоте, в том числе красоте обнаженного тела (в живописи). Наконец, об усилении тенденции к индивидуальному свидетельствовало и стремление — равно типичное и для дворян, и для дворянок, а к началу XVIII в. и для представительниц образованного купечества — фиксировать на бумаге свой образ мыслей и "чувствований" : в середине столетия возник жанр дневниковых и мемуарных записей, а в частной переписке — четче обозначилась ее интимная сторона.
Однако воспитание сдержанности, умения не поддаваться эмоциям, а тем более страсти, — по-прежнему определяли содержание женского воспитания в "благородном сословии". В скрытности и замкнутости женской души видели ее "утонченность" женщины-мемуаристки избегали признаваться в собственном счастье, попусту изливать свои горести и вообще любыми средствами оберегали свой внутренний мир от чужих глаз, не говоря уже о сексуальных переживаниях.
Комплекс нарративных источников XVIII в., использованный в диссертации, отразил эмоциональное освобождение (эмансипацию) мужчин в вопросах мотивации брачного выбора. В отличие от мужчин, женщины не признавались, что ищут в замужестве "услаждения плоти". Осознание собственного негативного отношения к физиологической стороне супружества лежало в основе умолчания в мемуарах и письмах всего, что относилось к интимной сфере их жизни. Нравственный барьер, мешавший поверять бумаге искренние чувства, был у большинства дворянок высок. Даже те представительницы высших слоев российской аристократии, которые избирали новый
"modus vivendi" — решались на адюльтер» содержание любовников — не фиксировали подробностей этой стороны своей жизни в дневниках и письмах. Помимо запретов, связанных с православной концепцией морали, на женщин из дворянской среды немалое давление оказывал этикет. Он также заставлял женщин "дорожить честью" даже наедине с близким человеком — а это подразумевало сдерживание чувственности. Раскрепощению дворянок в сфере интимных чувств и сексуальных переживаний препятствовало и отсутствие знаний о контрацептивах; интенсивная сексуальная жизнь могла иметь следствием частые роды, чего многие женщины старались избежать. Нинаного "примирения любви, сенсуальности и брана" — характерного для "истории женщин" в Западной Европе14 - в интимной жизни россиянон до нонца XVIII в. не произошло.
Мироощущение женщин из иных культурных групп, в том числе понимание ими тех сторон жизни, которые были связаны с эмоционально-интимной сферой жизни — определяли соображения практические и житейские. "Умственные движения" знати мало затронули "неблагородное" население, исходившее в своем повседневном поведении из посылки о естественности и оправданности всех воспроизводящих жизнь или приносящих удовлетворение (женщинам — в том числе) телесных контактов. Многие фольклорные тексты и ритуалы, связанные с сексуально-эротической темой, имевшие целью усиление прокреативной функции женщины, физического здоровья ее супруга, их эмоциональной удовлетворенности супружеством, бытовали без изменений. Примечательно также, что народная традиция определяла провоцирующее женское поведение в интимной сфере как норму. Устные советы и рекомендации, касающиеся контрацепции и путей преодоления возможных осложнений в интимной жизни супругов, передавались из поколения в поколение, подкрепленные фольклорной мудростью пословиц и присловий.
Особенностью православной концепции брака, во многом определявшей всю повседневность женщин доиндустриальной эпохи и оценку современниками их статуса в семье, было признание возможности прекращения семейной жизни не только в случае смерти одного из супругов, но и в случае расторжения брака по основаниям, предусмотренным в церковных законах. Формальное право прекратить семейную жизнь имели в Древней Руси, Мосновии XVI-XVII вв. и России XVIII в. священнини, действовавшие либо по собственному почину и разумению, либо на основании прошения, подать ноторое могли не тольно мужья, но и жены. При этом право священников объявлять о прекращении брака по причине его недействительности (в случае нарушения брачного возраста, двоемужестве или двоеженстве одного из супругов, заключении брака в запрещенной степени родства или свойства, в четвертый раз и проч.), формально постулированное еще в древнерусском брачном праве, стало реализовываться лишь после распространения метрических книг, то есть не ранее XVIII в. До этого, вероятно, и мужчины, и женщины легко могли пойти на подлог.
Анализ права супругов на развод на основании прошения одного из них заставил прийти к выводу о существовании и здесь больших расхождений между нормой и буквой закона и многообразной юридической практикой. О X-XV вв. никаких разводных грамот не
дошло, а наиболее ранние свидетельства об использовании россиянками их права на развод относятся к XVI в.
Ранние правовые памятники, относящиеся к древнерусскому (домонгольскому) периоду, описывают полюбовный развод ("роспуст"), который практиковался достаточно часто в то время, когда христианская концепция нерасторжимого моногамного брака еще не утвердилась во всех социальных слоях. Частные акты Х\/1-Х\/11 вв. свидетельствуют, что законные жены порою исчезали с "полубовниками", прихватив все имущество, или же, когда муж не отпускал "добром", грозили самоубийством. Слышавшие подобные рассказы иностранцы, побывав в России XVI-XVII вв., склонны были считать, что "развод на Руси очень обыкновенен". В действительности же они, столкнувшись с эксцессами, представляли их как обычаи, оценивая удивившее их явление, исходя из общих представлений их культурной среды (в Европе разводы были запрещены).
В XVIII в. супруги в дворянских семьях стали чаще отказываться от разводной процедуры, бывшей по все времена делом долгим и хлопотным (желающие расторгнуть брак подавали прошение в духовную консисторию, решение принималось по суду, разводящиеся считались подсудимыми, а процесс развода носил состязательно-обвинительный характер). Поэтому нередко супруги просто разъезжались, договарившись не жить вместе. Иногда при этом они жили гражданским браком с другими партнерами, дав при свидетелях "письмо", что не имеют друг к другу претензий. И тому времени приходские священники стали более склонны санкционировать такие разводы, поскольку примеры их множила сама жизнь. Но Синод и в XVIII-м, и в начале XIX в. по-прежнему осуждал их.
Контрмерой против роста числа прошений о расторжении брака, в XVIII в. было введение временного разлучения - промежуточной формы между браком и разводом. Оно не давало права снова вступить в брак, но позволяло супругам разъехаться, то есть было компромиссом при разрешении семейных разногласий.
В среде простонародья к разводу относились строже. Церковные и общинные власти, а тем более владельцы крестьян предпочитали не разводить супругов, живущих несогласно, а подвергать наказаниям. При разводе крестьянской семьи имущество принято было оставлять тому из супругов, с кем оставались дети. В большом числе случаев это были женщины.
Основным поводом н одностороннему разводу всегда было и оставалось вплоть до начала XIX в. прелюбодеяние, по-разному определявшееся для супругов. Женщина считалась изменницей, если имела просто связь вне брака, мужчина — если имел "последствия" такой связи (детей на стороне). При этом жена не имела права развода с изменником-мужем, а муж — не только имел право, но и должен был развестись. К XVIII в. под понятие супружеской измены было подведено "прелюбодейство", "побеги или самовольные друг от друга отлучки", "посягательство жен в отсутствие мужей за других". Среди документов Санкт-Петербургской духовной консистории не обнаружено доносов знакомых, соседей, родственников о несогласной жизни супругов. Возможно, что это считалось уже в то время "частным делом" членов семьи.
В XVI-XVIII вв. имущественный статус обвиненной в измене и "оставленной" женщины оставался после развода обеспеченным за счет возвращения ее приданого. Знавшие свои права дворянки XVIII-ro ("просвещенного" !) века не забывали в случае развода требовать от бывших мужей еще и выплаты погодного содержания, а также уплаты всех долгов. Иное дело — "моральный ущерб'. В Древней Руси изгнание жены с обвинением в прелюбодействе являлось позором для семьи и было формой шантажа родственников, которые старались доказать, что пострадавшая "пущена без вины". Если им это удавалось, "пустивший" жену супруг облагался штрафом.
В XVIII в., отмеченном корректировкой ряда законодательных установлений со стороны женщин-правительниц, был принят ряд законодательных правил, послаблявших наказания за "прелюбодеяние". "Щадящий характер" имело постановление Синода о непринудительности признания в супружеской измене, позволявшее женщинам сохранить честь и не потерять "свое лицо". Даже церковные исповедные книги в конце XVIII в. смягчили епитимьи за адюльтер; на разводе за него уже никто не смел настаивать.
Помимо прелюбодеяния, серьезным поводом к "разлоучению" в Древней Руси и позже считалось поступление в монашество одного из супругов (Таким способом расторжения брака не гнушались и русские цари — Василий III, Петр I — отправившие своих жен в монастырь. Часто мужья пользовались этим правом в случае бесплодия жен. То есть физиологические причины (бесплодие жены или импотенция мужа) были еще одним мотивом "разлучения". Чтобы прекратить злоупотребления, Синод ввел "возрастной ценз" : постригать разрешили только людей старше 50 лет, а также в случае, если дети от брака являлись совершеннолетними (светские власти неодобрительно относились к уходу в монастырь молодых женщин). Когда же и это не помогло, закон установил запрет на женитьбу и замужество оставшегося в миру супруга. Специальный указ конца XVIII в. (основанный на старых нормах брачного права) позволял развод по физиологическим причинам после 3-х-годичного "испытательного строка". Но разводные грамоты, сохранившиеся от того времени, свидетельствуют, что супруги обычно ставили об этом вопрос много позже.
С древнейших времен в русском брачном праве существовало право женщин расторгать супружеские узы по причине длительного отсутствия мужей. Однако никаких свидетельств о реализации ими этого права в X-XVI вв. не обнаружено. В XVIII в., наполненном войнами и вооруженными конфликтами, наборами в армию и на флот крестьянского и посадского населения, вошло в практику "расследование" архиепископом длительности безвестного отсутствия супруга с последующим разрешением выходить замуж повторно. Если муж, ранее числившийся безвестным, возвращался, — он мог требовать жену назад. "Соломенные вдовы" обращались за разрешением вступить в новый брак, как правило, через 7— лет после отсутствия супругов (хотя по закону могли это сделать и раньше — через 5 лет).
Объявленное в законах домосковского времени право женщины расторгать брак, если муж снрыл свой более низний социальный статус, а танже по материальным причинам (невозможности содержать семью), исчезло из законодательства еще в XVI-XVII вв.
В конце XVIII в. юридическая практика заставила вспомнить о старых нормах: в законе вновь появилось основание для развода в случае "известной степени хозяйственной непорядочности супруга". Однако реальная жизнь, отразившись в частных актах конца XVIII — начала XIX в., свидетельствовала об обратном: готовности женщин нести с мужьями бремя разорения и долгов. В то же время, в крестьянском мире случались временные разводы (о которых говорилось выше) как раз по причине разорения и нищеты, когда муж "ни пищею, ни одежею снабдевать (снабжать) не мог".
Право мужей требовать прекращения супружества в случае уличения жены в колдовстве ("порче"), сформулированное в X в., действовало семь столетий. В XVIII в. его уже не было в числе поводов, достаточных для развода: общество стало терпимее относиться к "чародеиницам" и лишь в крестьянской среде их по-прежнему боялись.
Обмирщение и рационализация культуры в России XVIII в. заставили внести в список поводов к разводу основания, ранее считавшиеся по нравственным причинам неприемлемыми, в том числе развод "за старостью и болезнями". Составители законов мало задумывались о противоречии внушаемых столетиями моральных постулатов и, в частности, идеи брака как союза духовного, заключаемого ради взаимопомощи людей, и новой нормой. Достаточными для развода были признаны, конечно, не все из них, а лишь "канцерозная" (рак) и венерические болезни, исключавшие возможность "умножения рода человеческого". В крестьянском мире; мало ориентировавшемся на писаные законы и решавшем все по обычаю, физические недостатки и тяжелые болезни одного из супругов никогда не могли быть поводом к разводу. Свой крест каждый должен был нести до конца.
В текстах прошений о расторжении брака и в XVI-XVII вв., и позже было немало горестных рассказов униженных женщин с жалобами на жестокости мужей и просьбами избавить их от них. Но жестокое обращение с супругой не было внесено в список "разводных вин", и потому женщины крайне редко добивались удовлетворения своих просьб. В лучшем случае женщины могли надеяться на временный развод. Чаще же избитые жены пускались от своих мучителей "в бега". Закон позволял мужьям разыскивать беглянок и возвращать обратно в семью. В случае аналогичного самовольного оставления жены и детей мужем, жены не имели права ни разыскивать их, ни тем более насильно возвращать. Составители законов и здесь учли в первую очередь интересы своих "союзников по полу".
Совершение мужем политического или другого тяжкого преступления, повлекшего за собой "вечную ссылку", как правило, заставляло женщин следовать за осужденными. Так того требовали нравственные нормы, внушенные православием. Однако закон 1720 г. признал вынесение приговора о ссылке достаточным основанием для "разлучения", предоставив женщинам — хотя бы формально — возможность индивидуального выбора.
Обилие поводов к разводу, наличие разводных писем, написанных не только обиженными дворянками, но даже крестьянками, легко может создать впечатление, что в те времена на Востоке Европы набирала обороты эмансипация женщин. Но это иллюзия. Инициаторами развода
в России во всю индустриальную эпоху выступали преимущественно мужчины, рассчитывавшие избавиться от старых жен, удержав в то же время их приданое. В подавляющем большинстве бракоразводных дел женщины выступали как страдающая сторона'
Главным итогом проделанной работы — если пытаться кратко оценить общий характер социо'культурных изменений, повлиявших на изменение статуса женщин в русской семье X — начале XIX в., — является вывод о том, что русское доиндустриальное общество оказалось не более (если не менее] "антифеминистским", чем следующее за ним буржуазное и даже современное. К тому же оценка прогресса, равно как и его критериев, зависит от мировоззрения и убеждений исследователя. Общую динамику эволюции семейного статуса женщин в доиндустриальной России, изменения отношения к их роли и обязанностям в семье можно оценить как поступательную (если подходить к ее оценке с точки зрения роста самостоятельности и учета индивидуального фактора). В этом вывод данной диссертации расходится и с традиционной марксистской оценкой изменений статуса женщин в "досоциалистических обществах", и с оценками традиционной феминисткой историографии15. Повторим, что в динамика эволюции статуса женщины в русской семье доиндустриальной эпохи не была линейной. В ней были своеобразные "отступления" и "регрессы", приходившиеся на раннее Новое время (середину XVI — середину XVII вв.). Но, как бы сильным ни было влияние идей православной этики., как ни крепки были патриархальные тенденции, русская семейная традиция стойко сохраняла и развивала принципы партнерства и взаимодополняемости (но не равенства) и предполагала значительную роль женщин.
Исследование женской и тендерной истории в России убеждает, что оно является неотъемлемой частью реконструкции отечественного прошлого, темой, которая еще привлечет внимание десятков и сотен исследователей. Можно не сомневаться, что в будущем оно станет основой для возникновения новой исторической дисциплины — не подсобной, не вспомогательной, а равной по значимости с исторической демографией, исторической психологией, религиозной антропологией и другими.