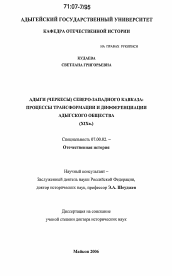автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа
Полный текст автореферата диссертации по теме "Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа"
На правах рукописи
КУДАЕВА Светлана Григорьевна
АДЫГИ (ЧЕРКЕСЫ) СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА: ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АДЫГСКОГО ОБЩЕСТВА (XIX в.)
Специальность 07.00.02 — отечественная история
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук
Махачкала 2006
Работа выполнена на кафедре отечественной истории Адыгейского г осударственного университета
Научный консультант:
Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Э. А. Шеуджен
заслуженный деятель науки Республики Дагестан, доктор исторических наук, профессор Б. Г. Алиев
доктор исторических наук, профессор Н. А. Мининков
доктор исторических наук, профессор А. Ю. Чирг
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований
Защита состоится « ¿> » /9£У?/> ¿Ьсу'/!^1 2006 г. в заседа-
нии диссертационного совета Д 002. 053. 01 при Институте истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук по адресу: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук.
Автореферат разослан « 26 » августа 2006 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета, о ¿у _
кандидат исторических наук ^Л^лй2*^ е.И. Иноземцева
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследуемой проблемы. Формирование современной концепции отечественной истории невозможно без органического включения в нее истории отдельных регионов России. Более того, в истории народов, ставшей составной частью истории России, есть проблемы, вбирающие в себя такие явления и процессы, которые в равной степени отражают изменения в общественной жизни не только отдельных народов, но и страны в целом. К таким проблемам с полным основанием может быть отнесена внешняя политика России XIX в., сфокусировавшая широкий спектр вопросов, особое место в ряду которых занимали планы колонизации Северо-Западного Кавказа.
В ходе военной колонизации произошли кардинальные изменения в политической, социально-экономической, культурной и ментальной сферах адыгского общества, проявившиеся в процессе трансформации традиционных форм общежития в социально-экономическую среду Российской империи и образовании многочисленных диаспорных групп. В результате, веками складывавшаяся общественная система адыгов вынуждена была адаптироваться к новым условиям, переходить в новые каналы развития. При этом, несмотря на все сложности вхождения в новую общественную систему, адыги смогли сохранить этническую идентичность, став органической частью российского многонационального государства.
В то же время экстремальные события, связанные с Кавказской войной, не могли не привести к дифференциации общества, изменить характер его функционирования, обусловить проявление критических областей поведения, выразившихся в эмиграции значительной части населения с исторической территории. В наши дни в историческом знании все более четко проявляется интерес к проблемам эмиграций народов, происходит накапливание опыта систематического исследования их причин и последствий. В этом плане обращение к такому масштабному явлению, как эмиграция адыгов середины XIX в. способно обогатить складывающиеся исследовательские подходы.
Актуальность исследуемой проблемы связана и с историографической ситуацией. Для современного исторического знания характерно преодоление кризисных явлений, развитие научных концепций, формирование новых исследовательских подходов, более широкое и свободное привлечение исторических источников, совершенствование приемов и методов изучения исторической
информации, расширение дискуссионного пространства. Но при этом в историографии трудно найти проблему, которая столь бы зависела от политической конъюнктуры, как история Кавказской войны и адыгской эмиграции.
Современная демократизация общественной жизни стала стимулом для развития исторического знания, но наряду с этим масштабы настоящей эпидемии приобрела фальсификация, спекулятивная эксплуатация исторического прошлого. История и сегодня переживает глубокий кризис, так как не удалось в полной мере освободиться от идеологического и политического влияния. Общественно-историческое развитие народов бесконечно разнообразно. Естественно, что комплексное изучение истории вхождения адыгов Северо-Западного Кавказа в состав России имеет важное научное значение. Именно такой подход позволяет изучить социально-исторические процессы на уровне явления национальной истории с характерными чертами и особенностями.
Историография. Учитывая развитую в российской и зарубежной исторической науке традицию обращения к исследуемой проблеме, объем и характер накопленных историографических источников, анализ опубликованной литературы дан в отдельном параграфе первой главы диссертации, посвященной теоретико-методологическим вопросам.
Объектом исследования является процесс взаимодействия политических, экономических и социальных явлений, приводящих к модификации традиционных общественных структур.
Предметом исследования стал процесс дифференциации адыгского общества, связанный с Кавказской войной, обусловивший его трансформацию в состав Российской империи и образование адыгских диаспор.
Географические границы диссертационного исследования включают территорию Северо-Западного Кавказа, являвшуюся территорией традиционного проживания адыгов, и регионы расселения адыгской диаспоры.
Хронологические границы диссертационного исследования охватывают XIX в., переломный период в истории адыгского народа, обусловивший кардинальные изменения в его исторической судьбе.
Целью диссертационной работы является изучение истории адыгов XIX в., переломным событием которого явилась Кавказская война, обусловившая процессы трансформации и дифференциации адыгского общества, вхождение адыгов в состав Российской империи и образование адыгских диаспор.
Для реализации этой цели ставились следующие задачи: —обобщить теоретические подходы к проблеме, выделить базовые критерии оценки состояния этноса и признаки классических диаспор; осуществить историографический обзор опубликованной литературы с целью определения степени и уровня исследования проблемы, выявления нереализованных исследовательских возможностей; провести источниковедческий анализ введенных в научный оборот источников;
—выявить признаки этнической общности адыгов, процесс ее формирования и развития;
—проанализировать политическое, социально-экономическое и культурное положение адыгов, как целостную систему жизнеобеспечения, функционирования и регламентации адыгского общества;
—изучить влияние российской колонизации Северо-Западного Кавказа, экстремальных условий войны на дифференциацию адыгского общества;
—исследовать причины адыгской эмиграции как широкого социально-политического, экономического и демографического явления;
—проследить дальнейшую судьбу адыгской эмиграции, процесс образования диаспорных групп, реализацию планов Османского правительства по их использованию;
—проанализировать политику Российской империи по отношению к адыгам, оставшимся на исторической родине;
—изучить формы и методы вовлечения адыгов в социальную и политическую структуры Российской империи.
Источниковая база исследуемой проблемы достаточно обширна, более того, в диссертации вводятся ранее неизвестные источники, расширяющие диапазон видения проблемы. Исходя из этого, анализ корпуса исторических источников, ставших фундаментальной основой данного исследования, проведен в специальном разделе первой главы диссертационной работы.
Теоретико-методологическую основу исследования составили принципы историзма, объективности, системности и психологизма, позволившие придать работе научный, завершенный характер. Особое внимание уделялось методологии исследования, системному использованию научных методов: конкретного анализа, проблемно-хронологического, ретроспективного, истори-ко-сравнительного, историко-типологического, симбиоз которых позволил углубленно исследовать проблему, и, в конечном итоге, разрешить поставленные исследовательские задачи. Возросший
интерес к теоретическим проблемам истории, публикация исследований общетеоретического характера, развернувшиеся дискуссии, позволили поднять уровень теоретического осмысления проблем адыгской истории XIX в., органично вписав их в контекст всеобщей, российской и региональной истории. Данному вопросу в диссертационном исследовании уделено значительное внимание.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в работе:
— впервые предпринята попытка комплексного изучения истории адыгов XIX в. как переломного периода, обусловившего процессы трансформации и дифференциации адыгского общества;
— используются общетеоретические положения для построения объяснительных механизмов по отношению к фактам адыгской истории;
—адыгское общество рассматривается как целостная система жизнеобеспечения и функционирования, в которой не существовало объективных причин для «вымывания» значительных групп населения;
— Кавказская война рассматривается как основной фактор, обусловивший дифференциацию адыгского общества;
—предпринято более широкое толкование категории дифференциации не только как социального явления, но и внесоциальной поляризации, обусловленной экстремальными ситуациями военного противостояния;
—синхронно рассматриваются процессы трансформации адыгского общества в две разные среды — Российскую и Османскую империи.
Практическая значимость работы определяется тем, что изложенный материал, теоретические обобщения и выводы могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшем исследовании проблем российской и адыгской истории, включены в специальные работы по истории эмиграции северокавказских народов и формирования их диаспор. Результаты исследования широко используются автором в практике преподавания предметов национально-регионального компонента, при подготовке общих и специальных учебных лекционных курсов, семинаров, программ и учебных пособий.
Общие выводы данного исследования могут быть учтены при выработке приоритетов и конкретных направлений политики России по взаимодействию с диаспорами, при координации действий различных общественно-политических объединений и движений в регионе по преодолению конфронтационных явлений.
б
Положения, выносимые на защиту:
—современный уровень исторического знания, нацеленный на анализ процессов трансформации и дифференциации адыгского общества XIX в. обусловливает необходимость создания обобщающего исследования;
—являясь автохтонным народом Северо-Западного Кавказа, адыги к рассматриваемому периоду имели систему жизнеобеспечения, основу которой составляла развитая хозяйственная организация и структура, сложившаяся в результате упорного труда многих поколений, хорошо приспособленная к местным условиям, что позволяет утверждать отсутствие естественных причин для изменения веками осваиваемого жизненного пространства;
—устойчивость этноса обеспечивалась и регулировалась традиционной соционормативной культурой, ведущим компонентом которой является адыгство (адыгагьэ) — специфическая этическая система, выполняющая функции консолидирующего и морально-нравственного регулятора;
—традиционное для адыгского общества политическое устройство носило в основном демократический характер и обеспечивало реализацию регулятивных функций, нивелировало острые социальные конфликты и не приводило к «вымыванию» крупных групп населения из социальной структуры общества;
—решение внешнеполитических проблем России в ходе Кавказской войны привело к системному кризису адыгского общества: демографическому (резкое сокращение численности адыгского населения в ходе военных действий и последовавшего переселения), разрушению хозяйственного уклада, что привело к деформации материального и духовного компонентов этнической культуры народа, что и явилось причиной массового переселения народа в пределы другого государства;
—местом размещения адыгской диаспоры стали регионы, входившие в состав Османской империи, что обусловлено рядом факторов, доминирующими среди них являются географический, религиозный и культурно-коммуникативный;
—формирование адыгской диаспоры в Османской империи определялось прежде всего интересами Османского правительства, которое использовало их в четко определенных сферах жизни общества с учетом выработанного веками опыта ведения хозяйства и военных навыков, что наложило отпечаток на характер формирования и развития адыгской диаспоры как этносоциального организма;
—часть адыгов, оставшаяся на исторической родине, несмотря на значительные сложности, вынуждена была вписываться в
новую политическую, социально-экономическую и культурную среду Российской империи, что в исторической перспективе имело позитивное значение.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на кафедре отечественной истории Адыгейского государственного университета, а также опубликованы в двух монографиях, научных статьях и докладах на разного рода (международных, всероссийских, региональных, университетских) научных конференциях. По теме диссертации автором опубликовано около 30 работ, общим объемом 35 п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность избранной для исследования проблемы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, хронологические и географические границы, ее научная новизна, практическая значимость, а также сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения проблемы» определяются теоретические подходы к пониманию категорий «этнос» и «диаспора», освещаются основные тенденции развития историографии проблемы, дается характеристика источниковой и методологической базы исследования.
Первый раздел данной главы «Теоретические подходы к пониманию базовых категорий» посвящен осмыслению основных теоретических положений и понятийных дефиниций. Важно подчеркнуть, что процесс исторического познания проявляется в движении мысли от событий истории к пониманию причин, характера развития и последствий исторических явлений. Сложная и многоаспектная проблема, связанная с исследованием процесса трансформации значительной части адыгского общества в диаспорные группы, требует обращения к категориальным определениям этноса и диаспоры.
Вопросы этнической терминологии являются важной составляющей сложной проблемы этногенеза и этнической истории адыгов. Учеными выделяются главные признаки, позволяющие вычленить этнос из ряда других общностей (Ю.В. Бромлей, В.А. Тишков, Н.Н. Чебоксаров, С.А. Арутюнов, А.А. Налчаджян и др.). Большинство из них сходятся во мнении, что наиболее продуктивными категориями, позволяющими дать классификацию этносов, являются
самосознание и самоназвание. Ключевым моментом этнического самосознания является идентификация индивидов с определенной этнической общностью, которая проявляется в самоназвании.
Сведения об этническом самоназвании, а именно об этнонимах, обязательно учитываются при классификации этнических общностей. Далеко не всякая совокупность людей, обладающая комплексом характерных культурных черт, является этносом. Этносу непременно присуща антитеза «мы» — «они». Поэтому этнос представляет только та культурная общность людей, которая осознает себя как таковую, отличая себя от других аналогичных общностей. Это осознание членами этноса своего группового единства принято именовать этническим самосознанием1.
К настоящему времени воссоздана картина развития и изменения этнонимов Северного Кавказа на отдельных этапах исторической жизни народов этой территории, в том числе и адыгов (Н.Г. Волкова, В.М. Аталиков, В.И. Абаев, М. Фасмер и др.). Более того, предпринята попытка согласования северокавказских этнонимов, известных в первой половине XIX в., с этническими названиями предшествующих периодов, а также определено реальное содержание исследуемых этнонимов, не редко менявшегося в различные исторические периоды. В изучаемый период для обозначения западных адыгов и кабардинцев употреблялись два термина «адыги» и «черкесы». Принято считать, что «адыги» — самоназвание, а «черкесы» — иноязычный этноним. Сегодня «адыги» — самоназвание современных кабардинцев Кабардино-Балкарии, черкесов Карачаево-Черкесии, адыгейцев Республики Адыгея, шапсугов Причерноморья и адыгов, проживающих за рубежом. Следует отметить, что все они вполне четко осознают свое этническое единство.
В диссертации подчеркивается, что этническое самосознание не единственный признак этноса, а является результатом проявления всех прочих признаков. Довольно часто понятия этническое самосознание и этническая идентичность рассматриваются как синонимы, однако, это не тождественные понятия. Этническая идентичность это не только принятие определенных групповых представлений, готовность к сходному образу мысли и разделяемые этнические чувства, а также построение системы отношений в различных этноконтактных ситуациях. Чем больше членов этнической группы разделяют общую идентичность, тем больше вероятность совместных действий в ее защиту.
1 Налчаджян, А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаджян. — М.: СПб., 2004. — С. 305.
Можно с уверенностью утверждать, что у адыгов главным этно-идентифицирующим механизмом является адыгапьэ (адыгство) — общепризнанное обозначение совокупности принципов и норм адыгской этики. При наличии высокого национального самосознания в адыгском обществе, именно стремление к идеалу адыг-ства становится внутренней потребностью личности; адыгство воспринимается как высший долг — долг чести. Через призму данной идеологемы осуществляется самооценка личности, воспринимаются вещи, явления, события, и в первую очередь — другие люди, их действия и поступки. Адыгство превращается в один из важнейших компонентов практического сознания, определяя во многом восприятие мира, стиль жизни, ориентировку в конкретных, в том числе и проблемных ситуациях2.
Зависимость этнического самосознания от особенностей культуры неоспорима. Именно специфические для каждого этноса системы культурных моделей обеспечивают возможность взаимодействия различных групп. Этносу присущи специфические культурные модели, обусловливающие характер активности человека в мире, функционирующие в соответствии с особыми закономерностями, направленными на поддержание уникального для каждого общества соотношения культурных моделей внутри общества в течение длительного времени, включая периоды крупных социокультурных изменений3.
Общность территории, языка и экономических связей можно рассматривать как важнейшие условия формирования и существования этноса. Зависимость человеческого общества от географической среды, территориальной общности признается практически всеми исследователями. Особенно это касается СевероКавказского региона, территории, на которой объективно формировалась весьма своеобразная система общественных отношений, закреплялся «коллективный опыт хозяйственного освоения этой благодатной и суровой земли»4. Без учета природных условий невозможна научная реконструкция исторического прошлого, впрочем, как и понимание многих современных проблем: экологических, экономических, социальных, ментальных.
Географическое единство территории, языковая близость этнических единиц приводит к определенному культурному единству: именно культурный комплекс является средством реализации этноса
2 Бгажноков, Б.Х. Адыгский этикет/ Б.Х. Бгажноков. — Нальчик, 1999. — С. 15.
3 Лурье C.B. Историческая этнология / C.B. Лурье. — М., 1997. — С. 41.
4 Шадже, А. Северокавказское общество : опыт системного анализа / А. Шад-же, Э. Шеуджен. — Москва : Майкоп, 2004. — С. 46—47.
в действительности. Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является деление культуры этноса на составляющие ее подсистемы или сферы культуры: производственную, жизнеобеспечивающую, социо-нормативную и познавательную. Основываясь на данном делении культуры, исследование адыгского этноса видится через последовательное прохождение каждой из подсистем. Следует подчеркнуть, что в работе не ставится цель дать полную и всестороннюю характеристику каждой из них, но, тем не менее, важно показать направленность культуры в целом, что предопределяет внимание к традиционным, устоявшимся формам деятельности и общения.
Культура является основным механизмом, посредством которого человеческие коллективы адаптируются к окружающей среде. В ходе адаптации устанавливается взаимодействие между народом и окружающей средой, позволяющее выжить в этой среде. Предполагается, что вся культура, не только материальная, но социальная и духовная непосредственно связаны с обеспечением жизнедеятельности. Естественно, что у каждого народа стратегия жизнедеятельности складывалась в зависимости от особенностей их месторазви-тия. Принято считать, что месторазвитием народов становились территории, где взаимодействовали два или более ландшафтов. Северо-Западный Кавказ один из таких районов мира. Почти на всей его территории сочетаются горный, лесной и степной ландшафты. Именно в рамках единого хозяйственного комплекса адыги веками осваивали долины, предгорья, леса, высокогорные луга.
В случаях, когда нарушаются специфические характеристики этноса в процессе изменения среды обитания (в результате разных причин — внутренних и внешних), возникает «этноэкологи-ческий кризис», в результате которого происходит нарушение го-меостаза этноса, подрыв традиционных форм жизнеобеспечения и жизнедеятельности, резкое ухудшение демографического воспроизводства и, как следствие, глубокий кризис духовной и психологической жизни этноса, переход его сознания в стрессовое состояние. В истории адыгов за весь многовековой период проживания на исторической родине, самым стрессогенным фактором стала Кавказская война, изменившая облик народа. Тяжелые демографические, социальные и этнокультурные потрясения привели к полному расстройству традиционного природопользования, детерминировали разрушение жизнеобеспечения и нарушение гомеостаза этноса, что в конечном итоге обусловило этноэкологический кризис. В такой ситуации действию сгрессогенных факторов противостоит система социокультурных установок, определяющих поведение человека в тех или иных случаях жизни.
Для понимания устойчивых связей, целесообразно ввести понятие ментальности, представляемое в качестве устойчивого ядра, определяющего направленность культуры. Этнический менталитет как свойственный данному народу склад мышления представляет собой устойчивый инвариант, присущий культуре, который обычно принимается в этой культуре как естественный. Структуру менталитета образует «картина мира» и «кодекс поведения». Именно принципы этики являются частью вертикальной, диахронной информации, которая наиболее важна для сохранения культурного единства, ощущения исторической преемственности и сопричастности5.
Менталитет адыгов не только формировался через адыгэ хаб-зэ, но и проявляется через него. Адыгэ хабзэ и адыгский менталитет неразрывно связаны друг с другом. Комплекс этических идей и воззрений, передающихся от поколения к поколению, один из самых важных в структуре адыгской цивилизации. Он придает специфический оттенок образу мышления и поведения адыгов, определяет характер языка, религии, науки, искусства, обычаев, привычек. Адыгство является механизмом системной интеграции адыгского общества, генерирующим нравственную энергию этноса. Понятие «адыгство», производное от самоназвания народа, ассоциируется с аккумулятором и транслятором духовно-нравственной культуры, энергией многих поколений6.
При изучении адыгской диаспоры особый интерес представляет применение элементов типологии, в основе которой лежит «расчленение» исследовательских объектов и их группировка с помощью выявления сходства и различия. Суть феномена «классической диаспоры» попытались изложить многие исследователи7. Однако общее состояние историографии проблемы свидетельствует, что критерии, по которым можно классифицировать этнические диаспоры, пока не имеют в науке четкого определения. Значительный интерес представляют попытки ученых очертить понятие «классической диаспоры», определить существуют ли качественные, ключевые критерии диаспоральности. Сопоставительный анализ нескольких наиболее известных концепций «классической
5 Арутюнов, С.А. Народы и культуры : Развитие и взаимодействие / С.А. Арутюнов. - М., 1989. - С. 22.
6 Бгажноков, Б.Х. Указ. соч. — С. 15.
1 Левин, З.И. Менталитет диаспоры / З.И. Левин. — М., 2001; Мелконян, Э. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере армянского рассеяния) / Э. Мелконян //Диаспоры. — 2000. — № 1, 2; Попков, В. «Классические» диаспоры : К вопросу о дефиниции термина / В. Попков // Диаспоры. — 2002. — № 1.
диаспоры» позволяет выделить те позиции, которые представляются наиболее бесспорными и отражают существенные признаки «классической диаспоры», и предпринять попытку адаптировать их к цели нашего исследования. В то же время, сомнение вызывают попытки ученых представить то или иное конкретное этническое меньшинство в качестве «идеального типа» или «классического» образца диаспоры. По существующему мнению, далеко не все этнические группы могут соответствовать классической модели диаспоры.
В современных концепциях нет принципиальных противоречий, более того, в ряде случаев они дополняют друг друга. В качестве основной составляющей выделяется положение о насильственном характере переселения. Именно насильственное переселение считается одной из ключевых характеристик «классических» («исторических») диаспор в отличие от новых форм рассеяния, где основной доминантой переселения были и, по-видимому, остаются экономические соображения. Переселение адыгов в Османскую империю, без сомнения, носило вынужденный характер. Колонизаторская политика царизма, размах военных действий на Северо-Западном Кавказе, делавшие невозможным дальнейшее проживание на этой территории коренных этносов, стали основными причинами массового переселения адыгов.
Пристального внимания заслуживает утверждение, что диаспора формируется в результате переселения группы (групп) с уже сложившейся идентичностью. Именно эта идея развивается в диссертационном исследовании. Применяя этот тезис к адыгской истории, необходимо обратиться к вопросам этногенеза. Одним из немаловажных показателей жизнестойкости диаспорной общины является ее численность и особенности расселения. Формирование и существование общины предполагает наличие определенной численности, «критической массы» мигрантов, некоторой физической компактности проживания, социопсихологической «плотности» диаспоры, при которых возможен контакт между мигрантами, преемственность традиций. В случае с адыгами значимость количественного показателя не вызывает сомнений. Анализ существующих статистических данных российских, европейских, турецких, арабских авторов позволяют отнести переселение северо-западных адыгов за пределы исторической родины к масштабным миграционным явлениям.
Наряду с количественными показателями большое значение имеет тип расселения и сохранение этнокультурных границ. В зависимости от типа расселения диаспоры принято делить на точечные, дисперсные и смешанные с преобладанием одного, либо другого
типа расселения. Информация по расселению адыгских аулов позволяет утверждать, что в Турции преобладает смешанный тип расселения, т.е. точечно-дисперсный. Современная карта расселения адыгских аулов на территории Турции подтверждает, что планы султанского правительства по использованию адыгов диктовались складывающейся внутренней и внешней обстановкой.
Более того, местами компактного расселения адыгской диаспоры является не только Турция, но и Сирия, Иордания. Уже этот факт предопределяет транснациональный характер адыгской диаспоры. В этой связи интерес представляет тезис о поддержании связей между общинами, который перекликается с идеей о коммуникационных сетях диаспор. В частности, «узлом диаспоры» можно считать совокупность нескольких общин одного региона. При этом допускается, что диаспорная община может непосредственно взаимодействовать с другими общинами только в границах своего «узла». Но она не будет в состоянии поддерживать тесные связи со всеми узлами диаспоры, не говоря уже о многочисленных общинах. Относительно адыгских диаспор речь идет о разных «узлах» одной и той же диаспоры, но не принадлежащих к одному и тому же коммуникационному пространству и не имеющих высокой плотности контактов. Это дает основание говорить о внутренних адыгских подразделениях, которые имеют своего рода этническую территорию обитания и обладают специфической локальной культурой, что и является «узлами» диаспоры, через которые идут основные нити связей с другими регионами.
Значительный интерес представляет тезис о коллективной памяти, который является основополагающим элементом сознания ди-аспорной общины. Диаспора остается лишь до тех пор, пока в ее ментальности сохраняется этнокультурная специфика и пока ее члены осознают свою «инакость» в окружающем мире. Важную роль в этническом самосознании играет представление об общности происхождения и исторических судьбах, входящих в этнос людей. В связи с этим уместно упомянуть об интуитивном культурном коммуникативном коде с собственной символикой, который одинаковым образом читается всеми членами диаспоры, понимается и ощущается ими. При таком положении идея единства и общей исторической судьбы передается из поколения в поколение, невзирая на всевозможные географические, социальные и временные препятствия.
Особый смысл приобретает вопрос о влиянии политической системы принимающего государства на особенности формирования диаспоры, выражающемся, в так называемом, имманентном политическом конформизме, т.е. об особом отношении диаспоры к
политической системе стран проживания, способности быть полезными для принимающего государства. Члены любых диаспор, а особенно образованных в результате насильственного изгнания, чаще всего оказываются в неравном положении по сравнению с принимающим населением и, естественно, вынуждены предпринимать больше усилий, чтобы определить свой социальный статус, доказать свою «полезность» принимающему государству. Установка на доказательство «собственной нужности» присуща и адыгской диаспоре, особенно на этапе ее становления. Несмотря на все сложности, адыги смогли пройти процесс адаптации и постепенно стать полноправными гражданами стран проживания.
Изложенные положения дают основание утверждать, что адыгская диаспора может быть отнесена к единому типологическому ряду «классических» диаспор (еврейская, армянская). Подобный подход позволяет использовать основные теоретические положения и известные методики по изучению «классических» диаспор (их инвариантный компонент) применительно к адыгской диаспоре, при условии проведения критического анализа, в ходе которого будут выделены ее специфические особенности.
Во втором параграфе «Историография проблемы: основные тенденции развития», отмечается, что сложность и многоуровневость изучения адыгской истории XIX в. требует привлечения различных по направленности и информативной насыщенности историографических источников. Особую группу составили работы общетеоретического плана, позволяющие осмыслить базовые для данного исследования категории как «этнос» и «диаспора»8, и выделить
8 Козлов, В.И. О пошлин этнической общности / В.И. Козлов // Советская этнография. — 1962. — № 3; Чебоксаров, H.H. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых / H.H. Чебоксаров // Советская этнография. — 1967. — № 4; Бромлей, Ю.В. О соотношении предметных областей этнографии, истории и социологии / Ю.В. Бромлей, О.И. Шкаратан // Советская этнография. — 1979. — № 4; Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса/ Ю.В. Бромлей. — М., 1983; Арутюнов, С.А. Этничность — объективная реальность / С.А. Арутюнов // Этнографическое обозрение. — 1995. — № 5; Лурье, C.B. Историческая этнология/ C.B. Лурье. — М., 1997; Тишков, В.А. Очерки теории и политики этиичности в Российской Федерации / В.А. Тишков. — М., 1997; Солдатова, Г.У. Социология межэтнической напряженности / Г.У. Соддатова. — М., 1998; Аругюнян, Ю.В. Этносоциология / Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева, АА. Сусоколов. — М., 1998; Лебедева, М.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / М.М. Лебедева. — Изд. дом «Ключ-С», 1999; Тишков, В.А. Реквием по этносу : исследования по социально-культурной антропологии / В.А. Тишков. — М., 2003; Налчаджян, A.A. Указ. соч.; Иларионова, Т.С. Этническая группа : Генезис и проблемы самоидентификации : Теория диаспоры. / Т.С. Иларионова — М., 1994; Мелконян, Э. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере армянского рассеяния) / Э. Мелконян // Диаспоры. — 2000. — № 1—2; Левин, З.И. Указ. соч.; Попков, В. Указ. соч.; Шадже, А, Указ. соч. и др.
объяснительные механизмы, направленные на выявление закономерностей функционирования и трансформации адыгского общества. К числу интересных работ последних лет может быть отнесена монография «Северокавказское общество: опыт исторического осмысления». В ней представлена оригинальная попытка обобщенного подхода к вопросам исследования северокавказского общества как системы.
Значимую часть составляют работы, посвященные этногенезу 9. Для данного исследования эти вопросы представляют особую значимость, т.к. дают возможность ответить на вопрос об исторической территории адыгов, их автохтонности. В контексте выделенных в первом параграфе параметров, характеризующих состояние этноса, а также в соответствии с целями, задачами проведенного исследования, прежде всего, необходимо было обратиться к работам, освещающим проблемы раннего этногенеза адыгов.
В них получили отражение достижения археологической, антропологической и этнографической наук. Авторам удалось аргументировано доказать необоснованность миграционной концепции происхождения народов Северо-Западного Кавказа. Особого внимания заслуживает монография Р. Бетрозова. Это обобщающая работа, в которой автор, используя все имеющиеся данные, показал процесс становления адыгского этноса на протяжении почти четырех столетий. В отрыве от проблемы этногенеза народа невозможно изучение этнонимов. Серьезную разработку эта тема получила в монографии Н.Г. Волковой 10. Несмотря на большой разброс мнений по поводу происхождения термина «черкес», не вызывает сомнения факт, что между экзоэтнонимом «черкесы» и эндоэтнонимом «адыги» прослеживается генетическая связь.
Важную группу историографических источников составляют обобщающие исследования, посвященные истории народов Северного
® Лавров, Л.И. О происхождении народов Северного Кавказа / Л.И. Лавров / / Сборник статей по истории Кабарды. — Нальчик, 1954; Крупное, Е.В. Древняя история Северного Кавказа / Е.В. Крупное. — М., 1960; Алексеев, В.П. Происхождение народов Кавказа : Краниологическое исследование / В.П. Алексеев. — М., 1974; Марковин, В.И. Дольмекная культура и вопросы раннего этногенеза абхазо-адыгов / В.И. Марковин. — Нальчик, 1974; Анфимов, Н.В. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа / Н.В. Анфимов // Северный Кавказ в древности и средние века. — М., 1980; Инал-Ипа, Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов / Ш.Д. Инал-Ипа. — Сухуми, 1976; Бетрозов, Р. Происхождение и этнокультурные связи адыгов / Р. Бетрозов. — Нальчик, 1991. и др.
10 Волкова, Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа / Н.Г. Волкова. - М., 1973.
Кавказа, в том числе и адыгов11. Наряду с анализом общих закономерностей и особенностей истории народов региона в них затрагиваются некоторые аспекты освободительной борьбы адыгов и переселенческого движения. Эти работы результат усилий большого коллектива ученых, и хотя они не свободны от прежних тенденциозных подходов и идеологизированное™ отдельных положений, в них содержится обширный фактологический материал, подтвержденный археологическими памятниками и этнографическими наблюдениями.
Базовую группу составляют исследования, посвященные социально-экономическим, политическим и культурным проблемам, позволяющие реконструировать целостную характеристику состояния адыгского общества в начале XIX в. Первые значимые описания быта адыгских народов вошли в работы авторов XVIII в. К. Глава-ни, И.Г. Гербера, И.А. Гюльденштсдта, П.С. Палласа и др. В первой половине XIX в. литература об адыгах значительно увеличивается: интерес к их истории чрезвычайно возрос не только со стороны Западной Европы, но и России12. В этих исследованиях дается достаточно детальная характеристика различных сторон жизни адыгского народа, описания их расселения и численности. Но, тем не менее, к ним требуется критический подход, так как некоторые из этих авторов искаженно представляли сущность общественного строя адыгов, как бесклассового родового общества с кочевым скотоводством (Н. Карлгоф, Я. Абрамов и др.). Другие придерживались противоположной точки зрения, утверждая, что в адыгском обществе в этот период уже существовали вполне развитые феодальные отношения (С.М. Броневский, Л.Я. Люлье и др.).
11 Очерки истории Адыгеи / Отв. редактор Бушуев С.К. — Майкоп, 1957; Кумыков, Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в XIX в. / Т.Х. Кумыков. — Нальчик, 1965; Чекменов, С.А. Очерки Карачаево-Черкесии / С.А. Чекменов. — Ставрополь, 1967; История народов Северного Кавказа / Отв. редактор Нарочницкий АЛ. — М., 1988; Трехбратов, Б.А. История Кубани / Б.А. Трех-братов. — Краснодар, 2005 и др.
12 Броневский, С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе / С.М. Броневский. — М., 1823; Новицкий, Г.В. Географическо-статисти-ческое обозрение земли, населенной народом Адыхе / Г.В. Новицкий // Тифлисские ведомости. — 1829. — № 22; Люлье, Л.Я. Общий взгляд на страны, занимаемые горскими народами, называемыми черкесами (адыге), абхазцами (азега) и др. смежными с ними / Л.Я. Люлье. — Тифлис, 1857; Карлгофф, Н.И. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих Северо-Восточный берег Черного моря / Н.И. Карлгофф // Русский вестник. — М., 1860. — Т. 28; Сталь, К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа / К.Ф. Сталь // Кавказский сборник. — Т. 21 — Тифлис, 1900; Абрамов, Я. Кавказские горцы / Я. Абрамов. — Краснодар, 1927 и др.
Особого внимания заслуживают исторические сочинения первых адыгских ученых. Наиболее крупными из адыгских общественных деятелей первой половины XIX в. были Ш.Б. Ногмов и Хан-Гирей !3. Кроме вопросов материальной культуры, семейного и общественного быта в их работах дается описание духовной жизни адыгов, их общественно-экономических отношений, сословного деления, судопроизводства, налогов и повинностей. Работы первых адыгских просветителей естественно не имеют достаточной научной базы, но, без сомнения, они насыщены ценным фактическим материалом по истории и культуре адыгов.
Во второй половине XIX в. появляется разнообразная литература, написанная, в основном, царскими военачальниками, участниками и очевидцами событий, освещающих различные аспекты изучаемой проблемы14. Большинство публикаций носит тенденциозный характер, выражает официальную позицию и разные политические взгляды авторов. Тем не менее, критическое осмысление этих работ позволяет более объективно оценить события тех лет. В наиболее сконцентрированном виде эти идеи содержатся в трудах Н.Д. Дубровина, В.А. Потто, Ф.А. Щербины, P.A. Фадеева, С. Эсадзе и др.
Важное место в историографии занимают труды русских кавказоведов М.Н. Ковалевского, Ф.И. Леонтовича и др.15. Эти публикации отличаются собранием большого фактического материала. Их заслуга в том, что они достаточно глубоко проанализировали общественный строй адыгов, сферы функционирования обычного права, но, тем не менее, они недооценили уровень феодальных отношений, преувеличивая значение патриархально-родового уклада в общественном строе адыгов.
13 Ногмов, Ш.Б. История адыгейского народа/Ш.Б. Ногмов. — Нальчик, 1958; Хан-Гирей. Записки о Черкесии / Хан-Гирей. — Нальчик, 1978 и др.
14 Романовский, Д.И. Кавказ и кавказская война / Д.И. Романовский. — СПб., 1860; Духовский, С. Материалы для описания войны на Западном Кавказе : Да-ховский отряд на южном склоне в 1864 г. / С. Духовский // Военный сборник. — 1864. — № 11; Фонвилль, А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863—1864 гг. / А. Фонвилль // Русский инвалид. — № 21, 22, 23. 1865; Берже, А.П. Выселение горцев с Кавказа / А.П. Берже // Русская старина. — Т. 33. — СПб., 1882; Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин. — СПб., 1888; Фадеев, P.A. Собрание сочинений / P.A. Фадеев. — Т. I. — СПб., 1890; Потто, В.А. Утверждение русского владычества на Кавказе / В.А. Потто. — Т. 3. — Тифлис, 1904; Эсадзе, С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны / С. Эсадзе. — Тифлис, 1914 и др.
13 Ковалевский, М.М. Закон и обычай на Кавказе / М.М. Ковалевский. — Т. I—II.
— М., 1890; Леонтович, Ф.И. Адаты кавказских горцев / Ф.И. Леонтович. — Вып. 1.
- Одесса, 1882.
В этот период под разными предлогами усиливается проникновение иностранцев на Кавказ. Это агенты разных государств, ученые, журналисты, путешественники. Некоторым из них удалось собрать ценную и довольно правдивую информацию об общественном устройстве, быте адыгов, их количественном составе и расселении, а также интересные сведения о событиях этого периода на Кавказе 16. В целом, дореволюционное кавказоведение достигло определенных успехов в накоплении фактического материала и его изучении. Тем не менее работы этого периода не дают полного представления о характере и уровне социально-экономического развития адыгов в первой половине XIX в.
В конце XIX — начале XX вв. появляются довольно серьезные исследования в этой области17. Разработку этой проблемы продолжили ученые советского периода18. Несмотря на существующие разногласия по вопросам общественного развития, большинство авторов не отрицают наличия феодальных отношений в адыгском обществе этого периода, более того, они признают его ведущую
16 Longworht, A. Ayear among in Circassia / A. Longworht. — London, 1840; Мари-ньи Тетбу де Жак-Виктор-Эдуард. Путешествие в Черкесию. — Одесса : Симферополь, 1836; Де Монпере Ф. Дюбуа. Путешествия вокруг Кавказа / Де Монпере Ф. Дюбуа. — Сухуми, 1937. — Т. I.; Spenser, Е. Travels in Circfssia, Krim, Tartary / E. Spenser. — London, 1838; Bell, J. Jornal of a residence in Circassia; during the years 1837, 1838 and 1839 / J. Bell. - London, 1840; Lapinski, T. Die Bergvölker des Kaukasus Freiheifskampf gegen die Russen / T. Lapinski. — Hamburc, 1863.
17 Серебряков, И.Л. Сельскохозяйственные условия Северо-Западного Кавказа / И.Л. Серебряков // ЗКОСХ. — Тифлис, 1867; Герко, И. Что нужно знать для развития хозяйства за Кубанью / И. Герко. — КВВ, 1869. — № 10; Маргграф, О.В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа / О.В. Маргграф. — СПб., 1882; Клинген, И.Н. Основы хозяйства в Сочинском округе / И.Н. Клинген. — СПб., 1897; Дьячков-Тарасов, А.Н. Черноморская кордонная, Черноморская береговая линии и правый фланг Кавказа перед Восточной войной 1553 г. / А.Н. Дьячков-Тарасов // Кубанский сборник. — Екатеринодар, 1904. — Т. 10 и др.
18 Лавров, Л.И. Из поездок в Черноморскую Шапсугию летом 1930 г. / Л.И. Лавров // Советская этнография. — 1936. — № 4, 5; Покровский, М.В. Адыгейские племена в конце XVIII — первой половине XIX вв. / М.В. Покровский — М., 1958; Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа / М.О. Косвен. — М., 1961.; Кумыков, Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок / Т.Х. Кумыков. — Нальчик, 1962.; Гарданов, В.К. Общественный строй адыгских народов / В.К. Гар-данов. — М., 1967; Джимов, Б.Н. Общественный строй дореформенной Адыгеи (1800—1868 гг.) / Б.Н. Джимов // Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского института экономики, языка, литературы и истории. — T. XI. — Майкоп, 1970; Его же. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в XIX в. — Майкоп, 1986; Блиев, М.М. Кавказская война : Социальные истоки, сущность / М.М. Блиев // История СССР. — 1983. — № 2; Фадеев, A.B. К вопросу об уровне экономического развития кавказских горцев к середине XIX в. / A.B. Фадеев // Исторические записки. — Т. 1. — М., 1989.; Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. - М., 1994 и др.
роль в общественных отношениях. Особого внимания заслуживает монография В.К. Гарданова. Он впервые в советском кавказоведении подверг аргументированной критике тенденциозные высказывания об уровне хозяйственного развития адыгов (Н. Дубровина, А. Щербины, В. Потто и др.), подчеркнув, что подобная позиция была выгодна для «обеления» колониальной политики царизма.
Как в дореволюционной, так и в советской историографии у ученых не было единого мнения по многим вопросам адыгской истории. Наблюдались взаимоисключающие оценки в определении значения «демократического переворота» у адыгов, значительные разногласия существовали в оценках Сочинского меджлиса 1861 г. Существенным шагом в исследовании вопросов общественно-политического развития адыгов стал выход в свет работ В.Х. Кажаро-ва, Р.В. Хапачевой, А.Ю. Чирга19. Особую значимость представляют оценки авторов событий, связанных с организацией властных структур в адыгском обществе и попыткой создания Черкесского государства. Основываясь на широком круге источников, в том числе и впервые введенных в оборот, А.Ю. Чирг приходит к заключению, что создание меджлиса 1861 г, является ярким примером государственно-правового творчества адыгов. Вместе с тем, заложенный в меджлисе потенциал не успел в полной мере реализоваться вследствие поражения адыгов в Кавказской войне и вынужденного переселения большинства из них в пределы Османской империи.
До настоящего времени остаются дискуссионными вопросы о степени распространения мюридизма среди адыгов, о роли ислама в их борьбе за независимость20. Недостаточно изученным остается вопрос о роли религиозного фактора в массовом сознании и связанной с этим проблемой переселения адыгов в Османскую
19 Кажаров, В.Х. Адыгская хаса : Из истории сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии / В.Х. Кажаров. — Нальчик, 1992; Хапачева, Р.В. Адыгские народные собрания — истоки, развитие, функции / Р.В. Хапачева. — Майкоп, 2000; Чирг, А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа (конец XVIII — 60-е гг. XIX в.) / А.Ю. Чирг. — Майкоп, 2002.
20 Бушуев, С.К. О Кавказском мюридизме / С.К. Бушуев // Вопросы истории. — 1956. — № 12; Даниялов, Г.Д. О движении горцев под руководством Шамиля / Г.Д. Даниялов // Вопросы истории 1956. — № 7; Пикман, A.M. О борьбе кавказских горцев с царскими колонизаторами / A.M. Пикман // Вопросы истории. — 1955. — № 6; Фадеев, A.B. О внутренней социальной базе мюридистского движения на Кавказе / A.B. Фадеев // Вопросы истории. — 1955. — № 6; Ханыков, Н.В. О мюридизме и мюридах / Н.В. Ханыков // Сборник газеты «Кавказ». — Тифлис, 1847; Гаджиев, В.Г. Нерешенные и спорные вопросы истории Кавказской войны / В.Г. Гаджиев // Кавказская война : Спорные вопросы и новые подходы. — Махачкала, 1998 и др.
империю. Некоторые российские и турецкие историки значительно преувеличивают роль религии в переселенческом движении адыгов. Но большинство современных историков, занимающихся проблемами Кавказской войны, пришли практически к единому мнению, что религия сыграла определенную роль в переселении, но ее можно отнести только к второстепенным факторам.
Некоторые исследователи считают, что для понимания этого вопроса необходимо обратиться к сфере духовно-нравственной культуры адыгов, в основе которой лежит система моральных ценностей адыгагьэ (адыгство — адыгский этикет). Наиболее полное освещение эти проблемы получили в работах Б.Х. Бгажнокова и К.Х. Унежева21. Так, Б.Х. Бгажноков считает, что адыгство это универсальная, «самодостаточная концепция жизни», сопоставимая с национальной религией, причем не в метафорическом, а в прямом смысле слова, учитывая, что содержит в себе, в своем собственном «теле», все черты религии и религиозности. Без сомнения, что более подробное изучение адыгагьэ, адыгэ хабзе (морально-правовой кодекс) поможет ответить на многие вопросы, связанные с изучением адыгского общества, в частности, адыгской диаспоры.
Самостоятельную группу исследований составляют работы, посвященные Кавказской войне как фактору, причине переселения адыгов и истории адыгской диаспоры22. Такая литература стала появляться уже во второй половине XIX в. В эту группу можно включить работы, посвященные планам Османского правительства по использованию адыгских переселенцев, описанию судьбы переселенцев, локальным проблемам переселения, таким как численность и расселение переселенцев, их взаимоотношения с местным населением23.
21 Унежев, К.Х. Феномен адыгской (черкесской) культуры / К.Х. Унежев. — Нальчик, 1997; Бгажноков, Б.Х. Адыгская этика / Б.Х. Бгажноков. — Нальчик, 1999.
22 Берже, Ад. Выселение горцев Кавказа / Ад. Берже // Русская старина. — Т. XIII.
— 1882, январь; Фелицин, Е. О переселении горцев в Турцию / Е. Фелицин. — Кавказ. — 16 декабря 1877. — № 147 и др.; Лайпанов, Х.О. К истории переселения горцев Северного Кавказа в Турцию / О.Х. Лайпанов // Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. — Вып. 5.
— Ставрополь, 1966.; Касумов, А.Х. Разные судьбы/А.Х. Касумов. — Нальчик, 1967; Дзвдзария, А.Г. Махаджирство и проблемы Абхазии XIX столетия / А.Г. Дзидзария.
— Сухуми, 1975; Касумов, А.Х. Геноцид адыгов / А.Х. Касумов, Х.А. Касумов. — Нальчик, 1992; Бэрзэдж, Н. Изгнания черкесов / Н. Бэрзэдж. — Майкоп, 1996. и др.
23 Канитц, Ф. Дунайская Болгария и балканский полуостров / Ф. Канитц. — СПб., 1876; Михов, Н. Население на Турция и България през XVIII—XIX в. Библиогра-фични статистични изследвания / Н. Михов. — БАН. — Т. IV. — София, 1915—1935; Mohammad Kheir Hagondoqa. The Circassians. Immigration Jordan. — Amman, 1985; Berzeg Safer. 1877—1878 Osmanli-Rus savazinda kuzev kafkasya ve surgundki kafkasyalilar // Kafkasya Gersedi Samsun, 1990; Кушхабиев, А. Черкесы в Сирии / А. Кушхабиев. — Нальчик, 1993 и др.
В первые годы советской власти известный кавказовед Г.А. Кокиев впервые в российской историографии оценил массовое переселение адыгов в пределы Османской империи как результат колониальной политики царизма24. Затем последовал длительный период искажения адыгской истории, связанный со сложившейся догматизацией исторического знания. Историки 30—50 гг. основную вину за произошедшую с адыгами трагедию возлагали на европейские державы и Турцию. Ими осуждалась освободительная борьба горцев и при этом восхвалялась «цивилизаторская миссия» царизма (М. Багиров, С.К. Бушуев и др.)25.
Только со второй половины 50-х гг. прошлого века в исторической науке начинается постепенный переход к более объективному исследованию этого сложного периода в истории адыгов. Заметный вклад в восстановление объективной картины внесли А.В. Фадеев, А.М. Пикман, Н.С. Киняпина, Х.О. Лайпанов и др. Появление монографии А.Х. Бижева26 явилось значительным шагом вперед в исследовании проблемы. Автор приходит к выводу, что царское правительство по своей сути не представляло других методов обеспечения своих интересов на Северо-Западном Кавказе и Причерноморье, кроме как военными действиями и сопутствующими им грабежами и уничтожением коренного населения.
В последние два десятилетия XX в. значительно возрастает интерес к проблемам Кавказской войны и миграции адыгов в Османскую империю. Появляются исследования, посвященные отдельным аспектам этой проблемы (Т.Х. Кумыков, Г.А. Дзидзария, А.Х. и Х.А. Касумовы, С.Г. Кудаева и др.)27. Практически все авторы пришли к заключению, что переселение следует рассматривать как вынужденную реакцию на политику и практику колонизации Северо-Западного Кавказа.
В историографии начали складываться подходы к разработке истории зарубежных черкесских общин. Этот пробел значительно
24 Кокиев, Г.А. Военно-колонизационная политика царизма на Северном Кавказе / Г.А. Кокиев // Революция и горец. — Ростов-на-Дону. — 1929. — № 4, 5, 6.
25 Багиров, М.Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля / М.Д. Багиров // Большевик. — 1950. — № 13; Бушуев, С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России (20—70 гг. XIX в.) / С.К. Бушуев - М., 1955.
26 Бижев, А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис Восточного вопроса в конце 20-х начале 30-х гт. XIX в. / А.Х. Бижев. — Майкоп, 1994.
27 Кумыков, Т.Х. Выселение адыгов в Турцию — последствие Кавказской войны / Т.Х. Кумыков. — Нальчик, 1994; Дзидзария, Г.Д. Указ. соч.; Касумов, А.Х. Геноцид адыгов / А.Х. Касумов, Х.А. Касумов. — Нальчик, 1992.; Кудаева, С.Г. Огнем и железом : Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю (20— 70-е гг. XIX в.) / С.Г. Кудаева. - Майкоп, 1998.
восполнили монографии А.В. Кушхабиева28. Опираясь на обширную историческую литературу и источники, автор исследует основные периоды миграций черкесов в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Выявляются роль и место черкесских иммигрантов в социально-политической жизни Османской империи, Египта, Судана и Туниса в XIX в. Исследуется социально-экономическое и политическое положение черкесских иммигрантов на территориях Сирии и Иордании в периоды Османского господства, мандатного правления и независимости.
При всей спорности и субъективной одноаспектной определенности позиций и подходов автора к описываемым событиям в аспекте нашего исследования представляет интерес монография А.Г. Авакяна29. Дискуссионной является четвертая глава монографии «Роль черкесов в геноциде армян 1915—1916 гг.». Приводимые в исследовании факты требуют более глубокого изучения и объективного многоаспектного анализа.
Следует отметить, что тема переселения адыгов стала предметом исследования не только отечественных историков, но и зарубежных. Особое место занимают работы представителей адыгского зарубежья. Уже в 40-х годах XX в. появляются исследования, посвященные проблемам адыгского переселения30. Разные аспекты проблемы адыгской эмиграции затрагивают в своих исследованиях Р. Трахо, И. Беркок, И. Айдемир, С. Шами, М.Х. Хагондока, Б. Оз-бек, Н. Берзедж, С. Берзедж, Ф. Бадерхан и др.31. Большинство авторов вину за произошедшую с адыгами трагедию возлагают на Россию и Османскую империю. Помимо некоторых вопросов истории Кавказа авторы этих работ описывают особенности переселения адыгов в страны, входившие в Османскую империю.
28 Кушхабиев, A.B. Черкесы в Сирии / A.B. Кушхабиев. — Нальчик, 1993; Его же. Черкесская диаспора в арабских странах (XIX—XX вв.). — Нальчик, 1997.
29 Авакян, А.Г. Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX — первая четверть XX вв.) / А.Г. Авакян. — Ереван, 2001.
30 Закарийя Ахмад Васфи. Ашаир Аш-Шам. — Дамаск, 1947. (племена Шама); Хавжоко Шаукат, М. Герои и императоры в черкесской истории / М. Хавжоко Шаукат. — Нальчик, 1994.
31 Трахо, Р. Черкесы / Р. Трахо. — Мюнхен, 1956; Berkuk, I. Tarihte Kafkasya. — fstanbul, 1958; Ademir Izzet. Gôç. - Ankara, 1988; Shami Seteney. 19-th Century Cercassians Settlements in Jordan // Studies in History and Archeology of Jordan. — Vol. 4.
— Amman, 1992; Батырай Озбек. Черкесские нартские сказания / Озбек Батырай.
— Гейдельбег, 1982; Mohammad Kheir Hagondoga. The Circassians. Immigration to Jordan. — Amman, 1985.; Берзедж, H. Изгнания черкесов : Причины и последствия / Нихад Берзедж. — Майкоп, 1996; Berzeg Safer. 1877—1878 Osmanli-Rusya Savazinda Kuzey Kafkazya ve Sürgündeki Kafkasyalilar // Kafkasya Gersedi. — Samsun, 1990; Бадерхан, Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии, Иордании (вторая половина XIX — первая половина XX в.) / Ф. Бадерхан. — М., 2001.
Из работ турецких авторов следует выделить Ахмеда Джавада Эрена, Ахмета Хизала и др.32. Эти историки выступают с позиций пантюркизма. Особенно наглядно это проявляется в работе А.Д. Эрена, утверждающего, что Турция не имела отношения к переселению, более того — территорию, занимаемую мусульманскими народами Кавказа, объявляет исконно турецкой. Вопросы расселения, а также политики, проводимой османским правительством по отношению к черкесским иммигрантам, рассматриваются в работах американских авторов более позднего периода — Кемаля Карпата, Джейн Хакер и др.33.
Таким образом, изучение имеющейся литературы показывает, что историческая наука достигла определенных успехов в исследовании целого ряда проблем, имеющих непосредственное отношение к теме диссертационного исследования, в научный оборот введен значительный фактический материал, сделан ряд ценных обобщений по отдельным вопросам поставленной проблемы, но многие вопросы продолжают носить дискуссионный характер. Все еще нет обобщающего комплексного исследования истории адыгов XIX в., позволяющего выявить причины «слома» стационарного состояния адыгского общества, приведшие к массовой миграции населения и образованию адыгской диаспоры.
Третий параграф «Характеристика источниковой базы и методологии исследования» посвящен анализу привлеченных в диссертационном исследовании источников, основную часть которых составили письменные источники — как опубликованные, так и не опубликованные. Значительная часть важных документальных материалов вошла в опубликованные сборники архивных документов, включающих законодательные акты, трактаты, конвенции и договоры, заключенные Россией с другими государствами. К этой категории можно отнести и делопроизводственные документы, такие как рапорты, донесения государственных, военных и общественных деятелей разного уровня.
В первой половине XIX в. в архивных фондах России значительно увеличиваются материалы по западным адыгам. Это обусловлено в значительной степени возросшим интересом царского правительства к этому региону. Существенная по значимости информация получена из неопубликованных источников, выявленных в
" Eren, A.S. Turkiye'de go? ve göcmen meseleleri / A.S. Eren. — Istanbul, 1966; Hizal Ahmet. Kuzey Kafkasya. Hurriet ve istiklal davasi / Hizal Ahmet. — Ankara, 1961.
33 Karpat, Kemal. TTie Eviction of the Cherkesses from the Caucasia and their Settlement in Syria. — Amman, 1980; Era jse. The religious and Ethnic Distribution of the Ottoman population. Wisconsin, 1985; Hacker J. M. Modern Amman. Asocial Study. — L., 1960.
фондах центральных и местных архивов. В работе использовались материалы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА)34, Центрального Государственного архива Российской Федерации (ЦГАРФ)35, Архива Внешней политики России (АВПР)36, Государственного архива Ставропольского края (ГАСК)37, Центрального государственного исторического архива Республики Грузия (ЦГИАРГ)38, Государственного архива Краснодарского края (ГАКК)39, Национального архива Республики Адыгея (НАРА)40.
Из фондов РГВИА извлечены материалы, характеризующие социально-экономическое и политическое положение адыгов в изучаемый период. Документы, хранящиеся в этом архиве, дают также возможность понять сплетение интересов России и Османской империи в этом регионе.
В фондах РГВИА имеются ценные материалы и по истории адыгов второй половины XIX в. Фонды этого архива также отражают дальнейшую судьбу адыгов, оставшихся на территории России, а именно, об административных преобразованиях, которые проводило царское правительство в этом регионе и других мероприятиях, дающих понять, каким образом происходило вхождение адыгов в политическую и экономическую структуры Российской империи.
Политика России, Османской империи и европейских держав (особенно Великобритании) достаточно емко отражена в документах Архива внешней политики России (АВПР). Это фонды «Турецкий стол» (старый), «Посольство в Константинополе» и др. В фонде «Азиатский департамент» имеются важные документы,
34 Фонды: Военно-ученого архива Главного управления Генерального штаба (ВУА); Канцелярии департамента Генерального штаба (№ 37, 38); Главного штаба (А 100);
35 Фонд: Материалы по Кавказу (677).
36 Фонды: Главный архив, Трактаты, Турецкий стол (старый), Посольство в Константинополе, Политархив, Азиатского департамента.
37 Фонды: Кавказское областное управление (63), Общее правление Ставропольского округа (71);
38 Фонды: Кавказской археографической комиссии (416); Кавказского военно-народного управления (545); Штаба войск Кавказской линии и Черномории (1083);
39 Фонды: Канцелярии войсковых и наказных атаманов Черноморского казачьего войска (249); Войскового управления Кубанского казачьего войска (252); Канцелярии начальника Черноморской кордонной линии (261); Екатеринодарской карантинной конторы (324); Штаба начальника Лабинской кардонной линии (347); Канцелярии начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска (454); Канцелярии помощника начальника Кубанской области по управлению горцами 1865—1870 (774);
40 Фонды: Хакуриновское аульное правление (8); Бжегокаевское аульное правление (21).
характеризующие политику Российского государства по заселению края после окончания Кавказской войны. Ценные материалы, характеризующие экономическое и политическое состояние адыгов в первой половине XIX в. хранятся в Государственном архиве Ставропольского края.
Большое количество документов, отражающих разные аспекты, исследуемой нами проблемы хранится в Центральном государственном историческом архиве Республики Грузия (ЦГИАРГ). В фондах этого архива имеется много информации об экономическом положении и социальных отношениях адыгов в XIX в., а также ценные материалы о переселении адыгов, особенно на последнем этапе Кавказской войны и отношении России и Турции к переселенческому движению.
Разнообразная документация, касающаяся разных проблем по теме данного исследования, имеется в фондах Государственного архива Краснодарского края (ГАКК). В конце XVIII в. на Кавказе увеличивается число военных учреждений, в связи с этим значительно пополняются местные архивохранилища. Особенно это касается указанных фондов ГАКК. Хранящиеся здесь документы дают возможность оценить уровень экономического развития адыгов, состояние торговли. Достаточно много материала о деятельности английских и турецких агентов на Северо-Западном Кавказе и т.д. Следует отметить, что в фондах «Канцелярии начальника Черноморской кордонной линии» (261) и «Канцелярии войсковых и наказных атаманов Черноморского Казачьего войска» (249) хранятся документы, начиная с 1794 г., а фонд «Канцелярии начальника Черноморской береговой линии» содержит материалы с 1839 г., часть материалов этого фонда находится в ЦГИАГ (ф. 1396). В фонде 454 ГАКК имеются весьма ценные документы второй половины XIX в. Это рапорты атаманов разных отделов начальнику Кубанской области, в которых очень ясно отражено отношение царского правительства к просьбам со стороны адыгского населения о желании переселиться в Турцию. По этим же документам можно судить о мотивах, побуждавших адыгов к продолжению переселения и о причинах отказа им со стороны местных властей.
В фондах Национального архива Республики Адыгея (НАРА) имеются материалы, которые позволяют понять особенности социально-экономического развития адыгов во второй половине XIX в. Документы также раскрывают причины массовых выступлений крестьян этого периода и дают понять причины прошений многих крестьян, уже после окончания Кавказской войны, о переселении в Турцию. (Ф. 8, 29.) и т.д.
Значительное место в работе занимают документальные материалы различных архивохранилищ, часть которых опубликована. По сей день, сохраняют свою ценность первые фундаментальные издания документов — «Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией» (АКАК)41. «Акты» представляют собой свод официальных документов XVIII—XIX вв. из архива Главного управления наместника Кавказского, изданных в 12-ти томах, под редакцией А. Берже в Тифлисе в 1866—1904 гг. Документы, вошедшие в сборник, охватывают довольно широкие хронологические рамки с 1762 по 1862 гг. Для нас значительный интерес представляют VI—XII тома. Несмотря на то, что в подборе документов явно просматривается тенденциозный подход, это не умаляет их ценности. Критическое изучение «Актов» позволяет глубже осмыслить вопросы социально-экономического, общественного строя адыгов, их внутриполитического и международного положения, а также проследить основные этапы колониальной политики царизма на Кавказе.
Следует особо отметить, что в условиях сложившегося в XIX в. абсолютизма в России значительное место стали занимать указы и рескрипты царя. Из документов, адресованных царем высокопоставленным военачальникам и чиновникам, можно судить о целях ведения войны и политике царизма на Кавказе в рассматриваемый период. Трактаты, конвенции и договоры России с другими государствами занимают значительное место в исследовании. В этих документах обстоятельно изложены и аргументированы условия и обязательства сторон, подписывавших их. В некоторых содержатся обязательства в отношении других государств, секретные статьи, а также ссылки на более ранние документы. Информация такого характера представляет большую ценность при изучении вопроса об изменениях внутренней и внешней политики разных стран, а также их интересов на Кавказе.
Важное место занимают делопроизводственные документы в виде докладов, рапортов, отчетов, отношений и предписаний военачальников разного уровня, позволяющие судить о том, как на практике осуществлялась внутренняя и внешняя политика царизма, особенно на Кавказе, а также об изменении планов ведения войны в этом регионе. Подобного рода документы публиковались, начиная с первой половины XIX в.42.
41 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией (АКАК). — Тифлис, 1866-1904.
42 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). — СПб., 1829; Юзефич, Т. Договоры России с Востоком /Т. Юзефич.— СПб., 1869; Мартене, Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами / Ф. Мартене. — СПб., 1895 и др.
Широкую дискуссию среди кавказоведов вызвал сборник документальных материалов «Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов», включающий документы за 1826—1864 гг., отличающийся тенденциозным подбором документов, что значительно снижает его научную ценность43. Тем не менее, в нем содержится значительное количество документов, из которых может быть извлечена полезная информация, особенно о политике держав в этом регионе.
Самыми обширными публикациями документальных источников по проблемам Кавказской войны и ее последствий явились сборники, подготовленные Р.Х. Гуговым, Х.А. Касумовым, Д.В. Шабаевым44 и Т.Х. Кумыковым45. В эти сборники вошли документы, отражающие политику царского правительства, начиная с 20-х гг. XIX в., включая последний этап Кавказской войны (1859— 1864 гг.) и последующий период вплоть до XX в. Авторами сборника тщательно отобраны документы, хранящиеся в центральных и местных архивах. Значительная часть документов извлечена из фондов Центрального государственного архива Кабардино-Балкарской Республики (ЦГАКБР) и Центрального государственного архива Республики Северная Осетия—Алания (ЦГА РСОА).
Документальные материалы этих архивов дают представление о тех условиях, в которых происходило выселение, отражают политику царской самодержавной власти в отношении народов Кавказа. В сборник вошли материалы некоторых фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), Архива внешней политики России (АВПР) и др. Это в основном официальные документы, исходившие от высших военных и военно-административных учреждений и дипломатических организаций, которые достаточно убедительно демонстрируют отношение к процессу выселения, реэмиграции, и дают возможность изучить дальнейшую судьбу переселенцев. Значительную по количеству часть сборника составили документы из фондов Государственного архива Краснодарского края (ГАКК). Изучение этих документов помогает раскрыть причины и характер массового переселения
43 Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов : сборник документальных материалов / Под редакцией Цагарайшвили Ш.В. — Тбилиси, 1953.
44 Трагические последствия Кавказской войны для адыгов (вторая половина XIX — начало XX) : сборник документов и материалов / Составители Гугов Р.Х., Касу-мов ХА., Шабаев Д.В. - Нальчик, 2000.
45 Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской империи (20—70 гг. XIX в.) : сборник архивных документов / Составитель Кумыков Т.Х. - Нальчик, 2001.
адыгов в пределы Османской империи. Выход в свет этих двух сборников явился значительным шагом вперед в систематизации документального материала по проблемам Кавказской войны и выселению адыгов и других народов Кавказа в Турцию. Это дает возможность обогатить источниковую базу исследования и прийти к более значимым и аргументированным выводам.
Источниковая база существенно пополнилась с изданием сборника русских источников, охватывающих период с 1864 г. по 1914 г.46. В сборник вошли извлечения из разного рода научных изданий47, путевые заметки известных авторов — очевидцев или участников описываемых событий, публиковавшихся в различных периодических изданиях48. Информативная насыщенность представленных русских источников последней трети XIX в. — нач. XX в. дает возможность детально изучить состояние агрикультуры, уровень природопользования и жизнеобеспечения адыгов в рассматриваемый период. Значительная часть приводимых источников посвящена проблемам освоения Северо-Западного Кавказа, что в аспекте нашей проблемы представляет особый интерес.
Существенным дополнением к документальным публикациям материалов центральных и местных архивохранилищ явились материалы личных архивов, а также публикации мемуарного характера. Многие из них принадлежат высокопоставленным царским офицерам, в разное время служившим на Кавказе49. Наряду с мемуарами офицеров царской армии привлекают внимание и материалы из мемуарных сочинений и очерков,
46 Старые черкесские сады : Ландшафт и агрикультура Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников : 1864—1914 / Составитель Хотко С.Х. — Т. I, II. - М., 2005.
47 Записки Кавказского общества сельского хозяйства. — Тифлис, 1867.; Записки Кавказского отдела Русского географического общества. — Тифлис, 1906.; Труды Общества земледелия при императорском С.-Петербургском университете. — СПб., 1906.; Труды съезда деятелей Черноморского побережья Кавказа. — СПб., 1913. и др.
48 «Земледельческая газета»; «Русский вестник»; «Плодоводство»; «Кубанский сборник»; «Кубанский край» и др.
49 Архив Раевских. — СПб., 1910; Филипсон, Г.И. Кавказская война / Г.И. Фи-липсон // Альманах «Стрижамент». — Ставрополь, 1991; Торнау, Ф.Ф. Записки русского офицера, бывшего в плену у горцев / Ф.Ф. Торнау // Кавказ. — 1852. — № 1—2; Воспоминания кавказского офицера. — Ч. I. — 1835; Ч. II. — 1836, 1837 и 1938 годы. — М., 1864; Нессельроде, К.В. Защита политики России и положения, принятого ею в Европе / К.В. Нессельроде // Русская старина. — 1873. — № 11; Обширная переписка Розена с военным министром опубликована в АКАК. — 1881. — Т. 8; Муравьев, H.H. Записки / H.H. Муравьев // Русский архив. — Кн. I. — 1877; Кн. 2. - 1886; Кн. 3. - 1893.; Кн. 4. - 1894.; Кн. 5. - 1895.; Лазарев, М.П. Сборник документов / М.П. Лазарев. — М., 1952 и др.
принадлежащих ученым, декабристам — очевидцам событий50.
В связи с предпринятым в работе сравнительным анализом адыгской эмиграции с переселением болгар в южные области России, интерес представляет опубликованный «Архив Раковского»51, главного редактора газеты «Дунайский лебедь», в котором имеются ценные сведения о деятельности болгарской общественности по предотвращению переселения болгар в Россию. Наиболее ожесточенным нападкам со стороны Г.С. Раковского подвергалась переселенческая политика царизма по отношению к болгарам.
Интересные сведения об адыгах, их быте, событиях, происходивших в тот период на Кавказе, можно почерпнуть из мемуаров и «путешественных записок» иностранцев, которые по разным причинам стали очевидцами или участниками событий52. Эту группу источников пополнили более поздние публикации российских авторов, освещающие события второй половины XIX в., когда шло активное заселение края новыми поселенцами53.
Много публикаций документального и мемуарного характера печаталось на страницах российских газет и журналов. Прежде всего, это официальные издания, такие как «Кавказский сборник», «Кубанские областные ведомости», «Кавказ», «Русские ведомости», «Записки Кавказского общества сельского хозяйства» и др.
После окончания Кавказской войны значительное место на страницах официальных периодических изданий стали занимать материалы по изучению и освоению завоеванных территорий. Эти публикации дают наглядное представление о методах российской колонизации и трудностях, с которыми столкнулись новые поселенцы54. Ценные сведения о дальнейшей судьбе переселенцев извлечены из зарубежных журналов55.
50 Лорср, Н.И. Записки декабриста / Н.И. Лорер. — М., 1931; Записки моего времени. Воспоминания о прошлом // Мемуары декабристов. — М., 1988; Бестужев-Марлипский, A.A. Кавказские очерки /A.A. Бестужев-Мардинский. — СПб., 1838.
51 Архив на Раковски Г.С. — София, 1952—1966. (4 тома); Его же. Преселение в Русия или руската убийственна политика за българите. — София, 1886.
52 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов / Сост. Гар-данов В.К. — Нальчик, 1974.
53 Верещагин, A.B. Путевые заметки по Черноморскому округу / A.B. Верещагин. — М., 1874; Владыкин, М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу / М. Владыкин. — М., 1874 и др.
54 Клинген, И.Н. О восстановлении виноградников на восточном берегу Черного моря / И.Н. Клинген // Кавказское сельское хозяйство. — 1894. — № 7; Щербина, Ф.А. Прошлое и настоящее хозяйственных нужд и культурных начинаний Черноморского побережья / Ф.А. Щербина // Труды съезда деятелей Черноморского побережья Кавказа. — Т. I. — СПб., 1913.
" Шакир, Мустафа Черкесы, как их изгнали? / Шакир Мустафа // Аль Араби. — 1993. — № 417; Berzeg Safer. Указ. соч. и др.
Интерес представляют статистические описания56. Особое место занимает библиографическо-статистическая работа Н. Ми-хова, хотя и не являющаяся исследовательской, но содержащая большое информативное поле, которое дает ценную информацию по численности и географии расселения адыгов-переселенцев. Благодаря этой работе получена редкая возможность ознакомиться с трудами европейских авторов, в которых дается ценная информация по численности и расселению адыгов в Османской империи и Болгарии в рассматриваемый период57.
Специфика работы требует привлечения картографического материала. В связи с этим следует отметить также роль этого вида источников в исследовании. Карты занимают не столь значительное, но достаточно важное место. Они дают возможность визуально представить изменения, связанные с процессом естественного исторического развития народов региона, а также проследить за изменениями на политической карте Северо-Западного Кавказа, которые произошли в течение XIX в. в результате военно-колониальной экспансии со стороны царской России.
Все описанные виды неопубликованных и опубликованных источников содержат значительное число фактов, детализаций, характеристик по различным аспектам исследуемой проблемы. Военные мемуары, различного рода «путевые записки» касаются подробностей военных действий на Кавказе, некоторые работы содержат довольно четкую характеристику общественно-политического строя,
56 Новицкий, Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом Адыхе / Г.В. Новицкий. — Тифлисские ведомости. — 1829. — № 22; Люлье, Л.Я. Общий взгляд на страны, занимаемые горскими пародами, называемыми: черкесами (адыге), абхазцами (азега) и др. смежными с ними / Л.Я. Люлье // Записки Кавказского отдела Русского географического общества (ЗКОР-ГО). — Кн. IV. — Тифлис, 1857; Карлгоф, Н.И. Военно-статистическое обозрение Российской империи / Н.И. Карлгоф. — Т. XVI; Берже, А.П. Краткий обзор горских племен на Кавказе / А.П. Берже // Кавказский календарь на 1858 г.; Канитц, Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров / Ф. Канитц. — СПб., 1876; Фарфо-ровский, С.В. Статистическо-географическое описание Майкопа и Майкопского отдела / С.В. Фарфоровский // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 41. — Тифлис, 1910; Михов, Н. Указ. соч. и др.
57 Ravenshtain, E.G. The distribution of the population in the European part inhabied by the Türks. The Geography magazine. Eddeted bu Klements R. and Markham / E.G. Ravenshtain. — London, 1876, — Vol. III; Baker,Games Die Türken in Europa. Die autorisierte Ausgabe mit dem Teil «Die orientalishe Frage der Kultur» / Games Baker. — Stutgart, 1878; Rokstroch, E. Das Studium der Reisen über Europaische Türkei von Edwin Rokstroch. Aus allen Teilen der Welt. Die illustreirte Monateschrift über Landkompetenz / E. Rokstroch.— Leipzig, 1874; Karl Sachs. Die geographiesche und gesehichtlishe Skizze Bolgariens. Vilajet Donau; Aubaret, G. Province du Danabe, par G. Aubaret, Gonsul de Franse a Roustchouk / Karl Sachs. — Paris, 1876 и др.
нравов и обычаев адыгов. Отличаясь по масштабам, кругозору и охвату событий, тем не менее, они помогают ближе почувствовать дух того времени. Это позволило, прежде всего, дать правдивую характеристику состояния адыгского общества в первой половине XIX в., выявить причины переселения и изучить дальнейшую судьбу адыгов в Османской империи и России.
Подводя итог обзора литературы и источников, можно отметить следующее. В исторической науке проделана серьезная работа по изучению проблем, связанных с Кавказской войной и ее последствиями. В последние десятилетия внесены определенные коррективы в подходах к оценке изучаемых событий XIX в., обозначились общие научные позиции, характерной чертой которых является отход от прежних стереотипов. Однако, в отечественном кавказоведении все еще нет обобщающего системного исследования истории адыгов XIX в., содержащего в качестве основного компонента, — эмиграцию адыгов в Османскую империю и ее последствия. Имеющиеся наработки затрагивают много частных проблем, некоторые из них носят фрагментарный характер, тем не менее, объем и содержание выявленных материалов составил достаточную основу для изучения поставленной проблемы.
Общеметодологической основой исследования послужили принципы: историзма, научности и объективности, системности и психологизма.
При систематизации и анализе источников применялись конкретно-исторические методы исследования: конкретного анализа, синтеза, проблемно-хронологический, ретроспективный, историко-срав-нительный, историко-типологический, а также синхронного и диа-хронного анализа58.
В ходе исследования эти методы использовались в разных сочетаниях с учетом специфики отдельных составляющих изучаемой проблемы, что позволило выйти на уровень синтеза полученных результатов и прийти к значимым выводам.
В комплекс методов нашего исследования включены именно те, которые адекватны сформулированным задачам.
Во второй главе «Адыги Северо-Западного Кавказа в первой половине XIX в.» освещены вопросы, связанные с историей формирования этнической общности, проблемы жизнеобеспечения и соционормативного регулирования адыгского общества в первой половине XIX в., значительное внимание уделено изучению
58 Мининков, H.A. Методология истории / H.A. Мининков. — Ростов н/Д, 2004. -С. 201-218.
положения Северо-Западного Кавказа в системе геополитических интересов.
В первом параграфе «Формирование этнической общности» отмечается, что этнической общности в аспекте ее исторического развития свойственны две основные составляющие — этногенетичес-кая и этноисторическая. Первая из них связана с формированием генеалогически «исходного пласта человеческого субстрата» данного этноса, т.е. тех элементов, которые в процессе древнего взаимодействия заложили основу народа, оформившегося как некоторая величина. На этом уровне научного анализа исследуется проблема создания народом своей территории, этнолингвистическая принадлежность, а также этнодемографические процессы, которые привели к «собиранию» и «уплотнению» их этнического ядра. Под этноисторическим аспектом можно понимать все последующее движение истории данного этнического ядра уже как многокомпонентной системы со своей собственной средой, передающей от поколения к поколению традиционные черты давно зародившегося, но все-таки по своему динамичного этноса59.
В русле данного исследования обращение к истории формирования адыгской общности обусловлено особенностями исторического развития адыгов в рассматриваемый период. В истории адыгов XIX в. стал переломным. Одной из центральных проблем, вобравшей в себя политическую, социальную и экономическую историю народа, явилась эмиграция большей его части в пределы Османской империи. Это произошло в ходе Кавказской войны. Население Северо-Западного Кавказа со своеобразными этническими особенностями, с самобытным строем внутренней и общественной жизни покинуло родные места, где прожило много веков и расселилось по разным провинциям Европейской и Азиатской Турции. В настоящее время по неофициальным данным адыгский (черкесский) этнос включает в себя более чем трехмиллионную диаспору, а проживающих на своей исторической родине только около полумиллиона (адыгейцы, черкесы, кабардинцы). На различных этапах истории человечества наблюдались миграции населения, вызванные различными причинами — экономическими, социально-политическими, религиозными. Но адыгское переселение, пожалуй, не имеет аналогов в мировой истории. Анализ этнического и количественного состава переселенцев (с учетом имеющейся статистики) подтверждает, что 57 человек из каждых 100 переселившихся горцев были адыгами.
я Бабаков, В.Г. Кризисные этносы / В.Г. Бабаков. - М., 1993. - С. 29.
Несомненно, при изучении истории адыгского народа, который в настоящее время проживает более чем в 40 странах мира, расположенных на разных континентах, прежде всего, возникает вопрос — всегда ли адыги были так разобщены, где их историческая родина и с какого момента можно говорить об адыгах как о самостоятельном этносе? Исследование этих проблем поможет дать более аргументированные ответы на многие вопросы, возникающие в ходе изучения адыгской истории XIX в. В числе первых продолжает стоять вопрос о причинах столь массового переселения и его последствиях. На протяжении многих лет преобладали конъюнктурные подходы к оценке причин адыгской эмиграции. Среди прочих, учеными высказывалась мысль о том, что адыги не являются автохтонами Северо-Западного Кавказа, и именно это послужило причиной их легкого, т.е. без весомых на то причин, переселения в пределы другого государства. Почвой для таких высказываний послужила господствовавшая долгое время в дореволюционной и западной историографии так называемая миграционная теория происхождения адыгов. Тем самым отрицался факт формирования адыгской общности на территории СевероЗападного Кавказа60. Это первое, что побудило нас обратиться к вопросам этногенеза адыгов. Второе — связано с утверждением ученых, что диаспору может образовать только группа с уже сложившейся идентичностью, т.е. диаспоры могут возникнуть только на основе этнически однородных групп, которые сложились в период, предшествующий переселению.
Для данного исследования значительный интерес представляет и вопрос о происхождении эндо- и экзоэтнонимов адыгов, так как для окончательного (полноценного) формирования этнической общности, ощущения себя единым народом непременно необходимо проявление этнического самосознания, как важнейшей особенности и психологической структуры этноса и его членов.
Изучение раннего этногенеза адыгов подтверждает, что формирование адыгской общности происходило в сложных исторических условиях. Тем не менее, учеными достоверно установлено, что к X в. н.э. адыги, как народ с единым языком и культурой, в общих чертах сложился. Уже с первой половины X в. письменные источники считали адыгов единым народом, населявшим значительные территории от Таманского полуострова на западе и до Абхазии на юго-востоке, на севере до Приазовья и р. Кубань.
60 Бетрозов, Р. Происхождение и этнокультурные связи адыгов / Р. Бетрозов. — Нальчик, 1991. - С. 3-4.
Следует отметить, что и в дальнейшем происходило формирование и обособление этнических групп в результате перемещения племен на новые территории. Например, миграция части адыгов на восток в XIII—XIV вв. явилась причиной образования кабардинской народности, как особой восточной группы адыгов61.
Этническая структура Северо-Кавказского региона в основном сложилась к XVI—XVII вв., но окончательное ее формирование произошло к XIX в. К этому времени адыги, несмотря на значительные изменения в территории и численности, связанные в основном с причинами социально-экономического характера и классовой борьбой, продолжали занимать обширные пространства, оставаясь самой многочисленной группой на Северо-Западном Кавказе.
Что касается эндо- и экзоэтнонимов, не вызывает сомнения тот факт, что этноним «адыги» и экзоэтноним «черкесы» появились в ходе многовекового и сложного исторического процесса формирования адыгской этнической общности.
Второй параграф «Адыгское общество: проблемы жизнеобеспечения и соционормативногорегулирования» посвящен изучению стационарного состояния адыгского этноса в первой половине XIX в., с его целостной системой жизнеобеспечения и функционирования.
Изучение этноса, как было отмечено выше, представляется более содержательным как направленность культуры, через анализ различных ее слоев или подсистем: производственной, жизнеобеспечивающей, соционормативной и духовной, которые достаточно приемлемы для оценочных характеристик. Значительное внимание уделено изучению системы жизнеобеспечения как особого компонента культуры этноса, включающего все элементы материальной (и отчасти духовной) культуры и которая непосредственно направлена на поддержание жизнедеятельности людей.
Интерес представляет и сложившаяся система природопользования, которая в большей степени включает природную сторону хозяйственной деятельности этноса и обязательно подразумевает ее духовную составляющую — рациональные знания, эмпирические представления о среде, систему их передачи и обучения и т.п. Т.е. необходим анализ пути, по которому пошло развитие этноса. Разумеется, он определяется не только особенностями среды, но и традициями, культурными особенностями народа, внешним воздействием и множеством других социальных факторов.
" Бетрозов, Р. Происхождение и этнокультурные связи адыгов / Р. Бетрозов. — Нальчик, 1991.-С. 3-4.
Изучение адыгского общества в контексте выделенных критериев, характеризующих состояние этноса, убедительно показывает, что являясь автохтонными жителями Северо-Западного Кавказа к началу XIX в. адыги имели достаточно развитую систему жизнеобеспечения, основу которой составляла развитая хозяйственная организация и структура, сложившаяся в результате упорного труда многих поколений, хорошо приспособленная к местным условиям. Изучив адыгский этнос в рамках выделенных критериев, обусловливающих наличие этноса и характеризующих его состояние, можно сделать следующие выводы.
Традиционное политическое устройство адыгского общества переживало заметные изменения, связанные с усилением влияния князей, дворян, старшин, что неизбежно приводило к обострению социальных противоречий и упорному сопротивлению свободных крестьян. Однако эти процессы по своему характеру не могли спровоцировать такое явление, как переселение подавляющей части населения вне зависимости от социально-классовой принадлежности.
Решающей роли не мог играть и религиозный фактор. Более того, у адыгов религия никогда не играла такой важной роли в жизни, как это имело и имеет место у остальных народов, в том числе горцев Кавказа. Адыгский этикет решал почти все проблемы, выполнял социальные функции в жизни общества в большей степени, чем религия. Требования религии «растворились» в ады-гэ хабзэ, ибо он шире чем религия охватывает проблемы общества62. Одним из важных в структуре адыгской цивилизации и ментальности является комплекс этических идей и воззрений — адыгагъэ. Именно адыгский этикет придает специфический оттенок образу мышления и поведения черкесов, определяет характер языка, религии, науки, искусства, обычаев, привычек. В то же время нельзя не учитывать значение религиозного фактора при выборе страны переселения.
С полным основанием можно утверждать, что адыгское общество в рассматриваемый период представляло целостную систему жизнеобеспечения и функционирования, в которой не было объективных причин для «вымывания» значительных групп населения.
В третьем параграфе «Северо-Западный Кавказ в системе геополитических интересов: усиление внешнеполитического давления» отмечается, что к 30-м гг. XIX в. уровень социально-экономического и общественно-политического развития, достигнутый адыгами, а
62 Унежев, К.Х. Указ. соч. — С. 135; Бгажноков, Б.Х. Указ. соч. — С. 3.
также наличие экономических связей с Россией, Турцией и другими державами свидетельствует о том, что Северо-Западный Кавказ все активнее втягивался в ход мировой истории. Проблему переселения адыгов в пределы Османской империи необходимо рассматривать на широком фоне международной политики ряда держав, особенно России, Англии и Турции. Именно в период с 1829 г. по 1864 г. происходит накопление и обострение межгосударственных противоречий, в центре которых оказался СевероЗападный Кавказ. Постепенное нарастание антагонизма, изменение интересов разных держав в этом регионе прослеживается по основным историческим вехам. Это Адрианопольский (1829 г.) и Ункяр-Искелессийский (1833 г.) договоры, Лондонские конвенции (1840—1841 гг.), Крымская война (1853—1856 гг.), и, наконец, последний этап Кавказской войны. Колониальные происки держав, борьба за рынки сбыта и источники сырья привели к значительному расширению рамок Восточного вопроса и к обострению обстановки на Северо-Западном Кавказе.
Русско-турецкая война 1828—1829 гг. завершилась подписанием 14 сентября 1829 г. Адрианопольского договора. Согласно четвертой статье договора Османская империя лишилась всех опорных пунктов на Черноморском побережье Кавказа, а Россия приобрела важную в стратегическом отношении военно-морскую базу — Анапу. Условия Адрианопольского мира «не только пресекали экспансию Турции в этом направлении, но и подрывали ее экономическое и политическое влияние среди горцев Северо-Западного Кавказа, значительно сокращалась работорговля, меновая торговля»63. Кроме того, неизбежно было падение политического престижа и влияния ислама, «которое и без того не было прочным».
Россия же использовала четвертую статью Адрианопольского трактата для присоединения земель, не принадлежавших ей ни политически, ни экономически. Эта крупная дипломатическая победа России упрочила ее позиции на Востоке вопреки отрицательному отношению Англии к территориальным расширениям России.
Четвертая статья Адрианопольского трактата способствовала дальнейшему столкновению интересов держав на Северо-Западном Кавказе. Упрочение русских позиций на Черном море вообще, и на его северо-восточном побережье в частности, обострило
" Фадеев, A.B. Россия и Кавказ первой трети XIX в. / A.B. Фадеев — М., i960. — С. 338.
противоречия между Англией и Россией, расширило сферу их соперничества. В результате русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Турция потеряла свои важные позиции на побережье Кавказа, основная борьба за обладание Северо-Западной частью этой территории велась главным образом со стороны России.
Адыги не присутствовали на переговорах в Адрианополе. Это одна из причин, из-за которой они не признавали Адрианополь-ского трактата. В политическом, экономическом и культурном отношениях зависимость кавказских горцев от Оттоманской империи была больше номинальной, чем фактической. Но горцы не желали и власти России.
Признание Портой восточного берега Черного моря владениями России не имело реальной силы. Утверждение власти России было возможно только в жесткой борьбе с адыгами, хозяевами этой земли. И царизм начинает осуществлять свои планы военно-феодальными, колониальными методами, приступает к утверждению колониальной администрации силой оружия. Николай I писал графу И.Ф. Паскевичу: «Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столь же главное, а в рассуждении прямых польз важнейшее — усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных»64.
Война России против адыгов Западного Кавказа после заключения Адрианопольского трактата принимает легальный характер. С упрочением положения России на Ближнем Востоке и укреплением ее позиций на Черном море и Кавказе создается почва для утверждения колониальной администрации силой оружия на Северо-Западном Кавказе. План покорения предполагалось осуществить в 1830 г. Но в результате упорного сопротивления прибрежных адыгов эту военную операцию удалось осуществить только в 1864 г.
Таким образом, события первой половины XIX века подтверждают, что Северо-Западный Кавказ занимал особое место во внешнеполитических планах Турции, России и Западных держав. В первую очередь это обусловливалось стратегической значимостью региона. Адыги, вне зависимости от их воли и желания, оказались в эпицентре «большой» политики. При подписании Адрианопольского трактата, явившегося важной вехой в судьбе адыгов, были проигнорированы их интересы, жизненно-важные проблемы. Россия, получившая юридическое основание для фактического
64 Щербатов, А.П. Генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский / А.П. Щербатов. - Т. II. - СПб., 1896. - С. 229-230.
овладения не принадлежавшей ей территории, приступила к колонизации Северо-Западного Кавказа сугубо военными методами. Развернувшаяся национально-освободительная борьба показала, что адыги не желали признавать власть ни России, ни Турции, отстаивая свое право на свободу и независимость. В ходе многолетней войны адыги истощили свои силы, потеряли значительную часть территории, вынуждены были искать помощи и поддержки других стран.
В третьей главе «Кавказская война как фактор дифференциации адыгского общества» рассматриваются события заключительного этапа Кавказской войны, массовая эмиграция адыгского населения в пределы Османской империи, а также политические и социально-экономические особенности формирования адыгской диаспоры.
В первом параграфе «Заключительный этап Кавказской войны и массовая эмиграция адыгского населения» отмечается, что именно события заключительного периода Кавказской войны65 оказали наиболее пагубное воздействие, усилили переселение адыгов и некоторых других народов Кавказа (убыхи, абхазы). Для выяснения масштабов этого исторического явления необходимо рассмотреть события последнего этапа и особенно последний год борьбы адыгов за свою независимость.
Действия царского правительства на Северо-Западном Кавказе активизируются после Крымской войны, закончившейся подписанием мира в Париже 18 марта 1856 г. В результате решительного наступления царизма на Кавказе в конце 50-х — 60 гг. XIX столетия развернулось массовое переселение адыгов Западного Кавказа в пределы Оттоманской Турции. Можно выделить основные события этой самой крупной волны переселения адыгов:
— С 1858 г. вопрос о переселенческом движении адыгов Западного Кавказа становится предметом «весьма деятельной» дипломатической переписи царского правительства с оттоманским.
—В августе 1859 г. Шамиль был вынужден сложить оружие. Это событие сильно отразилось на Северо-Западном Кавказе. Усилилось наступление русских войск.
—Лето 1859 года — бжедуги первыми заявили о своей «покорности» или согласии переселиться в Турцию.
65 В историографии советского периода установлены хронологические рамки Кавказской войны с 1817 по 1864 гг. и условно выделены три ее этапа:
I - с 1817 по 1829 гг.
II - с 1829 по 1856 гг.
III - с 1856 по 1864 гг.
—Ноябрь 1859 года — капитулировал Мухаммед Эмин.
— С 1860 года — главным средством покорения Кавказа была «признана» военная колонизация, с чем было и связано принудительное выселение горцев.
— В 1862 году начато официальное выселение адыгейских (черкесских) племен, когда 10 мая состоялось «высочайшее утверждение» постановления Кавказского комитета о переселении горцев, которое в действительности, как мы видели, последовало за усилившимися военными действиями на Северном Кавказе после Крымской войны. Прежде всего, был поставлен вопрос о переселении абадзехов и шапсугов, чтобы широко развернуть колонизацию в данном районе.
— Октябрь 1863 года — с абадзехами и шапсугами было покончено.
— Февраль 1864 года — по требованию Евдокимова абадзехи оставили свои жилища — одни для поселения на прикубанской равнине, другие для переселения в Турцию.
— К 19 апреля 1864 года войска не встречали уже в горах убыхов — они тронулись в Турцию.
— Июль 1864 года. Псуховцы и другие племена вынуждены были спуститься к морскому берегу для отправления в Турцию.
По выражению одного из участников военных операций на Кавказе Р.А. Фадеева «действия порохом и железом кончились» 66. Так закончилась одна из драматических эпох в истории Кавказа.
Представляется, что к факторам, стимулировавшим переселение адыгов, можно отнести следующее:
—продолжительность и активность военных действий русских колониальных войск;
—непримиримость позиций борющихся сторон; особенности географического положения исторической родины адыгов, давшая им возможность сравнительно легкой эмиграции, а для Российской империи делавшие эту территорию стратегически важным регионом;
— не только отсутствие ограничений, но даже стимулирование эмиграции со стороны царской администрации.
Совпадение, одновременное действие указанных факторов оказалось для адыгов роковым.
Таким образом, события заключительного этапа Кавказской войны (1856—1864 гг.) имели определяющее значение при решении вопроса о переселении адыгов. Эскалация военных действий
66 Дзидзария, А.Г. Указ. соч. — С. 192.
российских войск на Северо-Западном Кавказе, широкое применение регулярных частей, артиллерии, морская блокада, строительство новых линий и крепостей превращали неравную борьбу адыгов в безнадежное дело. Идея «вытеснения» адыгов с их исторической родины стала одной из центральных в планах российского самодержавия на Северо-Западном Кавказе. Именно таким образом предполагалось решить «черкесский вопрос», навсегда избавившись от непокорного населения.
Второй параграф «Образование адыгской диаспоры» посвящен изучению географии первоначального расселения и численности адыгов в Османской империи.
Турецкое правительство имело достаточно четко разработанные планы расселения адыгских переселенцев. Выбор мест поселений определялся политическими причинами, связанными с проблемами кризиса Османской империи и стремлением сохранения ее целостности. Наряду с этим, определяющее значение имело введение в экономический оборот сложных по климатическим условиям и недостаточно освоенных районов империи.
Однако, эти планы не были реализованы в основной идее, так как изменения в международной обстановке и национально-освободительная борьба народов Балкан внесла в них коррективы, породив новую переселенческую волну с Балканского полуострова в другие страны, входившие в Османскую империю с целью использования переселенцев для решения внутренних проблем этих территорий, непосредственно не связанных с сохранением целостности этой этнической группы. В результате адыги, как единый народ, оказались искусственно расчлененными по различным регионам империи.
Исследуемый в диссертации материал также позволил обратиться к проблеме численного состава адыгских переселенцев. До настоящего времени отсутствуют не только единые показатели численности, но и научно обоснованная методика подсчета, связанная с тем, что не все авторы четко отделяют адыгских переселенцев от других народов Кавказа. В недостаточной степени учитывается, что в переписях населения, проводимых, как правило, в военных целях, включались сведения только о мужской части населения. Тем не менее, проведенный сопоставительный анализ приводимых сведений позволяет утверждать, что наиболее реальной цифрой можно считать 1 млн. 400 тыс. — 1 млн. 500 тыс. человек переселившихся за двадцатилетний период эмиграции (1857—1877 гг.).
При подсчете численности адыгских переселенцев немаловажное значение имело выявление количественных показателей
основных миграционных потоков в различные районы Османской империи, как на первом этапе, так и в более позднее время вторичной эмиграции. Численный показатель стал одним из доказательств не только мощности миграционного потока, но и планов заселения конкретных районов империи в соответствии с четко обозначенными целями. Это и определило особенности формирования адыгской диаспоры на первоначальном этапе. Впоследствии адыгская диаспора окажется рассеянной по многим странам, входившим в состав Османской империи, сложится точечно-дисперсный характер расселения.
Третий параграф «Адыги в политической и социально-экономической структурах Османской империи» посвящен изучению социально-экономических и политических аспектов становления адыгской диаспоры в Османской империи.
Положение адыгов в Османской империи в первые десятилетия определялось масштабами переселения. Массовый характер этого явления потребовал от турецкого правительства решения сложных экономических, финансовых, социальных и политических проблем, связанных с включением переселенцев в жизнь империи. Их решение осложнялось тем, что 60—70 гг. XIX в. были периодом острого кризиса, распада, усиления национально-освободительного движения в некогда мощной Османской империи. Осложнение международной обстановки, обострение русско-турецких отношений привели к тому, что переселение адыгов приобрело характер внутритурецкой проблемы, оказавшейся в связи с масштабами переселения более сложной, чем предполагалось.
Удержание народов в рамках колониальной империи требовало создания особой политико-военной системы. Ее упрочение турецким правительством связывалось, наряду с другими моментами, с привлечением такой значительной силы, как адыгские переселенцы. Фактически из них создавались живые заслоны, военизированные поселения, прикрывавшие границы наиболее конфликтных, социально-напряженных районов, охваченных национально-освободительным и повстанческим движением. Немаловажное значение приобретала и деятельность специальных формирований (жандармерии), в задачу которой входило поддержание внутреннего порядка. Адыги стали важным ядром в регулярной турецкой армии, пополнив отряды наиболее маневренных войск кавалерии, используя годами накопленный опыт ведения военных действий в сложных условиях Кавказа, знания российской военной тактики и стратегии.
Колониальные планы Османской империи предполагали включение в единую экономическую структуру обширных районов. Все большее значение приобретало вовлечение в экономический оборот отдельных регионов по природно-климатическим и экономическим причинам, отстававшим в хозяйственном развитии. С целью повышения их потенциальных возможностей предполагалось использовать мощную переселенческую волну, целенаправленно расселяя переселенцев в наиболее неблагоприятных районах. В этом плане адыгские переселенцы представлялись турецкому правительству наиболее приемлемыми, так как имели многовековой опыт хозяйствования в сложных условиях, развитые навыки земледелия, скотоводства и ремесленной деятельности. На переселенцев возлагались надежды в нормализации достаточно сложной социальной проблемы — преодоления резкого сокращения сельскохозяйственного населения за счет их включения в демографическую структуру страны.
Проведенный в диссертации анализ позволяет выделить ряд причин, осложнявших реализацию планов Османской империи: планы переселения адыгов не имели достаточно финансируемых программ, выделяемые турецким правительством субсидии были явно недостаточными, а средства, выделяемые царским правительством, были также мизерны. Подобное положение явилось причиной того, что основная тяжесть материальных затрат, связанных с поселением адыгов на новых местах, легла на плечи местного населения, создав тем самым дополнительную напряженность во взаимоотношениях и сформировав идеологию неприятия переселенцев в целом ряде регионов Османской империи.
Реализация планов переселения столкнулась с таким сложным явлением, как противостояние двух духовных начал — мусульманского и христианского. Целенаправленное поселение адыгов на землях христиан еще более обостряло напряженность в отношениях, порождало озлобление, формирование негативного образа адыга-переселенца. Подобные явления неизбежно повлекли за собой обратную миграцию, не нашедшую отклика у царского правительства, не желавшего принимать назад «беспокойное» население.
Анализируя сложный процесс адаптирования адыгов-переселенцев в новых условиях, следует отметить, что, несмотря на все сложности, они постепенно обрели новую родину, стали ее граждами.
В четвертой главе «Социально-экономические и политические аспекты формирования колониальной системы Российской империи на Северо-Западном Кавказе (втор. пол. XIX в.)» рассматривается
характер российской колонизации Северо-Западного Кавказа и особенности включения адыгов в политико-административную систему Российской империи.
Параграф первый «Характер колонизации Северо-Западного Кавказа» посвящен исследованию особенностей освоения Российской империей «освободившихся» территорий на различных этапах колонизации Северо-Западного Кавказа.
Провоцируя и вынуждая переселяться коренных жителей Кавказа в Османскую империю, царское правительство стремилось к освобождению земель для широкой колонизации края. В отчете за 10 лет (1862—1872 гг.) Главного управления наместника Кавказа четко формулировалась задача царского правительства, что необходимо вновь заселить этот пограничный, природой богато одаренный, но опустошенный край...67 В официальных отчетах комиссий по обследованию освободившихся земель отмечается, что с точки зрения истории и экономики, это было быстрое и бесследное разрушение древнейшей культуры. Царские войска так старались в деле «очищения» края, что, как показала дальнейшая практика, только «излишки» российского населения не могли решить проблему.
С 1864 г., когда часть черкесов окончательно подчинилась России, а большая часть оставила родину и выселилась в Турцию, начался совершенно новый этап в колонизации края. Главный тормоз гражданского развития края — война, был устранен навсегда, при этом образовались обширные пустующие пространства по левую сторону р. Кубань и по всему Черноморскому побережью. Т.е. давался полный простор для заселения «освобожденных» местностей.
Земли, оставшиеся после переселения адыгов в Турцию, правительство предназначало в первую очередь в награду частным лицам за службу на Кавказе. Размеры наделов определялись в зависимости от чина. В течение 1867—1870 гг. 30 царским крупным сановникам было выделено 80000 дес. в Екатеринодарском отделе.
Военная колонизация Россией Кавказа неизбежно сопровождалась заселением казачьими станицами «освобожденных» от адыгов мест. Вслед за войсками двигались и новые поселенцы. Уже к середине 1864 г. Россия поселила на месте бывших черкесских аулов 90 казацких станиц с населением 103 тыс. человек. А за период с 1861 по 1865 гг. за Кубанью были основаны 73 новых
67 Торнау, Ф.Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Ф.Ф. Торнау // Русский вестник. - Т. 79. - 1869.- № 2. - С. 403.
станицы и 8 поселков общей численностью 16 тыс. семейств. К концу 80-х гг. XIX в. в Кубанской области уже насчитывалось 176 станиц68. Но сама колонизация велась крайне неумело. В основу ее положена была строго военная система. Правительство особо не церемонилось и с новыми поселенцами. Станицы устраивались не там, где это было удобно в хозяйственном отношении, а где находили нужным военные власти. Все делалось «в силу гадательных предположений» о возможности возмущений со стороны оставшихся на Кавказе и поселенных разрозненными аулами у Кубани горцев.
Поселенцы плохо осваивали новый и своеобразный в ландшафтном отношении край. Первые два десятилетия колонизации Северо-Западного Кавказа показали, что нет никакой преемственности между хозяйствами переселенцев и теми его формами, которые господствовали у черкесов. Уже в начале колонизации российские власти стали понимать, что только русскими переселенцами не удастся освоить пустующие земли.
Царское правительство использовало разные формы и методы заселения. По мере прекращения военных действий неоправдав-шая себя система насильственного заселения Северо-Западного Кавказа казаками была отвергнута. Было решено впредь соблюдать принцип добровольности и оказания переселенцам ощутимой материальной помощи69.
10 марта 1866 г. царским правительством было утверждено «Положение о заселении Черноморского округа и управления оным»70. Согласно §§ 10 и 35 этого Положения предполагалось заселение черноморского округа производить путем вызова переселенцев, отвода земли на основании Устава о городском и сельском хозяйстве и продажи ее в частную собственность. Таким образом, имелось в виду привлечь в край капиталистов и способствовать к образованию обширных хозяйств и ферм, располагающих достаточными средствами для улучшения местной культуры. Был создан специальный Особый Комитет, который решал вопросы, связанные с заселением Северо-Западного Кавказа. При этом Особом Комитете была создана Комиссия, которая определяла контингент новых поселенцев. Предпочтение оказывалось народам, «которые следуют христианскому учению и будут так же преданы
68 Кубанский сборник. - Т. I. - 1883,- С. 73-74.
69 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. / под редакцией А.Л. Нарочницкого. — М., 1988. — С. 214.
70 Верещагин, A.B. Черноморское побережье Кавказа и его колонизация / A.B. Верещагин. - СПб., 1878. - С. 7.
правительству, как коренные русские». По мнению Комиссии к таковым можно было отнести христианское население нагорной Имеретии, горных жителей Кутаисской губернии, армянских и греческих выходцев из Малой Азии и славянское население Балканских стран, особенно Болгарии. Но невзгоды, сопровождавшие переселение, неспособность российского правительства оказать необходимую помощь в обустройстве на первом же этапе вызвали обратную миграцию. Особенно это касается болгарской эмиграции, что обусловлено и активным противостоянием переселению со стороны болгарской общественности. Следует также отметить, что Оттоманское правительство не противилось возвращению переселенцев на родину, что в корне отличает болгарскую эмиграцию от адыгской.
Таким образом, политика Российского правительства на Северо-Западном Кавказе вплоть до XX в. определялась почти всецело настоятельной потребностью заселения «освободившихся» земель.
На первоначальном этапе колонизация носила сугубо военно-казачий характер. С окончанием военных действий начался период широкой крестьянской колонизации. Уже в самом ее начале стало очевидным, что только силами русских поселенцев невозможно освоить обширные территории. Была предпринята попытка подключения к заселению края единоверцами из Малой Азии, Балкан и других регионов. Но с точки зрения экономического освоения края колонизация не привела к желаемым результатам. Гораздо более эффективной она оказалась в достижении внутренней стабильности в регионе.
В параграфе втором «Адыги в политико-административной системе Российской империи» исследуются особенности установления юрисдикции Российской империи на Северо-Западном Кавказе.
После эмиграции значительной части адыгов в пределы Османской империи количество оставшихся в Закубанском крае составляло около 100 тыс.71. Включение адыгов в политическую и социально-экономическую структуры Российской империи проходило в строгом соответствии с планами правительства. При определении мест поселения непременным условием было переселение на кубанскую равнину.
71 РГВИА. Ф. 400. Оп. 263 / 916а. Д. 1. Л. 175-176 //Трагические последствия Кавказской войны для адыгов. — С. 121. (По округам адыгское население распределялось следующим образом: Натухайский округ — 26 684 чел., Шапсугский округ — 12 600 чел., Бжедугский округ — 23 782 чел., Абадзехский округ — 16 314 чел., Нижне-Кубанское приставство — 4 340 чел., Верхне-Кубанское приставство — 26 348 чел.).
Заселение адыгов на новые территории проходило под строгим наблюдением, и контролировал его сам начальник Кубанской области граф Эльстон Сумароков. По стратегическим соображениям адыгов расселяли раздробленно и со всех сторон их селения были охвачены цепью казачьих станиц. Кроме того, казачьи станицы располагались на возвышенности, а адыгские аулы на низменности.
Земельные преобразования проходили в ходе крестьянской реформы в России. Естественно, что особенность этой реформы для адыгов определялась тем, что к окончанию войны хозяйство их было полностью разорено и социально-экономические предпосылки этой реформы не могли вытекать непосредственно из внутреннего развития адыгов, а определялись экономическим развитием страны в целом и интересами царского правительства.
Еще в ходе продолжающихся военных действий на Северо-Западном Кавказе по поручению правительства в 1861 г. командующим войсками Кубанской и Терской областей генерал-адъютантом графом Евдокимовым было подготовлено «Положение об устройстве поземельного быта горских племен Кубанской области». Согласно этому положению, все население делилось на три категории для надела земель. Первую категорию составили крупные феодалы (князья), прославившиеся «особыми своими заслугами» перед царизмом. Им отводилось от 1 до 5 тыс. десятин в «потомственное и вечное пользование». Вторая категория (дворяне) — получали от 100 до 200 десятин на каждого старшего в семье и по 30 десятин на каждого из остальных членов мужского пола в семье. Третья категория, куда входили «простые люди, составляющие свободный класс народа и живущие на землях владельцев» — получали по 7 десятин на мужскую душу. Наделение землей крепостных крестьян и холопов «Положением» не предусматривалось. Крепостные крестьяне и холопы должны были пользоваться землей «из участков своих господ»72. Т.е. «Положение» Н.И. Евдокимова 1861 г. закладывало основы для создания крупного частного землевладения на Северо-Западном Кавказе.
По мере приближения окончания Кавказской войны правительство осознавало недочеты этого «Положения». Необходимо было юридическое основание и условие для заселения освободившихся от адыгов земель новым населением. Александр II в рескрипте от 24 июня 1861 г. дает четкие указания по этому поводу. Новый проект был разработан графом Н.И. Евдокимовым с учетом
" ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 1089. ЛЛ. 2-4.
прежних ошибок. Теперь он назывался «Положение о заселении предгорий Западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России». Из названия документа уже видно, что ход земельной реформы отныне находится в прямой зависимости от наделения землей казаков и переселенцев из России. Согласно новому «Положению» казаки получали по 20 дес. на душу. Адыгам выделялись наделы размером 4—5,5 дес. на душу мужского пола.
В Екатеринодарском отделе Кубанской области земельная реформа приняла затяжной характер. Проект о наделении землей горского населения был составлен только в 1881 г. и корректировался вплоть до 1889 г.73. Окончательный вариант был представлен главнокомандующему на Кавказе только в 1901 г. Сам процесс отмежевания земель завершился в основном к концу первого десятилетия XX в. Можно с уверенностью сказать, что земельная реформа на Северо-Западном Кавказе удовлетворяла в основном интересы военно-чиновничьего аппарата и феодалов. Проведенная на выгодных для феодалов условиях реформа еще более закабалила горских крестьян, они получили земли гораздо меньшее количество, чем имели до освобождения. Основная масса крестьян превратилась во временнообязанных, они вынуждены были отдавать помещикам солидный процент продукции, получаемой от занятия земледелием и скотоводством. Все это вызвало вновь усиление переселенческого движения. В 70-х гг. XIX в. возобновилась массовая подача заявлений с просьбой разрешить переселиться в Османскую империю, и если в 1874 г. было указание царя о запрете переселения, то позже отношение царского правительства к переселенческому движению заметно изменилось.
Переселение продолжалось вплоть до начала XX в. К 1883 г. на Кавказе проживало всего 56 423 черкеса, из них 16 ООО абадзехов, 12 ООО бжедугов и только 2500 шапсугов. В то время как иногородних переселенцев в Кубанской области к 1880 г. уже числилось 287 510 чел., а казаков 524 986 чел., а через 20 лет, в 1900 г,, казаков было 875 218 чел. и иногородних переселенцев 1 085 583 чел. По данным 1901 г. в общем составе народонаселения Кубанской области кавказские горцы составляли 5,5% всего населения74. А в документах за 1905 г. в ipynny иногородних отнесены и горские племена, находившиеся в Кубанской области75.
73 Кубанский календарь 1900. — Екатеринодар, 1899. — Т. 6. — С. 95.
74 ГАКК. Ф. 454. On. 1. Д. 5299. Л. 21.
75 Очерки истории Адыгеи. — С. 423.
Были проведены и территориально-административные преобразования. В 1860 г. по указу Александра II были образованы Кубанская и Терская области. В Кубанскую область вошли земли правого крыла Кавказской линии — Черномории, Черноморской береговой линии, Старой линии и Закубанье, т.е. от северовосточного берега Черного моря до верховьев р. Малка. Левое крыло Кавказской линии стало именоваться Терской областью. Все пространство, занимаемое Кубанской, Терской областями и Ставропольской губернией, отныне называлось Северным Кавказом. Таким образом, упразднилась Кавказская линия. В этом же году Черноморское войско было переименовано в Кубанское казачье войско. Окончательно границы Кубанской области сложились к 1864 г. А в 1865 г. было утверждено «Положение о Кавказском горском управлении». Кубанская область была разделена на пять военно-народных округов — Псекупский, Лабинский, Уруп-ский, Зеленчукский и Эльбрусский. Западные адыги вошли в состав Псекупского и Лабинского округов, а восточные адыги (черкесы), абазинцы, ногайцы, карачаевцы вошли в состав трех остальных округов.
С 1868 г. вошло в действие новое «Положение об устройстве Кубанской и Терской областей», упразднявшее особые учреждения, существовавшие для управления гражданским, казачьим и горским населением, и учредило общие административные и судебные органы. Во главе округов стояли армейские офицеры, в основном русской национальности. С 1871 г. вместо военных округов были организованы уезды. Адыги Псекупского района вошли в Екатеринодарский уезд, Лабинского — в Майкопский, Зеленчук-ского и Эльбрусского — в Баталпашинский уезд. С начала 1888 г. управление Кубанской областью полностью перешло в ведение казачьего атамана Кавказских казачьих войск и командующего войсками Кавказского военного округа. Т.е. было установлено военно-казачье управление. Наряду с административными преобразованиями были проведены военные, судебные и другие реформы. В 1870 г. было опубликовано «Положение о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск». Основной целью «Положения» было превращение казачества в главную опору в поддержании колониального режима на Северо-Западном Кавказе. Бессрочная служба казаков ограничивалась 22 годами, а для действительной службы устанавливался срок в 5 лет.
Для адыгов действительная служба заменялась взиманием воинского налога. Но в обязанность горцев вменялась задача периоди-
чески формировать так называемые «иррегулярные войска», наделенные полицейскими функциями, которые использовались для подавления антифеодальных и антиколониальных выступлений трудящихся масс.
С введением гражданского управления были проведены значительные изменения и в судопроизводстве. Устранялись «исключительно судебные права высших сословий и духовенства». Если раньше в основе судопроизводства лежали адатные положения, то теперь в работе горских судов постепенно стали преобладать правила мировых судов, лежавших в основе деятельности российских судебных органов.
Таким образом, специфика включения оставшейся части адыгов в административную и социально-экономическую структуры России заключалась в следующем.
Обязательным условием было переселение на Кубанскую равнину, при этом адыгов расселяли раздробленно и на низменных местах. Адыгские аулы были охвачены цепью казачьих станиц.
В ходе крестьянской реформы адыгские крестьяне были освобождены от личной зависимости, но размеры выкупа были настолько велики, что они еще долгое время оставались в зависимости от своих феодалов. Еще более усилилось имущественное и социальное расслоение. В руках феодальной верхушки сосредоточивались огромные земельные владения.
Судебные преобразования проявились в введении «горских словесных судов». Т.е. судебная власть была отделена от гражданской и военной.
Особенностью нового административного устройства стал его военно-колониальный характер. Управление округами, участками осуществлялось армейскими офицерами. К концу XIX в. практически на всей завоеванной территории было установлено военно-казачье управление. Т.е. послевоенные преобразования были направлены на установление системы колониального господства России в регионе и подчинение адыгов основным законам государства. Крестьянская реформа и административно-судебные преобразования второй половины XIX в. завершили процесс вовлечения адыгов Северо-Западного Кавказа в политическую и социально-экономическую структуру России.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы.
Обзор состояния научной разработанности проблемы исследования убедительно показал, что изучены лишь отдельные ее аспекты и проведение обобщающей комплексной работы по исто-
рии адыгов XIX в. весьма актуально. Логику исследования определило целостное осмысление основных положений теории этноса и диаспоры, объяснительных механизмов и закономерностей функционирования этноса.
Изучение сложной и противоречивой истории адыгов XIX в. показало, что ключевым событием изучаемого периода, обусловившим процессы трансформации и дифференциации адыгского общества, явилась Кавказская война. В исторической науке на протяжении многих лет преобладали конъюнктурные подходы к оценке событий рассматриваемого периода. Наиболее дискуссионным продолжает оставаться вопрос о причинах и последствиях массовой эмиграции адыгов. Назван целый комплекс причин и факторов, стимулировавших переселение адыгов.
—Активизация военных мероприятий царского самодержавия, колонизаторская политика царизма, преднамеренное создание условий, делавших невозможным дальнейшее проживание на Кавказе коренных этнических групп, не истребленных полностью в ходе Кавказской войны.
— Провокационная по отношению к горцам и реваншистская по отношению к России политика правящих кругов Турции (пропаганда ислама и религиозного фанатизма, непримиримого отношения к иноверцам), преследовавшая цели колонизации кавказскими переселенцами малозаселенных земель страны, пограничных с Россией, а также земель, заселенных в Османской империи христианскими народами.
—Колонизаторские устремления и происки западных держав (Англии, Франции), во внешнеполитических планах которых Западный Кавказ занимал особое место.
— Группа причин, связанных со спецификой уклада и общественных отношений горских народов.
Проведенный в исследовании анализ источников позволил выявить основные причины и факторы, расположить их в иерархии, объективно отражающей их «весомость», адекватно расставить акценты на причинах адыгской эмиграции.
Ранее выполненные работы по отдельным сторонам исследуемой проблемы истории адыгов XIX в. позволили достаточно детально изучить адыгское общество в стационарном состоянии с его целостной системой жизнеобеспечения и функционирования, выявить весь комплекс причин «слома» адыгского общества, изучить характер и методы российской колонизации Северо-Западного Кавказа и особенности формирования адыгской диаспоры.
Адыги, издревле проживавшие на Северо-Западном Кавказе, к XIX в. имели сложившуюся устойчивую хозяйственную структуру, хорошо приспособленную к местным природно-климатическим условиям, включавшую достаточно развитое земледелие, товарное скотоводство, торговлю. Даже в самые трагические периоды истории, отстаивая свою свободу и независимость, адыги стремились, в первую очередь, сохранить традиционный образ жизни и хозяйствования, передавая из поколения в поколение навыки традиционного использования природных и экономических ресурсов.
Сложившееся народное хозяйство не только обеспечивало адыгское общество всем необходимым, но и позволяло создавать избыточный продукт, развивать и поддерживать относительно высокий уровень товарооборота.
Изменения, происходившие в общественно-политическом устройстве адыгского общества, по своему характеру и направленности, наряду с некоторым своеобразием, отражали характерные для феодализма явления, такие как стремление феодальной знати к укреплению политической власти, тенденции ее централизации, усиление социальных противоречий и антифеодальные выступления крестьян. Однако, в адыгском обществе эти явления носили несколько «сглаженный» характер, уравновешиваясь достаточно устойчивыми демократическими тенденциями и по своему характеру не были направлены на «вытеснение» каких-либо социальных групп из общественной жизни.
Мусульманство, несмотря на его довольно интенсивное распространение на Северо-Западном Кавказе, так и не стало массовой идеологией, способной обеспечить размах мюридизма как религиозного движения, определившим массовое переселение адыгов. Несравненно большее значение в адыгском обществе имела веками сложившаяся система соционормативного регулирования, в сконцентрированном виде выраженная в адыгском морально-правовом кодексе адыгэ-хабзэ и адыгской этике — ады-гагьэ. Главное отличительное свойство адыгства как компонента соционормативной культуры заключается в его ориентации на воспроизводство этничности. Именно система ценностей, заложенная в адыгстве, в критические моменты существования этноса способна выступить в роли главного механизма культурной самоорганизации этнического социума. Требования и принципы адыгского этикета реализуют не только социальные функции в жизни общества, но и присущие идеологическим и религиозным системам.
Изучение внешнеполитического положения адыгов показало, что в XIX в. происходило накопление и обострение межгосударственных противоречий, в центре которых оказался Северо-Западный Кавказ. Адыги все более широко вовлекались в сложные международные отношения, но не как равноправные участники, а как «средство» разрешения межгосударственных противоречий. Без согласия адыгов утвердить власть над этой территорией пытались и Турция, и Россия. В противовес международному праву и общественному мнению формулируется положение об особом праве России на «приращивание» своих владений в Северо-Кавказском регионе.
Применение Россией военной силы для утверждения своего господства на Северо-Западном Кавказе не имело под собой реальной правовой базы, так как основывалось на условиях Адриа-нопольского трактата, не признанного адыгами. Более того, использование крайне жестоких методов «покорения» Кавказа вызвало раскол в адыгском обществе, усиление протурецких и антирусских настроений.
При этом важно отметить, что адыги стремились сохранить политическую самостоятельность, апеллируя для этого к Англии, Франции, мировому общественному мнению, вступая в переговоры с официальными представителями и военным командованием России и Турции. Но идея «вытеснения» адыгов с их исторической родины стала одной из центральных в планах российского самодержавия на Северо-Западном Кавказе. Именно таким образом предполагалось решить «черкесский вопрос», навсегда избавившись от непокорного населения.
Именно размах военных действий на Северо-Западном Кавказе, колонизаторская политика царизма, планомерное истребление населения, делавшие невозможным дальнейшее проживание на этой территории коренных этносов, способствовали проявлению такого многозначного явления, как эмиграция.
Характер войны колониальный со стороны России и национально-освободительный со стороны народов Северного Кавказа обусловил втягивание в непосредственное противостояние подавляющей части населения. Адыги вынуждены были покинуть традиционные места поселений, была разрушена сложившаяся веками система хозяйствования, истощены людские ресурсы.
Все эти обстоятельства обусловили складывание идеи массового переселения. Окончательное оформление эта идея получила в результате крайне радикальной политики царской России на последнем этапе Кавказской войны, нацеленной на освобождение
этой территории от народа, не пожелавшего покориться. В этом смысле переселение следует рассматривать, как вынужденную реакцию на политику и практику колонизации Северо-Западного Кавказа, т.е. как следствие главной, доминирующей причины из всего комплекса причин: захватнической, колониальной политики царизма, политики русификации окраин.
Причины переселения в значительной степени обусловили положение адыгов в Османской империи. Массовый характер переселения, сжатость во времени, бедственное положение адыгов, фактически лишившихся всего имущества, превращало переселение адыгов в весьма сложную и для Османской империи проблему, усугубившуюся кризисными явлениями, которые она в этот период переживала.
На переселении отрицательно сказалось и то обстоятельство, что ни российское, ни турецкое правительство не имели подкрепленных в финансовом отношении планов переселения. Отсюда проистекали принятые правительством Османской империи чрезвычайные меры: создание специальных переселенческих комитетов, привлечение сил и средств общественных организаций, местного крестьянства.
Более того, срочное и масштабное переселение не воспринималось общественным мнением, что потребовало усилий османского правительства для того, чтобы внедрить в общественное сознание мысль о целесообразности принятия переселенцев.
Использование османским правительством переселенцев в борьбе с центробежными силами в целях сохранения целостности империи вызывало повторные миграции внутри Османской империи, что усугубляло и без того бедственное положение переселенцев и приводило к еще более большему этническому дроблению целостного народа.
Масштабы адыгской эмиграции создавали чрезвычайную ситуацию, выйти из которой достаточно сложно было бы любому государству. Во многом сложности переселения на первом этапе носили объективный характер. Несмотря на это, Османская империя смогла мобилизовать внутренние ресурсы и решить проблему расселения, элементарного обустройства и вовлечения переселенцев в четко определенные сферы деятельности.
Благодаря переселенцам заметно возрос военный потенциал Османской империи, укрепилась государственно-охранительная система. Значительно превосходя по количеству оставшихся на исторической родине, в демографическом отношении адыги в Османской империи представляли самодостаточную для воспроиз-
водства группу и им удавалось сохранять этническую эндогамию. Это способствовало естественному воспроизведению национальных обычаев, традиций, языка, способов производства и ведения хозяйства, т.е. довольно длительному сохранению самобытности этнической группы. Царское правительство препятствовало возвращению адыгов на родину, поэтому обретение новой родины в Османской империи было для них безальтернативным вариантом.
Характер послевоенной колонизации Северо-Западного Кавказа определялся целями царского правительства. Территория была полностью «очищена» от коренного населения, но, как показала практика, государству не просто было освоить обширные пустующие пространства только излишками российского населения. Российское правительство пыталось привлечь единоверных переселенцев из Малой Азии, Балкан и других регионов. Но главная надежда на поддержание колониального режима в регионе возлагалась на казачество. Это во многом определило характер расселения.
Колонизация проходила крайне неумело. Новые поселенцы испытывали большие трудности в освоении своеобразного и сложного ландшафта. Даже спустя несколько десятилетий никакой преемственности между хозяйством переселенцев и теми его формами, которые господствовали у адыгов, не наблюдалось.
Включение адыгов, оставшихся на родине, в социальную и политико-административную систему Российской империи проходило в сложных условиях пореформенной России. К окончанию Кавказской войны их хозяйство было полностью разорено и особенности реформы для адыгов определялись не их внутренним развитием, а экономическим состоянием страны в целом и интересами Российского государства. Непременным условием правительства было переселение на Кубанскую равнину, так как весь берег Черного моря должен был быть занят русским и казачьим населением. По стратегическим соображениям преднамеренно расселенные раздробленно и окруженные цепью казачьих станиц адыги вынуждены были осваивать низменные и болотистые места.
Земельная реформа, завершившаяся только к началу XX в., удовлетворяла в основном интересы военно-чиновничьего аппарата и феодалов. Бедственное положение крестьян еще более усугубилось, что вызвало в 70-х гг. XIX в. новую волну переселения в Османскую империю. Российское правительство не только не препятствовало, но тайно поощряло это переселение и ни под каким видом не допускало их возвращения в Россию.
Таким образом, события XIX в., происходившие на территории Северо-Западного Кавказа, привели к разрыву многовековых
культурных традиций адыгского народа, связи с землей предков, с привычным образом жизни, повлекшим за собой глубинные изменения в духовной культуре и психологии. Формы и методы российской колонизации Северо-Западного Кавказа обусловили трансформацию адыгского общества в две разные среды — Османскую и Российскую империи. В итоге произошел искусственный разрыв, дифференциация адыгского общества, обусловленная экстремальными ситуациями военного противостояния.
Тем не менее, следует отметить, что анализ сложного процесса адаптирования адыгов в Османской империи и оставшейся части в условиях Российского государства подтверждает, что, несмотря на все трудности, они смогли постепенно стать полноценными гражданами стран их проживания, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях народа, его высокой жизнестойкости.
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:
Монографии:
1.Кудаева, С.Г. Огнем и железом : Переселение адыгов в Османскую империю 20—70 гг. XIX в. / С.Г. Кудаева. — Майкоп, 1998. (8,5 п.л.).
2.Кудаева, С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке : Процессы трансформации и дифференциации адыгского общества / С.Г. Кудаева. — Майкоп, 2006. (15 п.л.).
Статьи:
3. Кудаева, С.Г. Адыгские махаджиры на Балканах / С.Г. Кудаева, Л. Р. Хут // Культура и быт адыгов. - Майкоп, 1991. — С. 187— 209. (1,5 п.л.).
4. Кудаева, С.Г. Исторические судьбы адыгских махаджиров на Балканском полуострове / С.Г. Кудаева, Л. Р. Хут // Материалы международной научной конференции «Культурная диаспора народов Кавказа : Генезис, проблемы изучения». — Черкесск, 1991. — С. 331-334.(1 пл.).
5. Кудаева С.Г. К вопросу о некоторых стереотипах в оценке роли Османской империи в судьбе адыгов (черкесов) в период Кавказской войны // Материалы научной конференции «Кавказская война : уроки истории и современность». — Краснодар, 1995. - С. 217-222. (0,3 п.л.).
6. Кудаева, С.Г. Османская империя в судьбе адыгов / С.Г. Кудаева // Шапсугия. - 1994. - № 12-13. - С. 48-49. (0,2 пл.).
7. Кудаева, С.Г. К вопросу о внутренних причинах переселения адыгов в Османскую империю (первая половина XIX в.) / С.Г. Кудаева // Материалы научно-практической конференции «Неделя науки МГТИ». - Вып. 2. - Майкоп, 1997. - С. 10-12. (0,2 п.л.).
8. Кудаева, С.Г. Адыги и Адрианопольский трактат / С.Г. Кудаева // Материалы научно-практической конференции «Неделя науки МГТИ». - Вып. 2. - Майкоп, 1997. - С. 12. (0,2 пл.).
9. Кудаева, С.Г. К проблеме статистики адыгского махаджир-ства / С.Г. Кудаева // Материалы научно-практической конференции «Неделя науки МГТИ».— Вып. 3. — Майкоп, 1998. — С. 33— 36. (0,2 п.л.).
10. Кудаева, С.Г. Черкесы на Балканах (1856—1871 гг.) / С.Г. Кудаева // Международный журнал «Черкесский мир» (на рус., анл., турецк. языках). - Майкоп, 1999. - № 1. - С. 20-21. (0,3 п.л.).
11. Кудаева, С.Г. Социально-политические аспекты формирования адыгской диаспоры в Османской империи (вторая половина XIX в.) / С.Г. Кудаева // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. — Ростов н/Д, 2001. — № 1. — С. 9—12. (0,4 п.л.).
12. Кудаева, С.Г. Этнос и этническая идентификация в системе понятий этносоциологии / С.Г. Кудаева, Б.А. Ожева // Неделя науки МГТИ. - Майкоп, 2001. - С. 62. (0,2 п.л.).
13. Кудаева, С.Г. Российская империя и Северо-Западный Кавказ : Реформы 60—70-х гг. XIX в. / С.Г. Кудаева, Р.А. Нажева // Неделя науки МГТИ. - Майкоп, 2001. - С. 58. (0,2 п.л.).
14. Кудаева, С.Г. Адыгская диаспора : методологические аспекты изучения / С.Г. Кудаева // Тезисы Всероссийской научно-практической конференции «Северный Кавказ в условиях глобализации». - Майкоп, АГУ, 2001. (0,2 пл.). - С. 154-157.
15. Кудаева, С.Г. Черкесы (адыги) в Османской империи (вторая половина XIX в.) / С.Г. Кудаева // Сборник научных трудов МГТИ. - Майкоп, 2001. - С. 47-54. (0,3 пл.).
16. Кудаева, С.Г. Заключительный этап Кавказской войны / С.Г. Кудаева // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы развития туризма и курортного дела Юга России». — Майкоп, 2001. — С. 269-272. (0,3 пл.).
17. Кудаева, С.Г. Адыгская и болгарская эмиграции : Исторические параллели (60—70-е гг. XIX в.) / С.Г. Кудаева // Информационно-аналитический вестник АРИГИ. История, этнология, археология. - Вып. V. - Майкоп, 2002. - С. 162-170. (0,5 пл.).
18. Кудаева, С.Г. Адыгская эмиграция : Этнический и количественный состав / С.Г. Кудаева // Сборник факультета НСТ
«Новое в социально-культурной сфере, туризме и управлении». — Майкоп, 2002. - С. 27-33. (0,3 пл.).
19. Кудаева, С.Г. Адыгская диаспора : Вопросы типологии / С. Г. Кудаева // Материалы второй региональной научно-практической конференции «Проблемы гуманитарного развития региона в современных условиях». — Майкоп, 2005. — С. 34—43. (0,3 пл.).
20. Кудаева, С.Г. Некоторые национально-идентифицирующие традиции северокавказской диаспоры в Турции / С.Г. Кудаева, М.К. Мусаева // Сб. статей молодых ученых Дагестана. — Махачкала, 2005. - Вып. 24. - С. 9-25. (0,75 пл.).
21. Кудаева, С.Г. Адыгская диаспора в Турции / С.Г. Кудаева // Сб. статей ассоциации молодых ученых Дагестана. — Махачкала, 2005. - Вып. 24. - С. 9-25. (0,75 пл.).
22. Кудаева, С.Г. Вопросы типологии диаспор / С.Г. Кудаева // Вопросы истории : сб. ист. фак. АГУ. — Майкоп, 2006. — С. 17—25. (0,5 пл.).
23. Кудаева, С.Г. Адыги Северо-Западного Кавказа : История формирования этнической общности / С.Г. Кудаева // Актуальные проблемы гуманитарного развития региона. — Майкоп, 2006. - С. 37-45. (0,75 пл.).
24. Кудаева, С.Г. Адыгское общество : Проблема жизнеобеспечения (первая пол. XIX в.) / С.Г. Кудаева // Актуальные проблемы гуманитарного развития региона. — Майкоп, 2006. — С. 45—50. (0,5 пл.).
25. Кудаева, С.Г. Теоретические подходы к пониманию категории «этнос» (на примере адыгского этноса) / С.Г. Кудаева // Актуальные проблемы гуманитарного развития региона. — Майкоп, 2006. - С. 51-58. - (0,75 пл.).
26. Кудаева, С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке : Опыт исторического осмысления / С.Г. Кудаева // История науки и техники. — Москва, 2006. — № 9. — С. 39—44. (0,5 пл.).
27. Кудаева, С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX в. : типология источников / С.Г. Кудаева // Научная мысль Кавказа. — Ростов-на-Дону. — 2006. — Приложение № 9. — С. 247—257.
28. Кудаева, С.Г. Адыги (черкесы) : К вопросу о происхождении экзоэтнонимов / С.Г. Кудаева // Материалы съезда кавказоведов. — Ростов-на-Дону, 2006. (0,5 пл.). (в печ.)
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора исторических наук Кудаева, Светлана Григорьевна
ВведениеЗ
I. Теоретико-методологические основы изучения проблемы.
1.1. Теоретические подходы к пониманию базовых категорий
1.2. Историография проблемы: основные тенденции развития
1.3. Характерика очниковой базы и методологии ледования
II. Адыги Северо-Западного Кавказа в первой половине Х1Хв.
2.1. Формирование этничой общни
2.2. Адыое общво: проблема жизнеобечения иционормативного регулирования
2.3. Северо-Западный Кавказ встеме геополитичих интерв: ление внешнеполитичого давления
III Кавказская война как фактор дифференциации адыгского общества.
3.1. Заключительный этап Кавкаой войны и мовая эмиграция адыого нления
3.2. Образование адыой диоры
3.3. Адыги в политичой ициально-экономичойруктурах аой империи
IV. Социально-экономические и политические аспекты формирования колониальной системы Российской империи на Северо-Западном Кавказе (втор. пол. Х1Хв.).
4.1. Характер колонизации Северо-Западного Кавказа
4.2. Адыги в политико-админративнойстеме Риой империиЗ
Введение диссертации2006 год, автореферат по истории, Кудаева, Светлана Григорьевна
Актуальность исследуемой проблемы. Формирование современной концепции отечественной истории невозможно без органического включения в нее истории отдельных регионов России. Более того, в истории народов, ставшей составной частью истории России, есть проблемы, вбирающие в себя такие явления и процессы, которые в равной степени отражают изменения в общественной жизни не только отдельных народов, но и страны в целом. К таким проблемам с полным основанием может быть отнесена внешняя политика России Х1Хв., сфокусировавшая широкий спектр вопросов, особое место в ряду которых занимали планы колонизации Северо-Западного Кавказа.
В ходе военной колонизации произошли кардинальные изменения в политической, социально-экономической, культурной и ментальной сферах адыгского общества, проявившиеся в процессе трансформации традиционных форм общежития в социально-экономическую среду Российской империи и образовании многочисленных диаспорных групп. В результате, веками складывавшаяся общественная система адыгов вынуждена была адаптироваться к новым условиям, переходить в новые каналы развития. При этом, несмотря на все сложности вхождения в новую общественную систему, адыги смогли сохранить этническую идентичность, став органической частью российского многонационального государства.
В то же время экстремальные события, связанные с Кавказской войной, не могли не привести к дифференциации общества, изменить характер его функционирования, обусловить проявление критических областей поведения, выразившихся в эмиграции значительной части населения с исторической территории. В наши дни в историческом знании все более четко проявляется интерес к проблемам эмиграций народов, происходит накапливание опыта систематического исследования их причин и последствий. В этом плане обращение к такому масштабному явлению как эмиграция адыгов середины Х1Хв. способно обогатить складывающиеся исследовательские подходы.
Актуальность исследуемой проблемы связана и с историографической ситуацией. Для современного исторического знания характерно преодоление кризисных явлений, развитие научных концепций, формирование новых исследовательских подходов, более широкое и свободное привлечение исторических источников, совершенствование приемов и методов изучения исторической информации, расширение дискуссионного пространства. Но при этом в историографии трудно найти проблему, которая столь бы зависела от политической конъюнктуры, как история Кавказской войны и адыгской эмиграции.
Современная демократизация общественной жизни стала стимулом для развития исторического знания, но наряду с этим масштабы настоящей эпидемии приобрела фальсификация, спекулятивная эксплуатация исторического прошлого. История и сегодня переживает глубокий кризис, так как не удалось в полной мере освободиться от идеологического и политического влияния. Общественно-историческое развитие народов бесконечно разнообразно. Естественно, что комплексное изучение истории вхождения адыгов Северо-Западного Кавказа в состав России имеет важное научное значение. Именно такой подход позволяет изучить социально-исторические процессы на уровне явления национальной истории с характерными чертами и особенностями.
Историография. Учитывая развитую в российской и зарубежной исторической науке традицию обращения к исследуемой проблеме, объем и характер накопленных историографических источников, анализ опубликованной литературы дан в отдельном параграфе первой главы диссертации, посвященной теоретико-методологическим вопросам.
Объектом исследования является процесс взаимодействия политических, экономических и социальных явлений, приводящих к модификации традиционных общественных структур.
Предметом исследования стал процесс дифференциации адыгского общества, связанный с Кавказской войной, обусловивший его трансформацию в состав Российской империи и образование адыгских диаспор.
Географические границы диссертационного исследования включают территорию Северо-Западного Кавказа, являвшуюся территорией традиционного проживания адыгов и регионы расселения адыгской диаспоры.
Хронологические границы диссертационного исследования охватывают Х1Хв., переломный период в истории адыгского народа, обусловивший кардинальные изменения в его исторической судьбе.
Целью диссертационной работы является изучение истории адыгов Х1Хв., переломным событием которого явилась Кавказская война, обусловившая процессы трансформации и дифференциации адыгского общества, вхождение адыгов в состав Российской империи и образование адыгских диаспор.
Для реализации этой цели ставились следующие задачи: обобщить теоретические подходы к проблеме, выделить базовые критерии оценки состояния этноса и признаки классических диаспор; осуществить историографический обзор опубликованной литературы с целью определения степени и уровня исследования проблемы, выявления нереализованных исследовательских возможностей; провести источниковедческий анализ введенных в научный оборот источников; выявить признаки этнической общности адыгов, процесс ее формирования и развития; проанализировать политическое, социально-экономическое и культурное положение адыгов, как целостную систему жизнеобеспечения, функционирования и регламентации адыгского общества; изучить влияние российской колонизации Северо-Западного Кавказа, экстремальных условий войны, на дифференциацию адыгского общества; исследовать причины адыгской эмиграции как широкого социально-политического, экономического и демографического явления; проследить дальнейшую судьбу адыгской эмиграции, процесс образования диаспорных групп, реализацию планов Османского правительства по их использованию; проанализировать политику Российской империи по отношению к адыгам, оставшимся на исторической родине; изучить формы и методы вовлечения адыгов в социальную и политическую структуры Российской империи.
Источниковая база исследуемой проблемы достаточно обширна, более того, в диссертации вводятся ранее неизвестные источники, расширяющие диапазон видения проблемы. Исходя из этого, анализ корпуса исторических источников, ставших фундаментальной основой данного исследования, проведен в специальном параграфе первой главы диссертационной работы.
Теоретико-методологическую основу исследования составили принципы историзма, объективности, системности и психологизма, позволившие придать работе научный, завершенный характер. Особое внимание уделялось методологии исследования, системному использованию научных методов: конкретного анализа, проблемно-хронологического, ретроспективного, историко-сравнительного, историко-типологического, синтез которых позволил углубленно исследовать проблему, и, в конечном итоге, разрешить поставленные исследовательские задачи. Возросший интерес к теоретическим проблемам истории, публикации исследований общетеоретического характера, развернувшиеся дискуссии, позволили поднять уровень теоретического осмысления проблем адыгской истории Х1Хв., органично вписав их в контекст всеобщей, российской и региональной истории. Данному вопросу в диссертационном исследовании уделено значительное внимание.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в работе:
- впервые предпринята попытка комплексного изучения истории адыгов Х1Хв., как переломного периода, обусловившего процессы трансформации и дифференциации адыгского общества;
- используются общетеоретические положения для построения объяснительных механизмов по отношению к историческим фактам адыгской истории;
- адыгское общество рассматривается как целостная система жизнеобеспечения и функционирования, в которой не существовало объективных причин для «вымывания» значительных групп населения;
- Кавказская война рассматривается как основной фактор, обусловивший дифференциацию адыгского общества; предпринято более широкое толкование категории дифференциации не только как социального, но и явления внесоциальной поляризации, обусловленной экстремальными ситуациями военного противостояния;
- синхронно рассматриваются процессы трансформации адыгского общества в две разные среды - Российскую и Османскую империи.
Практическая значимость работы определяется тем, что изложенный материал, теоретические обобщения и выводы могут быть использованы в научно-исследовательской работе при дальнейшем исследовании проблем российской и адыгской истории, включены в специальные работы по истории эмиграции северокавказских народов и формирования их диаспор. Результаты исследования широко используются автором в практике преподавания предметов национально-регионального компонента, при подготовке общих и специальных учебных лекционных курсов, семинаров, программ и учебных пособий.
Общие выводы данного исследования могут быть учтены при выработке приоритетов и конкретных направлений политики России по взаимодействию с диаспорами, при координации действий различных общественно-политических объединений и движений в регионе по преодолению конфронтационных явлений.
Положения, выносимые на защиту: современный уровень исторического знания, нацеленный на анализ процессов трансформации и дифференциации адыгского общества Х1Хв., обуславливает необходимость создания обобщающего исследования;
- являясь автохтонным народом Северо-Западного Кавказа, адыги к рассматриваемому периоду имели систему жизнеобеспечения, основу которой составляла развитая хозяйственная организация и структура, сложившаяся в результате упорного труда многих поколений, хорошо приспособленная к местным условиям, что позволяет утверждать отсутствие естественных причин для изменения веками осваиваемого жизненного пространства; устойчивость этноса обеспечивалась и регулировалась традиционной соционормативной культурой, ведущим компонентом которой является адыгство (адыгагьэ) - специфическая этическая система, выполняющая функции консолидирующего и морально-нравственного регулятора;
- традиционное для адыгского общества политическое устройство носило в основном демократический характер и обеспечивало реализацию регулятивных функций, нивелировало острые социальные конфликты и не приводило к «вымыванию» крупных групп населения из социальной структуры общества;
- решение внешнеполитических проблем России в ходе Кавказской войны привело к системному кризису адыгского общества: демографическому (резкое сокращение численности адыгского населения в ходе военных действий и последовавшего переселения), разрушению хозяйственного уклада, что вызвало деформации материального и духовного компонентов этнической культуры народа, что и явилось причиной массового переселения народа в пределы другого государства;
- местом размещения адыгской диаспоры стали регионы, входившие в состав Османской империи, что обусловлено рядом факторов, доминирующими среди них являются географический, религиозный и культурно-коммуникативный;
- формирование адыгской диаспоры в Османской империи определялось прежде всего интересами Османского правительства, которое использовало их в четко определенных сферах жизни общества с учетом выработанного веками опыта ведения хозяйства и военных навыков, что наложило отпечаток на характер формирования и развития адыгской диаспоры как этносоциального организма;
- часть адыгов, оставшаяся на исторической родине, несмотря на значительные сложности, вынуждена была вписываться в новую политическую, социально-экономическую и культурную среду Российской империи, что в исторической перспективе имело позитивное значение.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на кафедре отечественной истории Адыгейского государственного университета. Вопросы, связанные с темой исследования освещались автором в сообщениях на международной научной конференции «Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения». Черкесск, 1991; научной конференции «Кавказская война: уроки истории и современность». Краснодар, 1994; заседании Федерации Клубов ЮНЕСКО России. Майкоп, 1994; Всероссийской научно-практической конференции «Северный Кавказ» в условиях глобализации». Майкоп, 2001; Всероссийской научно-практической конференции «Наука - XXI веку». Майкоп, 2003; Всероссийской научно-практической конференции «Кавказская война: уроки истории и современность». Майкоп, 2004; региональной научно-практической конференции «Проблемы гуманитарного развития региона в современных условиях». Майкоп, 2005; а также на втором съезде кавказоведов Ростов-на-Дону, 2006.
Результаты исследования нашли отражение в двух монографиях -«Огнем и железом» (Переселение адыгов в пределы Османской империи 20-70гг. Х1Хв.). Майкоп, 1998; «Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: процессы трансформации и дифференциации». Майкоп,2006, а также в статьях, опубликованных в научных сборниках и журналах. Научно-методические материалы обобщены в разработанном спецкурсе «Актуальные проблемы истории Кавказской войны» в течение многих лет читаемом на всех факультетах Майкопского государственного технологического университета и опубликованных учебно-методических материалах.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложения.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа"
Заключение
Обзор состояния научной разработанности проблемы исследования убедительно показал, что изучены лишь отдельные ее аспекты и проведение обобщающей комплексной работы по истории адыгов Х1Хв. весьма актуально. Логику исследования определило целостное осмысление основных положений теории этноса и диаспоры, объяснительных механизмов и закономерностей функционирования этноса.
Изучение сложной и противоречивой истории адыгов Х1Хв. показало, что ключевым событием изучаемого периода, обусловившим процессы трансформации и дифференциации адыгского общества явилась Кавказская война. В исторической науке на протяжение многих лет преобладали конъюнктурные подходы к оценке событий рассматриваемого периода. Наиболее дискуссионным продолжает оставаться вопрос о причинах массовой эмиграции адыгов. Назван целый комплекс причин и факторов, стимулировавших переселение адыгов.
- Активизация военных мероприятий царского самодержавия, колонизаторская политика царизма, преднамеренное создание условий, делавших невозможным дальнейшее проживание на Кавказе коренных этнических групп, не истребленных полностью в ходе Кавказской войны.
- Провокационная по отношению к горцам и реваншистская по отношению к России политика правящих кругов Турции (пропаганда ислама и религиозного фанатизма, непримиримого отношения к иноверцам), преследовавшая цели колонизации кавказскими переселенцами малозаселенных земель страны, пограничных с Россией, а также земель, заселенных в Османской империи христианскими народами.
- Колонизаторские устремления и происки западных держав (Англии, Франции), во внешнеполитических планах которых, Западный Кавказ занимал особое место.
- Группа причин, связанных со спецификой уклада и общественных отношений горских народов.
Проведенный в исследовании анализ источников позволил выявить основные причины и факторы, расположить их в иерархии объективно отражающей их «весомость», адекватно расставить акценты на причинах адыгской эмиграции.
Ранее выполненные работы по отдельным сторонам исследуемой проблемы истории адыгов Х1Хв. позволили достаточно детально изучить адыгское общество в стационарном состоянии с его целостной системой жизнеобеспечения и функционирования, выявить весь комплекс причин «слома» адыгского общества, изучить характер и методы российской колонизации Северо-Западного Кавказа и особенности формирования адыгской диаспоры.
Адыги, издревле проживавшие на Северо-Западном Кавказе к Х1Хв. имели сложившуюся устойчивую хозяйственную структуру, хорошо приспособленную к местным природно-климатическим условиям, включавшую достаточно развитое земледелие, товарное скотоводство, торговлю. Даже в самые трагические периоды истории, отстаивая свою свободу и независимость, адыги стремились, в первую очередь, сохранить традиционный образ жизни и хозяйствования, передавая из поколения в поколение навыки традиционного использования природных и экономических ресурсов.
Сложившееся народное хозяйство не только обеспечивало адыгское общество всем необходимым, но и позволяло создавать избыточный продукт, развивать и поддерживать относительно высокий уровень товарооборота. При столь разумной и рациональной традиционной системе хозяйствования у адыгов, всерьез утверждать о якобы присущей им потребности в «набегах», «хищничестве», «разбое», можно лишь в целях намеренной фальсификации истории адыгов.
Изменения, происходившие в общественно-политическом устройстве адыгского общества, по своему характеру и направленности, наряду с некоторым своеобразием, отражали характерные для феодализма явления, такие как стремление феодальной знати к укреплению политической власти, тенденции ее централизации, усиление социальных противоречий и антифеодальные выступления крестьян. Однако, в адыгском обществе эти явления носили несколько «сглаженный» характер, уравновешиваясь достаточно устойчивыми демократическими тенденциями и по своему характеру не были направлены на «вытеснение» каких-либо социальных групп из общественной жизни.
Мусульманство, несмотря на его довольно интенсивное распространение на Северо-Западном Кавказе, так и не стало массовой идеологией, способной обеспечить размах мюридизма как религиозного движения, определившим массовое переселение адыгов.
Несравненно большее значение в адыгском обществе имела веками сложившаяся система соционормативного регулирования в сконцентрированном виде выраженная в адыгском морально-правовом кодексе адыгэ-хабзэ и адыгской этике - адыгагъэ. Главное отличительное свойство адыгства как компонента соционормативной культуры заключается в его ориентации на воспроизводство этничности. Именно система ценностей, заложенная в адыгстве, в критические моменты существования этноса способна выступить в роли главного механизма культурной самоорганизации этнического социума. Требования и принципы адыгского этикета реализуют не только социальные функции в жизни общества, но и присущие идеологическим и религиозным системам.
Изучение внешнеполитического положения адыгов показало, что в XIXb. происходило накопление и обострение межгосударственных противоречий, в центре которых оказался Северо-Западный Кавказ. Адыги все более широко вовлекались в сложные международные отношения, но не как равноправные участники, а как «средство» разрешения межгосударственных противоречий. Без согласия адыгов утвердить власть над этой территорией пытались и Турция, и Россия. В противовес международному праву и общественному мнению формулируется положение об особом праве России на «приращивание» своих владений в Северокавказском регионе.
Применение Россией военной силы для утверждения своего господства на Северо-Западном Кавказе не имело под собой реальной правовой базы, так как основывалось на условиях Адрианопольского трактата, непризнанного адыгами. Более того, использование крайне жестоких методов «покорения» Кавказа вызвало раскол в адыгском обществе, усиление протурецких и антирусских настроений.
При этом важно отметить, что адыги стремились сохранить политическую самостоятельность, апеллируя для этого к Англии, Франции, мировому общественному мнению, вступая в переговоры с официальными представителями и военным командованием России и Турции. Но идея «вытеснения» адыгов с их исторической родины стала одной из центральных в планах российского самодержавия на СевероЗападном Кавказе. Именно таким образом предполагалось решить «черкесский вопрос», навсегда избавившись от непокорного населения.
Именно размах военных действий на Северо-Западном Кавказе, колонизаторская политика царизма, планомерное истребление населения, делавшие невозможным дальнейшее проживание на этой территории коренных этносов, способствовали проявлению такого многозначного явления как эмиграция.
Характер войны колониальный со стороны России и национально-освободительный со стороны народов Северного Кавказа обусловил втягивание в непосредственное противостояние подавляющей части населения. Адыги вынуждены были покинуть традиционные места поселений, была разрушена сложившаяся веками система хозяйствования, истощены людские ресурсы.
Все эти обстоятельства обусловили складывание идеи массового переселения. Окончательное оформление эта идея получила в результате крайне радикальной политики царской России на последнем этапе Кавказской войны, нацеленной на освобождение этой территории от народа, не пожелавшего покориться. В этом смысле переселение следует рассматривать как вынужденную реакцию на политику и практику колонизации Северо-Западного Кавказа, т.е. как следствие главной, доминирующей причины из всего комплекса причин: захватнической, колониальной политики царизма, политики русификации окраин.
В значительной степени положение адыгов в Османской империи обусловили массовый характер переселения, сжатость во времени, бедственное положение адыгов, фактически лишившихся всего имущества. Переселение адыгов превращалось в весьма сложную и для Османской империи проблему, усугубившуюся кризисными явлениями, которые в этот период она переживала.
На переселении отрицательно сказалось и то обстоятельство, что ни российское, ни турецкое правительство не имели подкрепленных в финансовом отношении планов переселения. Отсюда проистекали принятые правительством Османской империи чрезвычайные меры: создание специальных переселенческих комитетов, привлечение сил и средств общественных организаций, местного крестьянства.
Более того, срочное и масштабное переселение не воспринималось общественным мнением, что потребовало усилий османского правительства для того, чтобы внедрить в общественное сознание мысль о целесообразности принятия переселенцев.
Использование османским правительством переселенцев в борьбе с центробежными силами в целях сохранения целостности империи вызывало повторные миграции внутри Османской империи, что усугубляло и без того бедственное положение переселенцев, и приводило к еще более большему этническому дроблению целостного народа.
Масштабы адыгской эмиграции создавали чрезвычайную ситуацию, выйти из которой достаточно сложно было бы любому государству. Во многом сложности переселения на первом этапе носили объективный характер. Несмотря на это Османская империя смогла мобилизовать внутренние ресурсы и решить проблему расселения, элементарного обустройства и вовлечения переселенцев в четко определенные сферы деятельности.
Благодаря переселенцам заметно возрос военный потенциал Османской империи, укрепилась государственно-охранительная система.
Значительно превосходя по количеству, оставшихся на исторической родине, в демографическом отношении адыги в Османской империи представляли сомодостаточную для воспроизводства группу и им удавалось сохранять этническую эндогамию. Это способствовало естественному воспроизведению национальных обычаев, традиций, языка, способов производства и ведения хозяйства, т.е. довольно длительному сохранению самобытности этнической группы. Царское правительство препятствовало возвращению адыгов на родину, поэтому обретение новой родины в Османской империи было для них безальтернативным вариантом.
Характер послевоенной колонизации Северо-Западного Кавказа определялся целями царского правительства. Территория была полностью «очищена» от коренного населения, но, как показала практика, государству не просто было освоить обширные пустующие пространства только излишками российского населения. Российское правительство пыталось привлечь единоверных переселенцев из Малой Азии и Балкан. Но главная надежда на поддержания колониального режима в регионе возлагалась на казачество. Это во многом определило характер расселения.
Колонизация проходила крайне неумело. Новые поселенцы испытывали большие трудности в освоении своеобразного и сложного ландшафта. Даже спустя несколько десятилетий никакой преемственности между хозяйством переселенцев и теми его формами, которые господствовали у адыгов, не наблюдалось.
Включение адыгов, оставшихся на родине, в социальную и политико-административную систему Российской империи проходило в сложных условиях пореформенной России. К окончанию Кавказской войны их хозяство было полностью разорено и особенности реформы для адыгов определялись не их внутренним развитием, а экономическим состоянием страны в целом и интересами Российского государства. Непременным условием правительства было переселение на Кубанскую равнину, так как весь берег Черного моря должен был быть занят русским и казачьим населением. По стратегическим соображениям преднамеренно расселенные раздробленно и окруженные цепью казачьих станиц, адыги вынуждены были осваивать низменные и болотистые места.
Земельная реформа, завершившаяся только к началу ХХв. удовлетворяло в основном интересы военно-чиновничьего аппарата и феодалов. Бедственное положение крестьян еще более усугубилось, что вызвало в 70-х гг. Х1Хв. новую волну переселения в Османскую империю. Российское правительство не только не препятствовало, но тайно поощряло это переселение и ни под каким видом не допускало их возвращения в Россию.
Таким образом, события Х1Хв., происходившие на территории Северо-Западного Кавказа, привели к разрыву многовековых культурных традиций адыгского народа, связи с землей предков, с привычным образом жизни, повлекшим за собой глубинные изменения в духовной культуре и психологии. Формы и методы российской колонизации Северо-Западного Кавказа обусловили трансформацию адыгского общества в две разные среды - Османскую и Российскую империи. В итоге произошел искусственный разрыв, дифференциация адыгского общества, обусловленная экстремальными ситуациями военного противостояния.
Тем не менее, следует отметить, что анализ сложного процесса адаптирования адыгов в Османской империи, и оставшейся части в условиях Российского государства подтверждает, что, несмотря на все трудности, они смогли постепенно стать полноценными гражданами стран их проживания, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях народа, его высокой жизнестойкости.
Список научной литературыКудаева, Светлана Григорьевна, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Сборники документов и материалов.
2. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIXbb. / сост. Б.К. Гарданов.- Нальчик, 1974.
3. Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею (АКАК). Т. I-XII / под ред. А. Берже.- Тифлис, 1866-1904.
4. Алексеев, В.В. Антропологические материалы к этногенезу адыгейского народа. Т 3 / В.В. Алексеев // Сб. материалов по археологии Адыгеи.- Майкоп, 1972
5. Балканские народы и европейские правительства в конце XVIII начале XIX вв. / Документы и исследования.- М.,1982.
6. Главани, К. Описание Черкесии / К. Главани // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1893.- Вып. 17.
7. Записки кавказского общества сельского хозяйства.- Тифлис, 1867.
8. Записки кавказского отдела Русского географического общества.-Тифлис, 1906.
9. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIIIbb. / Документы и материалы.- М., 1957.- Т. I. XVI-XVIIbb., Т. И. XVIIIb.
10. Казанов, Х.М. Культура адыгов / Х.М. Казанов.- Нальчик, 1993.
11. Лазарев, М.П. Сборник документов / М.П. Лазарев. М., 1952.
12. Латышев, В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе в 2х т.- / В.В. Латышев; сост. В.М. Аталиков -Нальчик, 1990.
13. Т. I: Греческие писатели,- СПб., 1890.
14. Т. II, вып. I: Латинские писатели. -СПб., 1904; вып. И: Античные источники о Северном Кавказе. СПб., 1906.
15. Латышев, В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе / В.В. Латышев // ВДИ.- 1947.- №3.- С. 271- 272.
16. Мартене, Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами / Ф. Мартене.- СПб., 1895.
17. Материалы по истории покорения Западного Кавказа.-Тифлис,1912.
18. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ).- СПб., 1829.
19. Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы Османской империи (20-70гг. Х1Хв.): сб. архивных документов /сост. Кумыков Т.Х.- Нальчик, 2001.
20. Русско-адыгские торговые связи 1793-1863гг.: сборник документов / сост. Хоретлев А.С., Алферова Т.Д.; под ред. М.В. Покровского и А.С. Хоретлева. -Майкоп, 1957.
21. Сборник Архивного управления Грузинской ССР.- Тбилиси, 1953.
22. Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877-1878 гг. на Балканском полуострове. СПб., 1890.
23. Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура СевероЗападного Кавказа в освещении русских источников 1864-1914: в 2-х т. /сост. С.Х. Хотко. М.: Олма - Пресс, 2005. -416 е.: ил.
24. Трагические последствия Кавказской войны для адыгов (вторая половина XIX начало ХХвв.): сб. документов и материалов / сост. Р.Х. Гугов, Х.А. Касумов, Д.Д. Шабаев.- Нальчик, 2000.
25. Труды Общества земледелия при петербургском университете,-СПб., 1906.
26. Труды съезда деятелей Черноморского побережья Кавказа,- СПб., 1913.
27. Шамиль ставленник Султанской Турции и английских колонизаторов: сб. документ, материалов.- Тбилиси, 1953.
28. Юзефович, Т. Договоры России с Востоком / Т. Юзефович.- СПб., 1869.1.. Статистические сборники и материалы.
29. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа // Путешествия г-на академика И.А. Гюльденштедта через Россию и по Кавказским горам в 1770, 1771, 1772,1773гг.- СПб., 1809.
30. Гербер, И-.Г. Сборник русской истории / И-.Г. Гербер,- СПб., 1760.-Вып. 1-2, ч. IV.
31. Журнал министерства государственных имуществ.- СПб., 1862.
32. Михов, Н. Население то на Турция и България през XVIII-XIXb. Библиографични статистични изследвания Б АН / Н. Михов.- София, 1915-1935.-(на болг. яз.).
33. Новицкий, Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом Адыхе / Г.В. Новицкий // Тифлисские ведомости.-1829.- №22.
34. Новицкий, Г.В. Топографическое описание северной покатости кавказского хребта от крепости Анапы до истока р. Кубани. Записка штабс-капитана Новицкого составлена 15 сентября 1830 / Г.В. Новицкий // Кубанские областные ведомости.- 1884.- №38.
35. Карлгоф, Н.Н. Военно-статистическое обозрение Российской империи / Н.Н. Карлгоф.- СПб., 1853. -T.XVI: Восточный берег Черного моря.
36. Список населенных мест Российской империи.- СПб., 1862. -Т. 41.
37. Теплов, В. Материалы для статистики Болгарии, Фракии и Македонии / В.Теплов.- СПб., 1877.
38. Фарфоровский, С.В. Статистическое географическое описание Майкопа и Майкопского отдела / С.В. Фарфоровский // Сб. материалов для описания местностей и племен Кавказа. -Тифлис, 1910.- Вып. 41.
39. I. Документы и материалы архивов.
40. Архив Внешней политики России (АВПР).
41. Ф. Главный архив. 1-9. Оп.8. Д.19,30.; 11-3. Д.342;
42. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1709., 2601, 3740.;
43. Ф. Политархив. Оп. 482. Д.783;
44. Ф. Трактаты. Оп. 466. Д. 1414;
45. Ф. Турецкий стол (старый). Оп. 502а. Д.4462., 4464., 4467., 4468;
46. Ф. Азиатский департамент. Оп. 729. Д. 398.
47. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
48. Ф. Военно-ученого архива Главного управления Генерального штаба (ВУА). Д. 116., 5952, 5953, 6259, 6312, 6324, 6327, 6380, 6485, 6581, 6642.
49. Ф. Канцелярии департамента Генерального штаба. 37.Д.5, 38, 5, 7192.
50. Ф. 38. Оп. 7. Д. 410; Оп. 30/286. Св. 869. Д. 4.; Оп. 30/286. Св. 880. Д. 21; Д. 16.
51. Ф. Главного штаба. (2000). On. 1. Д. 100.
52. Ф. 400. Оп. Азиат, часть. Д.8.; Оп. 263/ 916а. Д. 1. Центральный Государственный архив Российской Федерации1. ЦГАРФ).
53. Ф. 677. Материалы по Кавказу. Д.511.
54. Центральный государственный исторический архив Республики1. Грузия1. ЦГИАРГ).
55. Ф. 1083. Штаба войск Кавказской линии и Черноморья. Оп. 2. Д. 281.; Оп.З. Д. 179; Оп. 6. Д. 677.
56. Ф. 416. Кавказской Археографической Комиссии. Оп. 3. Д. 118, 154, 156, 221,249,1096,1097.
57. Ф. 545. ОП. 1. Д. 86., 20069., 2073.
58. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК).
59. Ф. 249. Канцелярии войсковых наказных атаманов Черноморского казачьего войска. Оп.1. Д. 862.; Св. 83. Д. 1065.
60. Ф. 252. Войскового управления Кубанского казачьего войска. Оп. 2. Д. 1088., 1089.
61. Ф. 261. Канцелярии начальника Черноморской кордонной линии. On. 1. Д. 85,677., 890.
62. Ф. 324. Екатеринодарской карантиной конторы. On. 1. Д. 63.,66., 625.
63. Ф. 347. Штаба начальника Лабинской кордонной линии. Оп.2. Д.31, 45.
64. Ф. 389. Управления Натухайского военного округа. On. 1. Д. 39.
65. Ф. 454. Канцелярии начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска. Оп. 2. Д. 593.
66. Ф. 774. Канцелярии помощника начальника Кубанской области по управлению горцами. 1865-1870. On. 1. Д. 372.
67. Национальный архив Республики Адыгея (НАРА).
68. Ф. 8. Хакуриновское аульное правление. On. 1. Д. 7.
69. Ф. 21. Бжегокаевское аульное правление. On. 1. Д. 37., 123., 194., 230., 271.1.. Мемуарная литература.
70. Архив Раевских,- СПб., 1910.
71. Архив на Г.С. Раковски.- София, 1966.- T.III.
72. Бестужев-Марлинский, А.А. Кавказские очерки / А.А. Бестужев-Марлинский.- СПб., 1838.
73. Бороздин, К.А. Закавказские воспоминания / К.А.Бороздин.- СПб., 1885.
74. Верещагин, А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу / А.В Верещагин,-М., 1874.
75. Владыкин, М. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу / М. Владыкин.- М., 1874.
76. Дукмасов, П. Воспоминания о русско-турецкой войне 1877-1878гг. и М.Д. Скобелеве ординарца его Петра Дукмасова / П. Дукмасов. СПб., 1889.
77. Записки А.П. Ермолова. -М., 1868.
78. Записки Михаила Чайковского. Русская старина.- М.,1900.
79. Jlopep, Н.И. Записки декабриста / Н.И. Лорер.- М., 1931.
80. Лорер, Н.И. Записки моего времени. Воспоминания о прошлом / Н.И. Лорер // Мемуары декабристов.- М., 1888.
81. Муравьев, Н.Н. Записки / Н.Н. Муравьев // Русский архив,- 1877.
82. Осман-бей. Воспоминания 1855г. События в Грузии и на Кавказе // Кавказский сборник.- 1977. -Т.Н.
83. Торнау, Ф.Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Ф.Ф. Торнау // Русский вестник. -1869.- Т.79.
84. Торнау, Ф.Ф. Воспоминания царского офицера. 4.1. 1835, ч.Н. 1836, 1837 и 1839гг. / Ф.Ф. Торнау.- М.; СПб., 1864.
85. Фадеев, Р. Письма с Кавказа редактору газеты «Московские ведомости» / Р. Фадеев.- СПб., 1865.
86. Федоров, М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 / М.Ф. Федоров // Кавказский сборник.- Тифлис, 1879.- Т. III.
87. Филипсон, Г.И. Известия из Черномории / Г.И. Филипсон // Кавказ.-1855.-№99.
88. Филипсон, Г.И. Воспоминания. Кн. 6. / Г.И. Филипсон // Русский архив.- 1883.
89. Цирульников, А. На старом пепелище черкесов-абадзехов (Путевые заметки) / А. Цирульников // Мусульманин.- Париж.- 19Ю.-№11,12.
90. V. Общие исследования, монографии, статьи, диссертации.
91. Абаев, В.И. Историко-этнографический словарь осетинского языка / Абаев В.И.- М.;Л., 1958.- Т. I.
92. Абдуллаева, М.И. Переселение дагестанцев в Османскую империю во второй половине XIX начале XX века (причины и последствия): дис. канд. ист. наук / АбдуллаеваМ.И.- Махачкала, 1999.
93. Абрамов, Я.В. Кавказские горцы / Я.В.Абрамов.- Краснодар, 1927.
94. Авакян, А.В. Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX- первая четверть ХХвв.) / А.В. Авакян.- Ереван, 2001.
95. Авраменко, A.M. Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма / A.M. Авраменко, О.В.Матвеев, П.П.Матюшенко, В.Н. Ратушняк // Материалы науч. конф. 16-18 мая 1994 г.- Краснодар, 1995.
96. Агрба, Б.С. «Островная» цивилизация Черкесии: Черты историко-культурной самобытной страны адыгов / Б.С. Агрба, С.Х. Хотко.-Майкоп, 2004. -48с.
97. Адамов, Е. Из истории иностранной агентуры во время Кавказской войны / Е.Адамов, Л. Кутаков // Вопросы истории.-1950.- №11.
98. Адыгея. Историко-культурный очерк / отв. ред. Э.А. Шеуджен.-Майкоп, 1989.-136с.
99. Алексеева, Е.П. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии (вопросы этнического и социально-экономического развития) / Е.П.Алексеева. М., 1971.
100. Алексеева, Е.П. Очерки по экономике и культуре народов Черкесии в XVI-XVIIbb. / Е.П. Алексеева.- Черкесск, 1957.
101. Алексеев, В.П. Происхождение народов Северного Кавказа. Краниологическое исследование. / В.П. Алексеев.- М., 1974.
102. Алиев, Б.Г. Союзы сельских общин Дагестана в ХУ111 первой половине XIX в. / Б.Г.Алиев.- Махачкала, 1999.
103. Анфимов, Н.В. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа / Н.В. Анфимов // Северный Кавказ в древности и средние века.-М., 1980.
104. Анчабадзе, З.В. История и культура Древней Абхазии / З.В. Анчабадзе.-М., 1964.
105. Анчабадзе, З.В. Очерк этнической истории абхазского народа / З.В. Анчабадзе.- Сухуми, 1976.
106. Арутюнов, С.А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества / С.А. Арутюнов, Н.Н. Чебоксаров // Расы и народы.- М., 1972.- Вып. 2.
107. Арутюнов, С.А. Этничность объективная реальность / С.А. Арутюнов // Этнографическое обозрение. -1995.- №5.
108. Арутюнов, С.А. Диаспора это процесс / С.А. Арутюнов // Этнографическое обозрение.- 2000. -№2.
109. Арутюнов, С.А. Проблемы типологического исследования механизмов жизнеобеспечения в этнической культуре / С.А. Арутюнов, Ю.И. Мкрутумян // Типология основных элементов традиционной культуры. М., 1985.
110. Арутюнян, Ю.В. Этносоциология. / Ю.В. Арутюнян, JI.M. Дробижева, А.А. Сусоколов.- М., 1998.
111. Алиев, Г.З. Турция в период правления младотурок / Г.З.Алиев.-М.,1972.
112. Алиев, У. Адыгея / У.Алиев, В.Городецкий, С. Сиюхов.- Ростов-н/Д, 1927.
113. Анфимов, Н.В. Древнее золото Кубани / Н.В. Анфимов.-Краснодар, 1987.
114. Аталиков, В.М. Страницы истории / В.М. Аталиков.-Нальчик, 1987.
115. Аутлев, М.Г. Слово о правде истории. (Трагедия адыгов в XIXb.) / М.Г. Аутлев.- Майкоп, 1993.
116. Аутлев, М. Историко-этнографический очерк / М. Аутлев, Е. Зевакин, А. Хоретлев.- Майкоп, 1957.
117. Афанасьев, В.Г. О системном подходе в социальном познании / В.Г. Афанасьев // Вопросы философии.- 1973.- №6.
118. Бабаков, В.Г. Кризисные этносы / В.Г. Бабаков.- М., 1993.
119. Багиров, М.Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля / М.Д. Багиров // Большевик.- 1950.- №13.
120. Бадерхан, Ф. Северокавказская диаспора в Турции, Сирии, Иордании (вторая половина XIX первая половина ХХв.) / Ф. Бадерхан,-М., 2001.
121. Балканские страны в новое и новейшее время.- Кишинев, 1977.
122. Басария, С.П. Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отношениях / С.П. Басария. Сухуми, 1923.
123. Башенев, Н. Пятидесятилетие покорения Западного Кавказа и окончания Кавказской войны / Н. Башенев,- Тифлис, 1914.
124. Бгажноков, Б.Х. Адыгская этика / Б.Х. Бгажноков.- Нальчик, 1999.
125. Белл, Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1873, 1838, 1839 / Дж. Белл //АБКИЕА.- Нальчик, 1974.
126. Беляев, Н.И. Русско-турецкая война 1877-1878гг. / Н.И. Беляев,- М., 1956.
127. Берже, Ад. П. Выселение горцев с Кавказа / Ад. П. Берже // Русская старина.- СПб., 1832.
128. Бестужев, И.В. Крымская война 1853-1856гг. / И.В.Бестужев.- М., 1956.
129. Бетрозов, Р. Происхождение и этнокультурные связи адыгов / Р. Бетрозов. -Нальчик, 1991.
130. Бижев, А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис Восточного вопроса в конце 20-х начале 30-х гг. Х1Хв./ А.Х. Бижев.- Майкоп, 1994.
131. Блаватский, В.Д. Воздействие античной культуры на страны Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский // СА.- 1964.- №2.
132. Блиев, М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность / М.М. Блиев // История СССР.- 1983.- №2.
133. Блиев, М.М. К проблеме общественного строя горских («вольных») обществ Северо-Западного Кавказа в XVIII-первой половине Х1Хв. / М.М. Блиев // История СССР.- 1989.- №4.
134. Блиев, М.М. О времени присоединения народов Северного Кавказа к России / М.М. Блиев // Вопросы истории. -1970.- № 7.
135. Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. -М., 1994.
136. Бобровский, П. Император Александр II и его первые шаги к покорению Кавказа / П. Бобровский // Военный сборник.- 1882.-T.XXXIII.
137. Богданович, М.И. Восточная война 1853-1856гг./ М.И. Богданович.-СПб., 1878.
138. Богданович, М.И. Исторический очерк деятельности Военного управления в России в первое двадцатипятилетние благополучного царствования государя императора Александра Николаевича (1855-1880) / М.И.Богданович. -СПб., 1879-81.
139. Болгаро-российские общественно-политические связи: 50-70гг. Х1Хв.-Кишинев. 1986.
140. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В. Бромлей. М., 1983.
141. Бромлей, Ю.В. О соотношении предметных областей этнографии, истории и социологии / Ю.В. Бромлей, О.И. Шкаратан // Советская этнография.- 1979. -№4.
142. Броневский, С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе / С.М. Броневский. М.,1923.
143. Бутковский, Я.Н. Сто лет австрийской политике в Восточном вопросе / Я.Н. Бутковский.- СПб., 1888.
144. Бухаров, Д. Россия и Турция / Д. Бухаров.- СПб., 1878.
145. Бушуев, С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России в 20-70 гг. XIX в./ С.К. Бушуев.- М., 1955.
146. Бушуев, С.К. О кавказском мюридизме / С.К. Бушуев // Вопросы истории.- 1956.-№ 12.
147. Бэрзэдж, Н. Изгнания черкесов / Н. Бэрзэдж.- Майкоп, 1996.
148. Васильев, Е. Черноморская береговая линия / Е. Васильев // Военный сборник.- 1874.- №9.
149. Васильев, A.M. Мост через Босфор / A.M. Васильев.- М., 1979.
150. Васильев, JI.C. История Востока / JI.C. Васильев.- М., 1993.
151. Венюков, М.И. Очерк пространства между Кубанью и Белой / М.И. Венюков.- СПб., 1863.
152. Верещагин, А.В. Путевые заметки по Черноморскому округу / А.В.Верещагин. М., 1874.
153. Волкова, Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа / Н.Г.Волкова. М., 1973.
154. Гагемейстер, Ю. О европейской торговле в Турции и Персии / Ю. Гагемейстер.- СПб., 1838.
155. Гаджиев, В.Г. Движение кавказских горцев под руководством Шамиля в исторической литературе / В.Г.Гаджиев. Махачкала, 1956.
156. Гаджиев, В.Г. Роль России в истории Дагестана / В.Г. Гаджиев.- М., 1965.
157. Гаджиев, В.Г. Социально-политические корни народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни в первой половине XIX в / В.Г. Гаджиев // Наука Дагестана сегодня: уровень и масштабы поиска. Махачкала, 1998.
158. Гаджиев, В.Г. Нерешенные и спорные вопросы истории Кавказской войны / В.Г. Гаджиев // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы: тезисы докл. междунар. науч. конф.- Махачкала, 1998.
159. Гаджиев, В.Г. Великие русские революционные демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни / В.Г. Гаджиев, A.M. Пикман.- Махачкала, 1972.
160. Гарданов, В.К. Общественный строй адыгских народов / В.К. Гарданов.- М.,1967.
161. Гардилевский, В.А. Бахауддин Накшбенд Бухарский / В.А. Гардилевский // Избр. соч.- М., 1962.- Т. III.
162. Гастарян, М.А. Очерки истории Турции / М.А. Гастарян.- М., 1983.
163. Генко, А.Н. О языке убыхов / А.Н. Генко // Известия АН СССР.- Л., 1928.-( VII. серия, отд. Гуманитарных наук).
164. Генерал Вельяминов и его значение для истории Кавказской войны // Кавказский сборник.- Тифлис, 1883.- Т.7.
165. Герко, И. Что нужно для развития хозяйства за Кубанью? / И. Герко //КВВ. -1869.- №10.
166. Герцен, А.И. Письмо Джузеппе Маццини о современном положении России / А.И. Герцен // Соч. Т. XII.- М.,1968.
167. Герцен, А.И. Русский заговор 1825 года. Извлечено из «Бюллетеня международной ассоциации» / А.И. Герцен // Соч. Т. XIII.-M., 1969.
168. Грабовский, Н. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость / Н. Грабовский // Сборник сведений о кавказских горцах.-Тифлис, 1876. -Вып. 9.
169. Гюнвеч, Бозкурт Школа Эндерун и воспитание янычар // Педагогика народов мира. История и современность / Бозкурт Гюнвеч.-М., 2001.
170. Давидович, В.Е. Этнические и региональные факторы в формировании культуры юга России / В.Е. Давидович, С.Я. Сущий // Цивилизации и культуры. -М., 1996.- Вып.З: Россия и Восток. Геополитика и цивилизационные отношения.
171. Даниялов, Г.Д. О движении горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля / Г.Д. Даниялов // Вопросы истории.- 1966.- № 10.
172. Даниялов, Г.Д. Этапы развития национально-освободительной борьбы горцев / Г.Д. Даниялов // Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20-50гг. Х1Хв.: всесоюзная науч. конф. 20-22 июня 1989: тез. докл. и сообщений.- Махачкала, 1989.
173. Дебидур, А. Восточный вопрос. История XIX в. T.IV. / А. Дебидур.-М., 1947.
174. Де Монпере Ф. Дюбуа. Путешествия вокруг Кавказа / Де Монпере Ф. Дюбуа.- Сухуми, 1937.- Т.1.- С.68.
175. Джимов, Б.М. Крестьянское движение в Адыгее в XIX веке (до 1876г.): автореф. дисс. канд. ист. наук/ Джимов Б.М.-. Майкоп, 1967.
176. Джимов, Б.М. Общественный строй дореформенной Адыгеи в 18001868гг. / Б.М. Джимов // Ученые записки. Адыгейский НИИ языка, литературы и истории. История, этнография, археология.- Майкоп, 1970.-T.XI.
177. Джимов, Б.М. Крестьянское движение в дореформенной Адыгее 1793-1868гг. / Б.М. Джимов // Ученые записки Адыгейского научноисследовательского института экономики, языка, литературы и истории.-Майкоп, 1970. -T.XI
178. Джимов, Б.М. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в Х1Хв. / Б.М. Джимов.- Майкоп, 1986.
179. Дзагуров, Г.П. Переселение горцев: материалы по истории горских народов / Г.П. Дзагуров. Ростов-н/Д, 1925.
180. Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия / Г.А. Дзидзария.- Сухуми, 1975.
181. Добролюбов, Н.А. О значении наших последних подвигов на Кавказе / Н.А.Добролюбов.- Соч. T.IV.- М.,1937.
182. Дубровин, Н.Ф. Восточная война 1853-1856 годов / Н.Ф.Дубровин.-СПб., 1878.
183. Дубровин, Н.Ф. История войны и владычества России на Кавказе / Н.Ф.Дубровин.- СПб., 1888.
184. Дубровин, Н.Ф. Обзор войны России от Петра Великого до наших дней / Н.Ф.Дубровин.- СПб., 1896.
185. Дубровский, Д.И. О специфике философской проблематики / Д.И. Дубровский // Вопросы философии.-1973.- №6.
186. Духовский, С. Даховский отряд на южном склоне Кавказских гор в 1861 году / С. Духовский.- СПБ., 1864.
187. Дьячков-Тарасов, А.Н. Абадзехи. (Историко-этнографический очерк) / А.Н. Дьячков-Тарасов // ЗКОРГО,- Тифлис, 1902.- Кн.ХН, вып.4.
188. Дьячков-Тарасов, А.Н. Несколько слов о заселении Цебельды / А.Н. Дьячков-Тарасов//Кавказ.- 1868.-№ 129.
189. Дьячков-Тарасов, А.Н. Мамхеги / А.Н. Дьячков-Тарасов // ИКОРГО.- Тифлис, 1901.-Т. XIV.
190. Дьячков-Тарасов, А.Н. Черноморская кордонная, Черноморская береговая линии и правый фланг Кавказа перед Восточной войной 1553г. / А.Н. Дьячков-Тарасов // Кубанский сборник.- Екатеринодар,1904. -Т. 10.
191. Еремеев, Д.Е. Этногенез турок (происхождение и основные этапы этнической истории) / Д.Е. Еремеев.- М., 1971.
192. Жигарев, С. Русская политика в Восточном вопросе / С.Жигарев.-М., 1896.
193. Заринов, И.Ю. Время искать общий язык (проблема интеграции различных этнических теорий и концепций) / И.Ю. Заринов // Этнографической обозрение. -2000.- №2.
194. Залесский, С.А. Русская война на Балканах в 1877-1878гг. / С.А. Залесский // Вопросы истории.- 1972.- №12.
195. Зайончковский, A.M. Восточная война 1853-1856гг. в связи с современной политической обстановкой. T.I. / A.M. Зайончковский.-СПб.,1908.
196. Зеленчук, B.C. Население Бессарабии и Поднестровья в XIXb. / B.C. Зеленчук.- Кишинев, 1979.
197. Зиссерман, A.JI. Фельдмаршал князь А.И. Барятинский / A.JI. Зиссерман.- М., 1890.
198. Ибрагимбейли, Х.М. Кавказ в Крымской войне 1853-1856гг. и международные отношения / Х.М. Ибрагимбейли.- М., 1971.
199. Иларионова, Т.С. Этническая группа: генезис и проблемы самоидентификации. (Теория диаспоры) / Т.С.Иларионова.- М., 1994.
200. Инал-Ипа, Ш.Д. Абхазы / Ш.Д. Инал-Ипа.- Сухуми, 1965.
201. Инал-Ипа, Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов / Ш.Д. Инал-Ипа. Сухуми, 1976.
202. Интериано, Д. Быт и страна зихов, именуемых черкесами / Д. Интериано // АБКИЕА.- Нальчик, 1974.
203. Иоаннисян, А.Р. Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале XIX столетия / А.Р. Иоаннисян.-Ереван, 1958.
204. Иссен, А.А. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового века / А.А. Иссен // МИА СССР.- 1951.- №23.
205. История Болгарии: в 2-х т. T.I.- М., 1954.
206. История дипломатии. М., 1959. -T.I.
207. История Кабардино-Балкарской АССР.- М.,1967.
208. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIIIb. / под ред. A.JI. Нарочницкого.- М.,1988.-659с.
209. История народов Северного Кавказа (конец XVIII- 1917г.) / под ред. АЛ. Нарочницкого.- М., 1988.-659с.
210. Кавказская война: уроки истории и современность: материалы науч. конф. 16-18 мая 1994г.- Краснодар, 1995.
211. Кажаров, В.Х. Адыгская хаса. Из истории сословно-представительных учреждений феодальной Черкесии / В.Х. Кажаров.-Нальчик, 1992.
212. Каламбий Адыль-Гирей Кешев // Записки Черкеса. Повести, рассказы, очерки, статьи, письма.- Нальчик, 1988.
213. Кандур, М. Мюридизм. История кавказских войн 1819-1859гг. / М. Кандур,- Нальчик, 1996.
214. Канитц, Ф. Кавказ на Балканах / Ф. Канитц // Всемирный путешественник.- СПб., 1876.
215. Кануков, И. Горцы переселенцы / И. Кануков.- Этнографические очерки.-ССКГ. 1876. -ВыпЛХ.
216. Канитц, Ф. Дунайская Болгария и Балканский полуостров. Исторические, географические и этнографические путевые наблюдения 1860-1875 гг. / Ф. Канитц.- СПб., 1876.
217. Карлаиль, Мак-Коан. Наш новый протектор. Описание географических, этнографических и экономических свойств Турецкой Азии / Карлаиль Мак-Коан.- М., 1884,- T.I.- С. 115.
218. Карлгофф, Н.И. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих Северо-Восточный берег Черного моря / Н.И. Карлгофф // Русский вестник.- М., I860.- Т. 28.
219. Карлаиль, Мак-Коан. Наш новый протектор. Описание географических, этнографических и экономических свойств Турецкой Абхазии / Карлаиль Мак-Коан.- М., 1984.
220. Касумов, А.Х. К истории агрессивной политики Англии и Турции на Северном Кавказе в 30-х 60-х гг. XIX в.: дисс. д-ра ист. наук / Касумов А.Х.-. М., 1955.
221. Касумов, А.Х. Две судьбы / А.Х. Касумов.- Нальчик, 1967.
222. Касумов, А.Х. Геноцид адыгов / А.Х. Касумов, Х.А. Касумов.-Нальчик,1992.
223. Керашев, А. Социально-экономическое и внешнеполитическое положение черкесии в XVIII начале 60-х гг. Х1Хв. / А. Керашев // Адыгея. Историко-культурный очерк.- Майкоп, 1989.
224. Керашев, А.Т. Русско-адыгейские отношения в XYTII начале 60-х годов XIX в. переходы адыгов в Россию: дисс. канд. ист. наук / Керашев А.Т.-М., 1987.
225. Керашев, А.Т. История Адыгеи / А.Т. Керашев, А.Ю. Чирг.-Майкоп, 1991.
226. Керашев, Ан. Политическая деятельность Сефер-бея Заноко в годы Кавказской войны / Ан. Керашев // Россия и Черкесия.- Майкоп, 1995.
227. Киняпина, Н.С. Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского договора 1856г. / Н.С. Киняпина // Вопросы истории.-1972.-№8.
228. Киняпина, Н.С. Внешняя политика России первой половины XIX в./ Н.С. Киняпина.- М., 1963.
229. Киняпина, Н.С. Внешняя политика России второй половины Х1Хв./ Н.С. Киняпина.- М., 1974.
230. Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, В.В. Дегоев.- М., 1984.
231. Ковалевский, М.М. Закон и обычай на Кавказе. T.I-II. / М.М. Ковалевский.- М., 1890;
232. Коган, М.С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) /М.С. Коган.-М., 1974.
233. Козлов, В.И. О понятии этнической общности / В.И. Козлов // Советская этнография. -1962.- №3.
234. Козлов, В.И. Основные проблемы этнической экологии / В.И. Козлов // Советская этнография.- 1983.- №1.- С. 8.
235. Козлов, В.И. Проблема этнического самосознания и ее место в истории этноса / В.И. Козлов // Советская этнография.- 1974. -№2.
236. Кокиев, Г.А. Военно-колонизационная политика царизма на Северном Кавказе / Г.А. Кокиев // Революция и горец.- Ростов н/Д., 1929. -№4, 5, 6.
237. Косвен, М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке. КЭС. T.I. / М.О. Косвен.- М., 1955.
238. Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа / М.О. Косвен.- М., 1961.
239. Кох, Карл. Путешествие по России и Кавказские земли / Кох Карл. //АБКИЕА.- Нальчик,1974.
240. Клинген, И. Основы хозяйства в Сочинском округе / И. Клинген.-СПб., 1897.
241. Климов, Г.А. Введение в Кавказское языкознание / Г.А.Климов.- М., 1986.-С.8.
242. Краткая история Болгарии с древнейших времен до наших дней.-М., 1987.
243. Крупнов, Е.В. Древняя история Северного Кавказа / Е.В.Крупнов. -М., 1960.
244. Крупнов, Е.В. Древняя история и культура Кабарды / Е.В. Крупнов // ДДИ. -1966.- №2.
245. Крупник, И.И. Арктическая этноэкология / И.И.Крупник.- М., 1990.
246. Культура и быт адыгов: Этнографические исследования. Вып.УП.-Майкоп, 1991.-280с.
247. Кумыков, Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок / Т.Х. Кумыков.- Нальчик, 1962.
248. Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения. (Материалы междунар. науч. конф.).- Черкесск, 1993.
249. Кудаева, С.Г. Огнем и железом. Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю (20-70-е гг. Х1Хв.) / С.Г. Кудаева.- Майкоп, 1998.
250. Кудаева, С.Г. О некоторых стереотипах в оценке роли Османской империи в судьбе адыгов черкесов в период Кавказской войны / С.Г. Кудаева // Материалы науч. конф. 16-18 мая 1994г.- Краснодар, 1995.
251. Культура и быт адыгов (Этнографические исследования) / отв. ред. М.А. Меретуков, JI.T. Соловьева.- Майкоп, 1991.- Вып. VIII.
252. Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблема изучения (по материалам междунар. науч. конф. 14-19 октября 1991г., Черкесск).-Черкесск, 1993.
253. Кумыков, Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок / Т.Х. Кумыков,- Нальчик, 1962.
254. Кумыков, Т.Х. Выселение адыгов в Турцию последствие Кавказской войны / Т.Х. Кумыков. - Нальчик, 1994.
255. Кумыков, Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в Х1Хв. / Т.Х. Кумыков.- Нальчик, 1965.
256. Куценко, И .Я. Кавказская война и проблемы преемственности политики на Северном Кавказе / И.Я. Куценко.- Материалы науч. конф. 16-18 мая 1994г.- Краснодар, 1995.
257. Кушхабиев, А.В. Черкесы в Сирии / А.В. Кушхабиев.- Нальчик, 1993.
258. Кушхабиев, А.В. Черкесская диаспора в арабских странах (XIX-ХХвв.) / А.В. Кушхабиев.- Нальчик, 1997.
259. Лабанов-Ростовский, М.Б. Начало мюридизма на Кавказе / М.Б. Лабанов Ростовский // Русский архив. - М., 1865.
260. Лавров, Л.И. О происхождении народов Северного Кавказа / Л.И. Лавров // Сборник статей по истории Кабарды.- Нальчик, 1954.
261. Лавров, Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа / Л.И. Лавров.- Л., 1978.
262. Лавров, Л.И. Из поездок в Черноморскую Шапсугию летом 1930г. / Л.И. Лавров // Советская этнография.- 1936.- №4,5.
263. Лавров, Л.И. Развитие земледелия на Северо-Западном Кавказе с древнейших времен до середины XVIIIb. / Л.И. Лавров // Материалы по истории земледелия СССР.- М., 1952.
264. Лавров, Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа / Л.И. Лавров.-Л., 1978.
265. Лавров, Л.И. Попытка образования государства на Северо-Западном Кавказе в 1860-е гг. / Л.И. Лавров // Краткое содержание докладов среднеазиатско кавказских чтений. -Л., 1980.
266. Лайпанов, Х.О. К истории переселения горцев Северного Кавказа в Турцию / Х.О. Лайпанов // Труды Карачаево-Черкесского научноисследовательского института истории языка и литературы.- Ставрополь, 1966. -Вып.У.
267. Лебедева, М.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / М.М. Лебедева. М.: Изд. дом Ключ-С, 1999.
268. Левин, З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ) / З.И. Левин. М., 2001.
269. Леднев, B.C. Научное образование. / B.C. Леднев.- М., 2002.
270. Леонтович, Ф.И. Адаты кавказских горцев / Ф.И. Леонтович. -Одесса, 1882.- Вып.1.
271. Лилов, А. Последние годы борьбы русских с горцами на Западном Кавказе / А. Лилов // Кавказ.- 1867.- № 18.
272. Личков, Л.С. Очерки из прошлого и настоящего Черноморского побережья / Л.С. Личков. Киев, 1904.
273. Лонгворт, Дж. Год среди черкесов // АБКИЕА / Дж. Лонгворт,-Нальчик,1974.
274. Лопатинский, Л.Г. Заметки о народе адыге вообще и кабардинцах в частности / Л.Г. Лопатинский // СМОМПК.- 1897.- Вып.ХН.122.
275. Лурье, С.В. Историческая этнология / С.В. Лурье.- М., 1997.
276. Люлье, Л.Я. Общий взгляд на страны, занимаемые горскими народами, называемыми черкесами (адыге), абхазцами (азега) и другими смежными с ними / Л.Я. Люлье.- Тифлис, 1857.
277. Люлье, Л.Я. Черкесия / Л.Я. Люлье.- Краснодар, 1927.
278. Люлье, Л.Я. Черкесия: историко-этнографические статьи / Л.Я. Люлье.- Краснодар, 1927.
279. Магомеддадаев, A.M. Дагестанская диаспора в Турции и Сирии: генезис и проблемы ассимиляции: дис. канд. ист. наук / Магомеддадаев A.M.- Махачкала, 1997.
280. Магомеддадаев, A.M. Кавказское махаджирство / A.M. Магомеддадаев //Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения.- Черкесск, 1993.
281. Магомедов, М.Б. Историко-правовые аспекты кавказской войны 20 50-х годов XIX века / М.Б.Магомедов.- М., 2000.
282. Магомедов, P.M. Шамиль в отечественной истории / P.M. Магомедов.- Махачкала, 1990.
283. Магомедов, P.M. Два столетия с Шамилем / P.M. Магомедов.-Махачкала, 1997.
284. Магомедханов, М.М. Дагестанцы в Турции / М.М. Магомедханов .Махачкала, 1997.
285. Марковин, В.И. Дольменная культура и вопросы раннего этногенеза абхазо-адыгов / В.И. Марковин.- Нальчик, 1974.
286. Марковин, В.И. Дольмены Западного Кавказа / В.И. Марковин.- М., 1978.
287. Марковин, В.И. Очерк изучения дольменов Прикубанья и Причерноморья / В.И. Марковин // Сборник материалов по археологии Адыгеи.- Майкоп, 1972.
288. Маркс, К. Лорд Пальмерстон / К. Маркс // Соч.- М., 1957.-T.IX.
289. Марр, Н.Я. История термина «абхаз» / Н.Я. Марр // Известия императорской Академии наук.- СПб., 1912. -№11.
290. Марр, Н.Я. Кавказские племенные названия и местные параллели / Н.Я. Марр.- Пг., 1922.
291. Маргграф, О.В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа / О.В. Маргграф.- СПб., 1882.
292. Марьини Тебу де Жак- Виктор- Эдуард. Путешествие в Черкессию / Марьини Тебу де Жак- Виктор- Эдуард.-. Одесса; Симферополь, 1836.
293. Матвеев, В.А. К вопросу о последствиях Кавказской войны и вхождения северокавказских народов в состав России / В.А. Матвеев // Материалы науч. конф. 16-18 мая 1994г.- Краснодар, 1995.
294. Медведева, О.В. Российская дипломатия и эмиграция болгаркого населения в 1830-е годы / О.В. Медведева // Советское славяноведение,-1988.-№4.
295. Меликишвили, Г.А. Возникновение хеттского царства и проблема древнейшего населения Закавказья и Малой Азии / Г.А. Меликишвили // ВДИ.- 1965.- №1.
296. Мелконян, Э. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере армянского рассеяния) / Э. Мелконян // Диаспоры.- М., 2000,-№1,2.
297. Мининков, Н.А. Методология истории / Н.А. Мининков,- Ростов н/Д., 2004.
298. Муравьев, Н.Н. Война за Кавказом в 1855г / Н.Н.Муравьев.- СПб., 1877.
299. Мусаев, М.А. Мусульманское духовенство 60 70-х годов XIX века и восстание 1871 года в Дагестане / М.А.Мусаев.- Махачкала, 2005.
300. Мусаева, М.К. Дагестанская диаспора в Турции. Историко -этнографические очерки / М.К. Мусаева, A.M. Магомеддадаев, М-З.Ю. Курбанов.- Махачкала, 1999.
301. Мустафа, Кемаль Путь новой Турции / Кемаль Мустафа.- М., 1932.
302. Налчаджян, А.А. Этнопсихология / А.А. Налчаджян.- СПб.: Питер, 2004.
303. Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства: материалы всесоюзной науч.-практ. конф. 24-26 октября 1990г.- Нальчик, 1994.
304. Народы Турции. Двадцать лет пребывания среди болгар, греков, турок, албанцев и армян дочери и жены консула. СПб., 1879.
305. Невская, В.П. Проблемы сельской общины у горских народов Северного Кавказа в советском кавказоведении / В.П. Невская // Изв. СКНЦВШ. Обществ, науки. -1985.- №1.
306. Нессельроде, К.В. Защита политики России и положения, принятого ею в Европе / К.В. Нессельроде // Русская старина. -1873.- №11.
307. Нечкина, М.В. О статье Добролюбова «О значении наших последних подвигов на Кавказе» / М.В. Нечкина // Вопросы истории.-1947.-№ 11.
308. Ногмов, Ш.Б. История адыгейского народа / Ш.Б. Ногмов.-Нальчик, 1958.
309. Ногмов, Ш.Б. История адыгейского народа / Ш.Б. Ногмов. Тифлис, 1861.
310. Обсуждение вопроса о характере движений горских народов Северного Кавказа в 20-50х гг. Х1Хв. // Вопросы истории. 1956.- №12,-С. 123.
311. Озбек, Б. Черкесские нартские сказания / Б. Озбек,-Гейдельберг,1982.
312. Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957.
313. Очерки Истории Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1967.
314. Павловский, С.В. Газета В.С.Раковского "Дунавски лебед» как источник по истории болгарского национально-освободительного движения начала 60-х годов XIX в.: автореф. дисс. канд. ист. наук / Павловский С.В. М., 1980.
315. Панеш, А.Д. Из истории распространения мюридизма на СевероЗападном Кавказе в 40-5Ох гг. Х1Хв. / А.Д. Панеш // Сборник статей молодых ученых и аспирантов.- Майкоп, 1993.
316. Пейсонель, М. Исследование торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 1750-1762гг. / М. Пейсонель.- Краснодар, 1927.
317. Пикман, A.M. О борьбе кавказских горцев с царскими колони заторами / A.M. Пикман // Вопросы истории. -1956.- № 3.
318. Петросян, Ю.А. Младотурецкое движение / Ю.А. Петросян,-М.,1971.
319. Погодин, A.JI. История Болгарии / A.JI. Погодин // История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время.- СПб., 1910.
320. Покровский, М.В. Адыгейские племена в конце XYIII- первой половине XIX в. / М.В.Покровский.- М., 1958.
321. Покровский, М.В. Военные действия у Новороссийска и на Таманском полуострове во время Крымской войны 1853-1856гг. / М.В.Покровский //Кубань. -1949.
322. Покровский, М.В. Диверсионная деятельность иностранных агентов на Западном Кавказе после окончания Крымской войны / М.В.Покровский //Кубань.-1953,- №13.
323. Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце XVIII-первой половине Х1Хв / М.В.Покровский.- Краснодар, 1989.
324. Покровский, М.В. О характере движения горцев Западного Кавказа в 40-60 годах XIX в. / М.В.Покровский // Вопросы истории.-1957.- № 2.
325. Покровский, М.В. Очерки социально-экономической истории адыгских племен в конце XVIIIb.: дисс. канд. ист. наук / М.В.Покровский. Краснодар, 1956
326. Покровский, М.В. Русско-адыгейские торговые связи / М.В.Покровский. Майкоп, 1957.
327. Покровский, М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.В.Покровский.- М., 1924.
328. Покровский, М.Н. Завоевание Кавказа / М.В.Покровский // Дипломатия и войны в царской России в XIX столетии. М., 1923.
329. Попков, В. «Классические» диаспоры: к вопросу о дефиниции термина / В. Попков // Диаспоры. М., 2002.- №1.
330. Потто, В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях / В.А.Потто.- СПб., 1855.
331. Потто, В.А. Утверждение русского владычества на Кавказе / В.А. Потто. Тифлис, 1904. -Т. III.
332. Прошлое и настоящее Кубани в курсе отечественной истории.-Краснодар, 1994.
333. Раенко-Туранский, Я.Н. Адыгея до и после Октября / Я.Н. Раенко-Туранский.- Ростов-н/Д; Краснодар, 1927.
334. Рахматуллин, М.А. Войны России в Крымской кампании / М.А. Рахматуллин // Вопросы истории. -1972.- № 8.
335. Рекомендации научно-практической конференции, посвященной истории адыгов в Х1Хв. // Черкесия в Х1Хв. Майкоп, 1991.
336. Романовский, Д.И. Публичные лекции / Д.И. Романовский //Кавказ и Кавказская война.- СПб., 1860.
337. Романовский, Д.И. Князь А.И.Барятинский и Кавказская война / Романовский Д.И.-. СПб., 1888.
338. Россия и Черкесия (вторая половина XVIII в.- Х1Хв.) // Сб. Адыгейского республиканского ин-та гуманитарных исследований / под ред. З.Ю. Хуако.- Майкоп, 1995.
339. Сборник статей молодых ученых и аспирантов.- Майкоп,1993.
340. Семенов, JI.C. Россия и Англия. Экономические отношения в середине XIX в. / JI.C. Семенов. JL, 1975.
341. Семенов, Ю.И. Этнос, нация, диаспора / Ю.И. Семенов // Этнографическое обозрение.- 2000.- №2 .
342. Серебряков, Л.И. Сельскохозяйственные условия Северо-Западного Кавказа / Л.И.Серебряков // ЗКОСХ.- Тифлис, 1867.
343. Солдатова, Г.У. Социология межэтнической напряженности / Г.У.Солдатова,- М., 1998.
344. Советский энциклопедический словарь.-М., 1981.
345. Соловьев, С.М. Император Александр I. Политика. Дипломатия / С.М.Соловьев. СПб., 1877.
346. Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках / Н.А. Смирнов.-М., 1958.
347. Смирнов, Н.А. Мюридизм на Кавказе / Н.А. Смирнов.- М., 1963.
348. Сталь, К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа / К.Ф. Сталь // Кавказский сборник.- Тифлис, 1910.- T.XXI
349. Стефаненко, Т. Этнопсихология / Т. Стефаненко. -М., 1999.
350. Сусоколов, А.А. Структурные факторы самоорганизации этноса / А.А. Сусоколов // Расы и народы.- М., 1990. -Вып. 20.
351. Тарле, Е.В. Крымская война / Е.В. Тарле.- M.;JI., 1950.
352. Татищев, С.С. Внешняя политика императора Николая I / С.С. Татищев.- СПб., 1887.
353. Татищев С.С. Дипломатические беседы о внешней политике России / С.С. Татищев.- СПб., 1898.
354. Тишков, В.А. Очерки теории и политики этничности в Российской Федерации / В.А. Тишков. М., 1997.
355. Тишков, В.А. Исторический феномен диаспоры / В.А. Тишков // Этнографическое обозрение.- 2000. -№2.
356. Тишков, В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии / В.А. Тишков.- М., 2003.
357. Тлепцок, Р.А. Вхождение Северо-Западного Кавказа в социально-экономическую и политическую структуру Российской империи (пореформенный период): дисс. канд. ист. наук / Тлепцок Р.А.- Майкоп, 2001.
358. Токарев, С.А. Этнография народов СССР / С.А.Токарев.- М., 1958.
359. Тотоев, М.С. К вопросу о переселении осетин в Турцию в 18591865гг. / М.С. Тотоев // Известия Северо-осетинского науч.- исследоват. ин-та.- Орджоникидзе, 1848. -T.XIII, Вып.1.
360. Трахо, Р. Черкесы / Р. Трахо. Мюнхен, 1956.
361. Трехбратов, Б.А. История Кубани / Б.А. Трехбратов.- Краснодар, 2005.
362. Унарокова, М.Ю. Флористический элемент в системе питания адыгов / М.Ю. Унарокова // Этюды по истории и культуре адыгов.-Майкоп, 1998.
363. Унежев, К.Х. Феномен адыгской (черкесской) культуры / К.Х. Унежев.- Нальчик, 1997.
364. Фадеев, А.В. Возникновение мюридистского движения на Кавказе и его социальные корни / А.В. Фадеев // История СССР. -1960. -№5.
365. Фадеев, А.В. Дореформенная Россия (1800-1861гг.) / А.В. Фадеев.-М.-С. 153.
366. Фадеев, А.В. К вопросу об уровне экономического развития кавказских горцев к середине XIXb. / А.В. Фадеев // Исторические записки.- М., 1989.- Т.1.
367. Фадеев, А.В. Кавказ в системе международных отношений 20-50-х гг. XIXb. / А.В. Фадеев.- М., 1956.
368. Фадеев, А.В. Мюридизм как орудие агрессивной политики Турции и Англии на Северо-Западном Кавказе в XIX столетии / А.В. Фадеев // Вопросы истории.-1951.- № 9.
369. Фадеев, А.В. О внутренней социальной базе мюридистского движения на Кавказе в XIX в. / А.В. Фадеев // Вопросы истории.- 1955.- № 6.
370. Фадеев, А.В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX в. / А.В. Фадеев.- М., 1958.
371. Фадеев, А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX в./ А.В. Фадеев.-М.,1961.
372. Фадеев, А.В. Социально-экономические предпосылки внешней политики царизма в период Восточного кризиса 20х гг. Х1Хв. / А.В. Фадеев // Исторические записки.- М., 1955.
373. Федерик Дюбуа де Монпере Путешествие вокруг Кавказа / Федерик Дюбуа де Монпере.- Сухуми, 1937.
374. Фелицын, Е.Д. Князь Сефер-бей Зан. Политический деятель и поборник независимости черкесского народа / Е.Д. Фелицын // Кубанский сборник,- Екатеринодар, 1904. -Т. 10.
375. Фелицын, Е.Д. О переселении горцев в Турцию / Е.Д. Фелицын.-Кавказ.- 1877. -№ 147.
376. Фонвилль, А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864гг. / А. Фонвилль.- Краснодар, 1927.
377. Хавжоко, Шаукат М. Герои и императоры в черкесской истории / Хавжоко Шаукат М.-. Нальчик, 1994.
378. Хан-Гирей Бесльний Аббат (из сочинений под заглавием «Биографии знаменитых черкесов и очерки черкесских нравов и преданий») / Хан-Гирей.- Кавказ.- 1847.- №42-47.
379. Хан-Гирей Записки о Черкесии / Хан-Гирей.- Нальчик, 1978.
380. Хан-Гирей Князь Пшьской Аходягоко / Хан-Гирей // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.- Тифлис, 1893.-Вып.1, т. XVII
381. Хапачева, Р.В. Адыгские народные собрания истоки, развитие, функции / Р.В. Хапачева. - Майкоп, 2000.
382. Ханыков, Н.В. О мюридизме и мюридах / Н.В. Ханыков // Сборник газеты Кавказ.- Тифлис, 1847.
383. Хатисов, И.С. Отчет комиссии по исследованию земель на северовосточном берегу Черного моря между реками Туапсе и Бзыбью / И.С. Хатисов // Записки Кавказского общества сельского хозяйства.- 1867.-№5,6.
384. Чебоксаров, Н.Н. Проблемы типологии этнических общностей в трудах советских ученых / Н.Н. Чебоксаров // Советская этнография.-1967.-№4.
385. Чекменов, С.А. Очерки Карачаево-Черкесии / С.А. Чекменов. -Ставрополь, 1967.
386. Черкесия. Историко-этнографические статьи.- Краснодар, 1927.
387. Чирг, А.Ю. Культура жизнеобеспечения адыгов / А.Ю. Чирг // Культура и быт адыгов.- Майкоп, 1991.
388. Чирг, А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа / А.Ю. Чирг,- Майкоп, 2002.
389. Чихачев, П.А. Великие державы и Восточный вопрос / П.А.Чихачев.- М.,1970.
390. Шадже, А. Северокавказское общество: опыт системного анализа / А. Шадже, Э. Шеуджен.- М.; Майкоп, 2004.
391. Шамрай, B.C. Краткий очерк меновых (торговых) сношений по Черноморской кордонной и береговой линии с Закубанскими горскими народами с 1792 по 1864 год / B.C. Шамрай // Кубанский сборник. -Екатеринодар, 1901.- Т. VIII.
392. Шеуджен, Э.А. Введение в методологию научного исследования / Э.А. Шеуджен. Майкоп, 2001.
393. Шеуджен, Э.А. Историография. Вопросы истории и методологи / Э.А. Шеуджен.- Майкоп, 2005.
394. Широкогоров, С.М. Место этнографии среди наук и классификации этносов / С.М. Широкогоров.- Владивосток, 1922.
395. Щербатов, А.П. Генерал-фельдмаршал граф Паскевич. T.II / А.П. Щербатов.-СПб., 1891.
396. Щербина, Ф. История Кубанского казачьего войска / Ф. Щербина.-Екатеринодар, 1913.
397. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в Х1Хв.-Нальчик, 1965.
398. Эсадзе, С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны / С. Эсадзе. Тифлис, 1914.
399. Югов, Н. Султан и его двор / Н. Югов // Кругозор.- СПб.- 1877.- № 18.
400. Юров, А. Три года на Кавказе 1837-1839 / А. Юров // Кавказский сборник.-1884.- Т. VIII.на английском языке
401. Bell, J. Jornal of a residence in Circassia, Krim Tartary / J. Bell. -London, 1838.
402. Bosnia and BoIgaria.Edinburgh review.Edinburgh,vol.GXLIX. 1887 // Михов H. Насилението на Турция и България презъ XVIII-XIXbb. T.IV. София,1935. С.53.
403. Kampbell George. The book of the European question which is the last point of the view about Turkey. The 2nd edition. London, 1876 // Михов H. Указ.соч. C.68.
404. Karpat, K. The religious and Ethnic Distribution of the Ottoman population / K. Karpat. Wisconsin, 1985.
405. Longworth, A. A year among the Circassians / A. Longworth. London, 1840.
406. Mohammad, Kheir Hagondoga. The Circassians.Immigration to Jordan / Mohammad Kheir Hagondoga. Amman, 1985.
407. Mohamad, S.Shaker. A Study of the Circassian Settlement in the United States / Mohamad S.Shaker. New York, 1985.
408. Pinson, M. Ottoman Colonization of the Circassians in Rumili after the Crimean War / M. Pinson. Sofia, 1972.
409. Ravenshtain, E.G. The distribution of the population in the European part inhabited by the Turks. The Geography magazine / E.G. Ravenshtain -London. Vol.111. - 1876 // Михов H. Указ.соч. C.247.
410. Sanford, E. The ethnic map of European Turkey and Greece and the not of modern distributing peoples on the Illirric Peninsula with the statistic data and tables / E. Sanford. London, 1877 // Михов H. Указ.соч. - C.309.
411. Simsir, B. Immigration from the Balkan / B.Samsir. Ankara, 1993.
412. Spenser, Ed.Trevels in Circassia,Krim Tartary / Ed. Spenser. London, 1838.
413. Spenser Ed. Turkey, Russia, the Black sea and Circassia / Ed. Spenser. -London, 1855.
414. Hansard, S Parliamentary Debates / S. Hansard. 3-d series. - V.41. London, 1856.
415. Havjoko Shouket Mufti. Heroes and Emperors in Circassian History.-Beirut, 1979.на арабском языке408. ? p-a j Lj J I I • o^ 11 . ^ V qo . £ j jj о L*J (Бэрзэдж H. Изгнание черкесов. Амман, 1987. 195.).
416. ИЯГ цаWb ГПУ j^JI -yjj)«JI 5к.л Я Lu)j1p (Шакир Мустафа. Черкесы. как их изгнали? // Аль Араби 1993. №417.).на болгарском языке
417. Арнаудов, М. Ломският край презъ Възраждането икономически живот и политически борби / М. Арнаудов. София, 1967.411. БотевХр.-ТЛ. София, 1976.
418. Дамянов, С. Ломският край презъ Възраждането икономичски живот и политически борби / С. Дамянов. София, 1967.
419. История на България. Том-шести. Българско Възраждане 1856-1878гг.-София, 1987.
420. Раковски, Г. Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите / Г. Раковски. София, 1886.
421. Фехер, Г. Феликс Канитц. Живот, потувания и научно дело / Г. Фехер. София, 1936.
422. Хаджиниколова, Е.В. Българските преселници в южните области на Русия 1856-1877гг. / Е.В. Хаджиниколова. София, 1987.на немецком языке
423. Andre К. Die Geographie des welt Handels mit geschichtlichen Daten. Der zweite Ausgabe. Stutgart, 1877. Band III. Europaische Turkei // Михов H. Указ.соч. C.7.
424. Die Regestrierung der Daten uber die Zahlung der mannliche Beovolkerung worn 20 Semtember 1874 im Vilajet Donau. Ubersiedelte Tscherkessen. Berlin, 1879//Михов H. Указ. соч. С. 260.
425. Pallas, P. S. Bemerkungen aufeiner Reise in die Suflichen Statthalterschaften des Russishen Reishs in den jaren 1793 und 1794, BDI / P.S. Pallas. Leipzig, 1803.
426. Karl, Sacks. Kaiser und Koniger Konsul.Wiena, 1873. Die offiziellen Daten der Wettansstellung, 1873. Der Vartag / Sacks Karl // Михов H. Указ.соч. C.288.
427. Karl, Sacks. Die geographiesche und gesehichtliche skizze Balgariens. Vilajet Donau Karl Sacks. Vizekonsul in Sara jevo. Die Teile der Kaiserische und geographiche Gesellschaft. Wiena, 1869 / Sacks Karl // Михов H. Указ.соч. C.285.
428. Kruss, Fr. Die Griechische-slawische Halbinseb,Beilag №27. Europaische Turkei-Ottomanische Gebiete. Berlin, 1879 / Fr. Kruss // Михов H. Указ.соч. С.80.
429. Lapinski, Th. Die Bergvolker des Kaukasus und ihr Freiheifskampf gegen die Russen / Th. Lapinski. Hamburg, 1863.
430. Rokstroch, E. Das Studium der Reisen uber Europaische Turkei von Edwin Rokstroch. Aus alien Teilen der welt. Die illustrierte Monateschrift uber Landkompetenz. Leipzig, 1874 / E. Rokstroch // Михов H. Указ.соч. C.270. на сербском языке
431. Sabit Uka. Nekoliko istorysko-etnografskin padataka о cerkezime Koje zive na teritoriji SAP Kosova. / Uka Sabit // Vjetar, godsnjak arhiva Kosova. 1981. № XII-XIII. Pristina. Str.223-239.на турецком языке
432. Berzeg, Safer. 1877-1878 Osmanli-Rusya Savasinda Kuzev Kafkaya ve Surgiindeki Kafkasyalilar / Safer Berzeg // Kafkasya Gersedi. Samsun, 1990, №1.
433. Berkuk, J. Tarihte Kafkasya / J. Berkuk. Istanbul, 1958;
434. Aydemir I. Go?: Kuzey kafkasualilurin go? tarihi /1. Aydemir. Ankara, 1988;
435. Bi?e, H. Kafkasya dan Anadoluya gofler / H. Bife. Istanbul, 1991;
436. Habi?oglu B. Kafkasya dan Anadologuya gofler / B. Habi?oglu. -Istanbul. 1994;
437. Saudam, A. Kirim re Kafkas go9leri (1856-1876) / A. Saudam. Ankara, 1997.r
438. Eren, A. S. Turkiy'de gog ve gofmen meseleleri / A.S. Eren. Istanbul, 1966;
439. Hizal Ahmet. Kuzey Kafkasya. Hurriet ve istiklal davasi / Ahmet Hizal. -Ankara, 1961.на французском языке
440. Aubaret, G. Province du Danabe, par G.Aubaret, Cansul de France a Raustchauk. -Paris, 1876. Extrait du Bulletin de la Saciete de Geographie Paris, 1876 /G. Aubaret // Михов, Н.Указ. соч. -C.23.
441. Bianconi, M.F. Etnographee et statistique de la Turguie d'Europe et de la Grece / M.F Bianconi. -Paris, 1877 // Михов, Н.Указ.соч. -C.46-47.
442. L'emigration des Tcherkesses en Turguie. Nouvelles sources des voyages, de la geographie et de l'histoire. -Paris, 1865. -Tome I (185) 11, P.370 // Михов H. Указ. соч. -С. 120.
443. Monpereux, F. Dubois de. Voiages antouz du Caucase en Georgie, en Armeni of en Crimee / F. Monpereux. -V. I. -Paris, 1840.
444. Reclu, E. Une nouvelle geographie universelle.L'Europe du sud. Paris, 1876. Tome IV. -P.10-12 / E. Reclu. / Михов, H. Указ.соч. -C.255.
445. Ubitchini, A. Des races dans l'empire ottoman. Revue de 1'orient de 1'algerie et de Colonies. -Tome 13. -Paris, 1853 / A. Ubitchini. // Михов, H. Указ.соч. -C.399.
446. Ubitchini, A. L'etat moderne. L'empire ottomane. Paris, 1876. P.69 / A. Ubitchini. // Михов, H. Указ.соч. -C.991.374