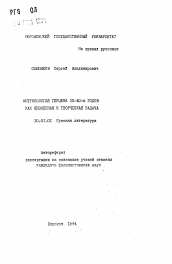автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Антропология Герцена 30-40-х годов как жизненная и творческая задача
Полный текст автореферата диссертации по теме "Антропология Герцена 30-40-х годов как жизненная и творческая задача"
РГВ од
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
САВИНКОВ Сергей Владимирович
АНТРОПОЛОГИЯ ГЕРЦЕНА 30-40-Х ГОДОВ КАК НИЗНЕННАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ' ЗАДАЧА
10.01.01 Русская литература
Автореферат
диссертации на соискание, ученой степенн кандидата филологических -наук
Воронэж 1У94
Работа выполнена на кафедре русской литературы Воронежского государственного университета.
Научный руководитель : доктор филологических наук,
профессор Б,Т.Удодов.
Официальные оппоненты : доктор филологических наук,
профессор В.Ш.Кривонос;
кандидат'филологических наук, доцент Е.М.Таборисская, -
Ведущее учреждение - Орловский государственный педагогический институт.
Защита диссертации состоится "¿Л" и.и>ч-г_1994 г.
в__ часов на заседании специализированного Совета
Д.063.48.07. по присуждений ученой степени кандидата филологических наук при Воронежском государственном университете / 394000 Российская федерация,.г. Воронеж, пл. Ленина, 10 /,
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Воронежского государственного университета.
Автореферат разослан " 'У " _1994 г.
Предсодатель специализированного Собота, доктор филологических каук, профессор В.М.Ака'
То, что для Герцена вопрос о личности является центральны!, у кого Н8 вызывает сомнений: именно проблема личности стоит во аве угла всех основных герценовских текстов. Несомненно п то, э постановка этой проблемы у Герцена никогда не носила отвлечен-теоретический характер, но всегда была нерасторжимо связана с э личной жизненной судьбой. Стремлением связать друг с другом, а этих бесспорных утверждения, понять гэрценовскую антропологии < одновременно творческую и жизненную задачу и определяется гуальность исследования.
Научная новизна диссертации заключается предца всего в внбо-ракурса исследования. В центре его внимания - дискурс п е р е-и в а н и я Герценом кризисного периода ого жизни, прослолаша-ый и в философских, и публицистически, и художественных- текстах, гакжз в дневнике и частной переписке. В диссертация првдпр:шята пытка зафиксировать в этих различннх по жанровому и ксглмуника-вному статусу текстах связываний та обимй "внутренний" лзиг. лв~ хивания, выраженный и свжетно, и ситуативно, и метафорически и, зукеется, категориально. Такой подход позволяет вскрыть дина?та-герценовской антропологической проблемы и тем самым проследить рбинную предысторию той "душевной драмы", отражение которой ус-тривают обычно лишь в книге очерков "С того берега".
В силу этого целью диссертации начнется исследование антро-логии Герцена в контексте его гизненного мира 30-40-х годов. Отца - определяемые зтой целью задачи: изучение взшмодействия ра-ичннх по статусу текстов; выявление типологически значимых для рцека ситуаций, мотивов, метафор и надстраивающейся над ними ка-гориольной структуры; описание герпоновской характерологии.
Отсэда круг тех методов,- типе ■оптический, систомно-целост-й, а также структурный и мотивннй (в духе Б.М.Гаспарова),- кото-е в работе используются.
Практическое значение диссертации усматривается в выявлении рспектив дальнейшего изучения герпеновского наследия. Результаты следования могут быть применены з процессе чтения курса истории, сской литературы и примыкащих к нему спопкурсов. '
Структура исследования. Дпссзртация состоит из пяти частой: здония, двух глав, Заключения и Списка литературы, вклтааг^эго 5 наименований.
Апробдиня результатов исследования.. осуществлялась о тподесс?
обсуждения отдельных ео частей п итогового целого на заседания* кафедры русской литературы Воронежского госуниверситета, на нау инх сессиях ВГУ и Весенних воронежских филологических чтениях 1990-1993 гг.
Основное содержание диссертации. Во Введении в конпепту&г ном кличе дается обзор посвященной Герцену научно-критической ; тературы, выявляется односторонность "традиционалистских" подхс дов к герценовскому наследию (социологического, политического, лигиозно-философского и др.); характеризуется актуальность теки ео научная новизна; намечаются задачи и цели исследования; оче] сается методология.
Первая глава. Между "особенным" и "обоим". Уже первые зг си начатого в 1842 году дневника свидетельствуют о происходивсг в жизни Герцена разладе, вызванном обстоятельствами в этот цер] и ьго общественного положения, и его положения семейного. Однш ограничившись "обстоятельственной" стороной разлада, невозмоан! пять, почему, как выразился сам Герцен, далее "незначительные с< тия" производили в иэм в это время "эпохи внутри".
Характер осмысления и острота переживания Герценом своеГ( ложопия указывают на кризис, затронувший самые глубинные пласи аизнвиного мира в начале 40-х годов. Несомненное тому свцдетел во - доминирующее в дневнике и письмах этого периода ощущение ; • тц связей с "роемирнкгл, с всеобщи, с. человечеством", воры в и ввдуальиость, жизненно]! перспективы. Однако било бы ошибкой фи ровать только кризисные тенденции (взгляд на Герцена как на кр го. пессимиста - результат такой односторонности): герценовскпй зле 40-х годов --это не только разлад, это еще и воля, налрьвл кал-на его преодоление; это ета и стремление восстановить сист жизненных ценностей на новых началах, посредством которых можн ло бы придать внутреннюю цельность и смысл.бытии. Несомненно, это стремление и есть основной пафос стоящей перед Герценом в время жизненно» и творческой задачи.
Для того, чтобы понимать характер и своеобразие этой зад (а значит и смысл кризисных пертурбаций в кизил Герцена 40-х г необходимо представлять "прежнюю" систему его жизненных ценное и причину еэ распада.. . \ 'В целом система жизненных ценностей Герцена 30-х годов [.:
Оыть охарактеризована как "ро^антико-дровиденцлальпал": романт ■ • ■ • _ 4 -
вера гз собственную исключительность и избранность сопряжена в с верой в предназначенную Провидением судьбу.
Для Герцена 30-х годов представление о действительности свя-ется с представлением о пошлости (в романтическом духе) жиз -их обстоятельств, отнимающих у человека "свое", сливакцих его лпою. "Свое", "самобитное" - "прямое наследие Бога", которое век избранный ощущает в себе как внутреннюю силу. Самобытность знак избранности, с одной стороны, и как источник сплы, с дру-для Герцена 30-х - внешнее и внутреннее проявление "строгой едовательностя и отчетливости Провидения", которые исключают ожность случайного, выпадающего из божественного замысла. В м деле, для Герцена в 30-е годы случай - "нелепость, Евдуман-безверием": "Я ничего не делал по своему желанию, рука силънач , влекла меня (...) Я именно, как лодка, брошенная на море, дав имею силы .желать того или другого...",- из письма г. Н.Захпрь-от 8 августа 1837 года. Заметим, что в 40-е, когда весь этот ■вдепшталышй антурая будет отброиэн, тот.г.з образ лодки, "бро-ой на море", будет отвечать совсем иному его ошугондю -. человэ-аред лицом стихийной, случайяостпой стороной яязяи.
Однако в 30-е Герцена чал;э вен ;ке одолеваю? оомнзепя не отно-дьно Провэденял, а отгосительно его самого. пактом сгсего су-вования эти сомнения подчеркивает одно ватное обстоятельство, того, чтобы Провиденно могло реализовать своп цель через из -ного им человека, от самого человека, по убеждению Герцена, уется соответствовать возложенной на ного млс-Поетсму по случайно, что в кризисные 40-е годк попмтку найти д из сложившейся ситуации Герпе.ч начинает претдэ всего с обрг-я к еггему себе, с выяснения того, па что укапывает в отнешз-к ир?.!у сяг«ск»у тч'ятрывгвлся перед ним "изнаночная", тратоекзя ¡сна жизни: "Господи, качпо нввнностао тдаолые часы грусти едаат меня! Слабость лл это? Или последствие того разили*:, кое приняла душа моя, пли, наконец, мое законное право, образ от-нич "о мне окружающего?" - из дневника 1042 года.
Признать собственную слабость, по сути, означает для Горггча нать спою подкуп г.изненную несостоятельность, если вспсгднат*. ■м, что именно с ошуш-знием внутренне.! силы та связнгалось прод-'ле;то о собственной личности, самобытной и избранной.
К-„г:т "трезвого знания" в геризногекдх текстах .{0-х годов -
один из сквозных. "Трезвое знание", "несчастно верный взгляд нг вещи, снимающий с них наружный покров" для Герцена, несомненно способ и е новых условиях заявить о своей силе, прежде всего к; о "законном праве" видеть все в истинном свете. Особенно вся "' кость креста трезвого знания" ощутима теми людьми, деятельная : тура которых не может удовлетвориться созерцательным отношение] жизни; теми, которые, однажды взявшись нести этот крест, несут до конца. Идти до конца, обладать "геройством консеквентности" Герцена в кризисный период его жизни становится главным залога возможности его преодоления. "Неконсеквентность" собственным н лем, "шаткость", внутренние рассогласованность Герцен считал од из основных характеристик современного человека.
Изменение взгляда на жизнь и самого себя повле1сло Герцен к измонению постановки яизнеипой задачи, предпосылкой для разр вия которой в новых условиях становится необходимость быть "от тромннш" уже не в отисиешт к Провидению, а в отношении к с самому.
Однако для Герцена било недостаточным' только признать сг право видеть собственную.слабость без прикрытия и только обьяс еа характерологически. Для выхода из мировоззренческого тупике потребовалось найти для нее философское обоснование в человече природе, Оставшись без ореола романтического горбя и ореола бс гс избранника, лишившись "внешней" провиденциальной защиты, чс вэк предстал перед Герцене:.! как существо слабое уже-в онтолоп ком смисло; его слабость - в особой истонченности и чуветшге.7 кости, которые природа достигла в человеке, своем высшем-созд: его слабость - следствие его человеческого развития. "Выслав I явление жизни слабо, потому что вся сила материальная потраче! чтоб достигнуть втой высоты..."- из письма к Н.П.Огареву и Н.1 тину от 1-10 января 1845 года..
Задача спасения "своего" из "вихря случайностей" - глав: тема гррценовских размышлений 40-х годов. Однако значение пош "своего" (достоинство которого в провиденциальной система опр| лось тем, насколько полно оно выражало всеобезе, соответствов! ему), безусловно, претерпело в эти годы Кардинальное язменеки
Йроблема соотношения Личного и общего одна из тех, кото • каздом этапе духовного развития Герцона имела свой' "онтология статус, определявшийся тем, в • какую культурную парадигму он с
- С -
ось. Для Герцена 30-х годов, прошедшего "школу" романтической истической философии, представление о соотношении личного и обо вписывалось в общую мистическую картину акта творения, при ором злое, тяжелое, темное, эгоистичное образовалось в резуль-е отпадения'от своего первоисточника. Возвращение к нему, вос-динение с целым в этой глобальной мистерии означает преодоление ебе той "тяжелой" части "своего", которая стремится к отделению, юсти, "особности". В 40-е годы проблема личного и обшего пред-ла перед Герценом не в провиденциально-мистическом, а конкрет-•жизненном смысле. "Свое", испытырашее на себе разрушительное ¡ление внешнего и обнаруживающее при этом трагическую перед ним >ащищенность, становилось для Герцена действительно "своим", лпч-! принадлежностью, или в дальнейшей герценовской терминологии,-;обностью". Изменившееся представление о "своем" не могло не из-, шть и представление об эгоизме яш: "зле" и "мраке". Отсэда - л 13исиый разлад провиденциальной жизненной системы; я - -йоэнш'.но-гае жизненно важной проблемы личного и общего, а, по сути, пробны восстановления на новых началах утраченной связи со всеобщим, реосмысленным в 40-е годы в терминах немецкой философии.
Однако в зависимости от того или иного способа подхода к рению этой проблемы, от той или иной занимаемой Герценом в отношэ-п ее позиции изменялась (доходя до эзажонсклшагсях• крайностей) степень возможности ее разрешения.
Так, автор "Дилетантизма в науке", несомненно, выступает с опции человека, заникаюгеэго особое полояонпе "приближенного" к ере "разумного и речного всеобщего", как бы, если воспользовать-герценовской метафорой, с позиции человека, стоящего на верилшо рц перед раскрывшейся ему далью. Автор х<* дневников и писем 40-х дев внетупаот пр?тте всего с позиции частного, "особпого'' лица, которого, соответственно, иные и угол зрения на проблему и арсе-л средств для ее разрешения. С уходом в глубь сфорн индтзкдуяль-ix, частных отношений эта задача все труднее поддается разрешении | вполне понятным причинам: в этой сфере сталкирагатея не абстрокт-ю категории и схемы, но люди, каждый из которых обладает собст -•пиоЗ "особностью". Однако только в диалогической соотнесенности 'их разных по назначению текстов возможно уловить динамику герце— )2о:;ой мысли в кризисный период его ;.чпзии.
Уже с первых строк заданной интонационный строй "Дплотантпз-
ма в науке" обусловливает восприятие этого сочинения Герцена не как статьи или научного трактата, а как ораторской речи, рассчитанной на произнесение с трибуны. Логика и пафос этого выступления направлены не столько'на то, чтобы раскрыть значение науки для современности, сколько на то, чтобы убедить человечество, что для него "пришло время" (торжественное "пришло" сродни евангельскому мироощущению) осущёстЕЛошш своего призвания путем "одей -ствотворэшад". науки в жизнь. В связи с этим библейская образность (н ветхозаветная, и новозаветная в особошшстп) образует в "Дилетантизме. .." особый семантический план, пронизывающий все лроиэ -ведение, начиная от использования слов с сакрализованной семантикой и коцчсш ватаейщими мотивами: яортвования, смерти и воскрзсе-шш.. "Личности надо отречься, от себя для того, чтобы сделаться сосудом.истины (...) Умереть" и естественной непосредственности значит воскреснуть в духе...".
В данном случае соотношение частного и общего, конечно, на другом урошз к с другим содержанием составляпяях, репродуцирует всю ту шо провиденциальную модзль. Только теперь место всеобщего заняла гаука. область знался ил::,' по определению Фейербаха, "сознания рада".-Эгоизм ("особцэо") к в этой оштяле играет рэль нача ла в «слоцеие кс:;грц:;тивпо1го. вотаадого па путл предназначению личности "бить созпатбль'!к,1 органов своэй эпохи", отрывающего чел •вока о1: &го 1:~дово£ прягодтеглос!-«. Одного вое г.е б этом случае с лаигаа абсолылюй кои^ронгадал со всеобщи: здесь огопзм синонши-■чон для Горцэяа "личному у^агденпи", которое ¡%:ж со всеобщи ос щго оонов-шшй,- рфору разума,- тем самым имеет основание и для тс го, чтобы быть преодолейте«. Сам г.э акт преодоления для Герцена 1 ■ раыш скту-уничтожения собственного "Л": восходценпэ в сферу всеобщего, "принятие йзтшш со веем;: последствиям::", напротив, для 1 го необходимое лыгтппа па пути к подлинной самобытности. "Возврг щв!шЬи'иа сферы общэго в казнь, "одоЕствотворонио" познанной ист: ен рассматривается Горцоноад км: заворззтаШ этап ее (самобытности полного обретения в единении разума и творящей волн.
Однако в этом акте "возвращения" усматривается еще один вал гшй для Герцена 40-х годов мотив ннтямно-личностного свойства -мотив спасения. Деяние "отвлеченного разума", растворяющего лкч -иость' в сфере всеобщего, уничтожает ее так г.о, как деяние "отмеченного сердца", ввергающего человека б смут случайностей.
Идея спасения развившейся до сознания индивидуальности ста-?ится для Герцена 40-х годов главной яизненной и творческой ус-говкой: "У человека вместо с сознанием развивается потребность 1то свое спасти из вихря случайностей" ("Несколько замечаний об сорическом развитии чести"). Это и понятно: в дневнике и ттсь -< этого периода отражена целая гамма разнообразных чувств перед врывшейся "изнаночной" стороной жизни: "Человек по песчинке нос-гншл трудом копит, а случай хватит и одним ударом разрутет внс-зданноэ"; "Что тут придумает человечество? Чем укрепит оно себя страшных ударов случайности?"
Конечно, в "Дилетантизмег.." речь ;щет о спасении личности философском, категориальном смысле: личность, осмысленная в ка -гориях "единичного" и "всеобщего", естественно, абстрапфована того, что составляет ее "оссбность", А п?дь 'т"«бчио особность и ¡лыгквает на себе подверженность "кнхри случайностой" не в ф;тло->|сксм, а в жизненном смысле. Однако Гордая поттчтался подойти к юбломе и с другой стороны: не с точки зрения личности, развериу-)й ко всскйсому (как это было в "Дилетантизме,.."), а о точки зрз-!я личности, развернутой к ее "особнссти". Вот с этой другой точ-I зрения возможность вырг-яться из смута случайностей Гбрденсм сш-лтапгся с попыткой научиться жать в настоящем.
Неумение гать в настоящем - сквозной мотив гериеяоЕСУ.их дпзв-гасов и писем 40-х годов. Бить полнотою и з полно-те настоящего -от для него Еос^скный вцход за пределы временного и случайного, онечио, мотив избавления от давления времени - мотив кризисного псисхохдения: будущее "умаляет" настояяоо, угрсгии возможными уда-ами, именно потому, что в человеке хранится педгять о прошлых уда-■ах. Только с учетом этого становится понятно! герцено2с:шй "ро -;опт" разрешения проблемы: "Пора научиться забивать кенухное из бы-;ого, то есть помнить о нем как о билом, а не как о сущем". Думавт-что именно отрешением к сохранению "своего" из "вихря случай-¡остей", а не только литературными пристрастиями объясняется в глубиной своей сути ориентация творчества Герцена на-биографичность: восстановить биографию в известном смысле означает восстановить, зохранить "свое" в его непрерывности. Да и известная мысль Герцена з самодостаточности каждой исторической эпохи, о ее неотьемлемсм траве быть самостоятельным зеоном в исторической цепи, по'сути,'выражает все ту же жизненно важную для него задачу спасения и защиты,
правда, в данном случае не личностной, а культурно-исторической
особности.
В статье "По поводу одной драмы", относящейся к циклу "Kai ризы и раздумье", круг вопросов, поднятых в "Дилетантизме...", Герцен рассматривает под иным углом зрения. Во-первых, этот текс уже по своему назначению и пафосу отличен от "Дилетантизма...": его язык не язык проповеди, а раздумья (название говорит само зг себя); во-вторых, угол зрения задается и самой спецификой позтп театрального зрителя, стороннего, хотя и заинтересованного, наб лвдателя за развертывающейся на сцене коллизией.
О позиции зрителя следует сказать особо не только потому, что в более широком контексте эта позиция являлась для Герцена i раженпем одной из двух возможных позиций жизненных (жизненной пс зкцйи созерцателя и жизненной позиции деятеля), но и потому, чтс сама позиция зрителя иг,юла для.него двоякий "онтологический" сте туе, определяющий градацию возможностей, заданных, в одном случг позиционным "верхом", а в другом,- позиционным "низом".
Метафорическим выражением позиционного "верха" стал в tboj честве Герцена образ горы, обращающий на се<3я внимание в самых j 31шх по назначению текстах. Жизненные ощущения, испытанные Герце ном на Воробьевых горах и горах села Васильевского, стали одни® из самих сильных впечатлений его жизненной и творческой памяти: же лишотшД конкретики этих впечатлений, образ горн сохранит их своей метафорической "памяти", одновременно вбирая в себя нескор ко взаимоноресакашихся значений, но обусловленных все же одним значением сопряженности с далью.
Человек на вершине гора находится в особом положении прибл пзнкого к .небу, будь то "провиденциальное" небо над Воробьевыми рами или гегелевское небо "всеобщего" над "естественной непосред венностьв". Эта приближенность открывает для него исключительную возможность проникать взором через недоступные другому полохеник преграды, видеть все и сразу. Тем самим с достижением позицпоюю "верха" Герценом связивается достижение абсолюта, личного тождес ва со всеобщим. Все другие частные, "особныа" определения личное по мере приближения к позиционному верху (верите горы) с нэизбе ностью ут-рачиват свою актуальность. Однако дело нз только в от-■ гривак^яхея человеку возможностях на вершине, но и в том "одичес ком" восторге,'который он'там испытывает. "Одический1* восторг, и
гтываемый на вершине горы, безусловно, вызван тем эстетическим ^действием, которое на человека оказывает даль: вид, открываемся с горы,- именно вид, эстетически оформленное пространство.
Позиционный "низ" не только тривиально ограничивает возможет« зрения, но, главное, обусловливает их принципиально иной си-аиией, жизненной ситуацией, не знающей устойчивого равновесия ерха": быть зрителем "внизу" - быть свидетелем этих возмущений, имея возможности им противодействовать в силу ограниченности бственной "особности": "Да, я зритель, только это не роль, и не тура моя, это мое положение".
"Уйти в сторону" - еще один мотив кризисного происхождения: Йти в сторону" - удалиться от эпицентра жизненного "землетрясе-я". Это удаление по ряду сопряженных с ним признаков (обретение рмонии, душевного равновесия) в определенном смысле ндентифици-ется у Герцена с достижением позиционного "верха", вершины горы, раз которой в горизонтальной пространственной развертке часто задает не уступающий ему по смысловой емкости образ берега. В жиз-нном смысле для Герцена в конце 40-х годов актуализировалось зна-!шэ другого или "того" берега, конечно, связанное с его решением каления от России. Уд&тенпе, уход в сторону - простракст-иное выражение магистрального для 40-х годов жизненного мотива асения, сохранения "своего" или себя ¡сак центра, конечно, в ант-тологическсм смысле.
Для Герцена "тот берег" стпл своеобразным подобием позишон-го "верха", который позволил яму в какой-то мере реализовать его чзбнвиое стремление к деятельности. Реализация же возможности срамного видения, заданной нретлррством такого положения, в зненном смысле осуществилась в созданных Герценом на "тем берегу" »юрамнцх" текстах, таких, как: "Россия", "О развитии революциях идей в России", "Былое и думы" и др.
Позиши зрителя, нзблпдапцего за развертывающейся на сцене иизией, конечно, задана самой спецификой театра. В то же гр:гл пределы этой специфики ее ¿¡«водит включенность в общий контекст пщионных отношений у Герцена. Возможность охвата события в целом [ижает эту позицию зрителя с возможностями позиционного "Еер -а ее приближенность к происходящему, обусловленную возмс.т.нос-1Л сценического воздействия,- с позиционным "низом". Такая "сорная" близость не дает разуму удовлетвориться нравоучительными
сентенциями. Понимание, провозглашенное Герценом в этой статье основным принципом подхода к жизненным явлениям, есть именно такой акт, который разумное начало "преломляет" через начало сердечное.
Логика "выхода", разрешения противоречия мевду личным и общим с формальной точки зрения здесь та же, что и в "Дилетантизме 1 науке": "случайностная непосредственность", исторически преодолеваемая развитием человечества, "выходом" его в сферу всеобщего, в одном случае, и случайностность, имеющая место в человеческих от ношениях, преодолеваемая тем же способом, в другом. Однако в отли чиа от логики "Дилетантизма...", развиваемой в модусе неизбежного долженствования, логика "По поводу одной драмы" менее категорична ео модус - модус возможности по причине емкости и не однозначности самого сопротивляющегося рационализации "материала" каковш являются мзлечеловечеекде отношения.
Особенно наглядно эта сопротивляемость отражена в текстах "нижнего яруса" - дневнике и письмах.
Герцен по типу своего мышления, несомненно, мояет бить отш сан к разряду мислктблеИ "экзистенциального толка", таких, котор! как выразился Н.Бердяев, "вкладывали в свою философии себя, т. е, познающего как существующего". Поэтому не случайно, что и, цогсл; наиболе'о глубокие прозрения относительно человеческой природы у Герцена связаны, как бы сказал М.Мамардашвшт, "с.реальностью са> лично проделанного и изнутри перевитого им опита жкгпп", которая что особенно га;-ию подчеркнуть, в принципе отсутствует у сторон» го наблюдателя. Зтот опит свидетельствовал о наличии г чоловечас кой казня такой сферы, которая от сознания не только ускользает, и, более того, не доступна ему вовзе.
"Кавдий человек - он еда" - "сам" настолько, что ..-.т.акие "выходы" во всеобщее не могут изменить заложенную в нем осни. ~ с самости, "особности" - "вывод", сделанный Герценом "нзгг/тргг" лито жизненного опыта, недоступного "оптически обманутому" сторон! наблюдателю.
Вторая глава. Человег. в катастрофическом мире: ситуации, характеры, мотивы. Обычно вторжение в пределы жизненной филосо фйй Герцена категории-случая связывают с разрушением в 40-е год! его проввде «шального воззрения. Но где и в чем искать причины этого события? В.В.Зеньковскпй считает, например, что роль разр; шительного "орудия" сыграла, в -конечном счете, романтическая фи,
ш (и прежде всего Шеллинг) с ее установкой на иррациональное, жо есть основания полагать, что, помимо прочих причин (соци-шх, философских, житейских и т. д.), генеалогические корни юсофии случая" у Герцена скрыты в развернувшейся на рубеже 1-Х1Х веков известной полемике между "нептунистами" и "плу-!стами" о геогнозисе (геологическом генезисе)-Земли. Первые, известно, основным фактором формирования рельефа считали во-вторые эту роль отводили огни. Надо сказать (и это особенно ственно), что эти две противоположные теории уже в период ого-возникновения вшили за рачки собственно геологических теорий ли спроецированы не тольксГна историю планеты, но и на историю |Г-ечества. Тазе, например, в учении Сон-Симона'об исторической :о "органических" и "критических" эпох яено просле*пгеаотся ге-чоекпч связь с плутонизмом. А вот Гете, лрядсргиваясь эеолп -шстсних взглядов на историю, был сознательным 1грявврясв131ем нз-:иг:ма.
Бее эти факты свидетельствует о тем, что спер йептушютов п онпстов был значительны!.! культурным явлением на рубежа веков, аглям зр.мзтно? воздействие на формирование мировоззрения' пос-•п.';г>го пско.тнгпя, Ва~.:'мо, этим и объясняется пвлотке в тгорчест-. 'орезна (кмокиего, кеа известно, ссобн.1 интерес к естественнот;а-м проблеме:?) "вулканических" образов, метафор, мотивов, кото -кстати, "гпшГ в ого сознании. задолго до критических для нэго годе:;, а значит 1.тм;шщитно ссдер.т.пли в себе возможность акту-аилн категории случая.
К теме вулканического-подземного огня Герцен »пвррце обра -я в 1830 году, переведя с французского статья "О землетрлсопи-Сднако, благодаря лиржо-змсгпональнсму началу (для Герцена г.терному), перед глазами читателей предстает не столько факто-ческая "картина действий подземного огня", сколько требующая с-":энпя трагическая коллизия человеческого и стихкйно-природно-"Сачое ужасное опустошение, производимое огнем, соаятавдем я.?-ланету, есть землетрясение. Его невозможно ни предвидеть, ни •г.ать (...) Если б и было время - куда бежать,, в каком направле-" Не трудно увидеть, что в сочинении Герцека "Из Римских сцен оз:::е-"С того берега") отражена та же "пиковая", трагическая спил затишья перед катастрофой, только теперь - исторической.
Трагическое положение человека, беспомощного перед силами ,
внеположными ему (природы, времени, истории), перед силами, обре кавдимп его на страдательное положение, на полную зависимость от внешнего, - "верхний" предел в размышлениях Герцена о человеческой' судьбе. .
Но человек сталкивается с силами не только внеположными ем но и с'подземными силами", таящимися внутри него самого. Нельзя видеть и эту лилию в размышлениях Герцена. Она прослеживается уж в его ранней философической аллегории "3 августа 1833 года". В в тре-изображенной Герценом картины - вулкан: "Огонь раздирает вну трвнности горы, пробегай и клокоча в подземных переходах, проси: наружу - вырвался!" Коллизия интериоризуетсл, переносится из вне него плана во внутренний. Это трагическое бессилие перед раэруш тельной энергией своей собственной, "подземной" природы,- своеос разный "нижний" предел проблемы человека у Герцена.
Указанные темы и мотивы, занимавшие в 30-8 годы все же пе} ферийнээ местоположение по отношению к магистральной для Герцен; провиденциальной логике, в 40-э в наивысшей степени октуалиэиру) ся, становятся для него реальной, практической, каждодневной жи: иэнной задачей. Случай, вторгающийся в индивидуальную человечес: жизнь, сродни вулканической катастрофе: он стихиен, а потому вс да непредвиден; непредсказуем; он парализует волю, лишая возмож ти какого-либо противодействия. Неустойчивость, шаткость всего дивадуального., его зависимость от внешнего - лейтмотив и дневни и инеем Герцэиа-этого периода. Одно дело, когда человек оказив ется в незначительной ситуации поред лицом природной или истори ческой катастрофы, но совершенно другое дело, когда искл синель хахтусциеК оказывается сама жизнь. Однако такое расширение поля кризисного напряжения до масштабов жизни в "<?лом, как то ни ш-дохсальпо, прадоставит Герцену возможность найти выход тизш хюго тупика. Кисль о том, что природа не знает прямолинейно:^ т вития, а значит,- и строгой детерминации (впоследствии спроецщ х-аииая и.на историю человеческого общества), била тс;.: торчком, торнй позволял Герцену сначала отностись к случав "трезво",- к; иеотьемлсмой черте уцввбрсуга,- п. затем наполнять его поздгшлс содержанием,- отнестись к случав как к условия для рэачиаацкв ] личных возможностей.
•Взгляд на жизнь как на -динамическую систему, иишоицу» : непрерывный процесс самоорганизации и самораспада, г- кр«г,;ч80ч
~е годы стал для Герцена своеобразным "подспорьем" для выработки ратегической линии жизненного поведения: жизнь "шатка", но это значит, что "лучше не родиться или, родившись, зарезаться, чтоб подвергнуться случайностям". Для того, чтобы если не предот -агить, то хотя бы уменьшить возможность нанесения случаем 2<атас-офического удара, необходимо быть внутренне к нему готовым: лп случаю в наибольшей степени подвержено слабое, неустойчивое, товое разрушиться от первого толчка, то ему необходимо ггротиво-ставить твердость и силу. Таким толчком, ударом, катастрофой в ере межчеловеческих отношений может- оказаться для человека "про-ая" жизненная ситуация, когда разные существования "подходят изко друг к другу", сталкиваются и оказываются не перед липом ихии и не перед лицом исторических катаклизмов, а просто-напрос-перед лицом "другого".
'Сптуация катастрофы в человеческих взаимоотноаениях, при ■торой "внутренняя случайность чувств учреждает х:изнь вместе'с -ешней случайностью обстоятельств" (см. "По поводу'одной драмы"), 'рат.ает и новый этап (в 40-е годы)' развития "г.улкзчет«ской" темы Гориена и становится для него главным проблемны?/: узлом в размыканиях о человеческой судьбе.
Для Герпена событие в с т р-е ч и всегда было исполнено >сбкм значением и смыслом. Именно "в точке пересечения сушество-ший", в точке их взаимодействия в полной мере давала о себе . щть мучительно искомая Герценом тайна человеческой "особности". • Я 30-е годы Герцен задумывает серию текстов' под общим знаме-■аелънш заглавием "Встречи". Конечно, учитывая герценовскую устой-5вую тягу к биографическому повествованию, должно превде всего .'.осматривать эти "встречи" как биографические звенья, что совер-гшю очевидно. Но было бц неправильным остановиться на' этой' впеш-эй стороне. Гораздо важнее другое, а именно то, что позволяет ечк-иь для Герцена "встречу" понятием категориальным: ее внутренняя энергетийноеть", сталкивающая людей, притягивавшая их друг к дру-у ("Вторая встреча") или, напротив, отталкивающая друг от друга "Первая встреча"). Однако "притяжение" и "отталкивание" - не ис-ерпывгщее провиденциальную встречу взаимодействие. Другая интер-ретацвя встрпч.прослеживается у Герцена тогда, когда его внима-ие сосредоточивается на тех взаимодействиях в "точке пересечения угтествогониЛ", которые отклоняют, иэменйст и даже прэрываот Линии
жизненных судеб. Последноэ происходит тогда, когда "близко подходят друг к другу", "пересекаются", "соприкасаются" существования разно-природные.
. Романтическая идея демонической сильной личности, одно лишь соприкосновение.с которой губительно само-по себе, была особенно привлекательна для раннего'Герцена. "Зачем подошла ты так близко I моему существованию?- вопрошает герой повести "Елена"(1838г.)Нг мне проклятие, я гублю все приближающееся ко мне". Уже в этом, пог еще риторическом, "з&чем" - попытка Герцена "нащупать" то в человЕ ческой природе, что вопреки рассудку может вести его к неминуемой гибели. В самом доле, можно ли вменять-в вину князю то, что ему ."шесто крови... влили огонь в жилы", т. е. салю существо его природы? Да и мо.же'г 'ли идти речь о вине, если сама жертва благословлю ёт свою судьбу? Б "Отдельных ынслях'Ч 1836г.) идею разнопрцродност! человеческих существований Герцен попытался даже оформить в виде своеобразной типологической классификации: есть лвди, назначение I тори состоит в тем, чтобы бить брандером (огнем разрушительным), есть другие, назначение которых прямо противоположно,- быть фаросс (огнем спасительны:.!).
Б кризисный дня Герцена 40-о годы романтическая идея гибель посги-сопрнкосноЕзнпя различных существований наполняется шшм см1 лови*.! содержанием. Углубление к усложнение представления о челове .ческой "особиостп", ев структуре и характере межличностных отлошэ шШ грпгело к к усложнении "структурц" встречи. В "Кто виноват?" она (встроча) - своеобразный уззл, в который вплетены разнодейств] К£3 и разновеликий соц. Эхо усложнешю связано г с актуализаций сдучс&ноатного фактора: помимо того, что лишенная .романтико-прови дошткалысто толкования встреча случайное!па, ,гррацис:'альна сама I себе, в Ш)11 з&лО.зка непредсказуемость и иного порядка, с^'зонная необходимость:'» реакция ("отвита") 'на воздействие другого "Я".
Встречи Любоньки с Кру1и:|орсклм и Вольтовым составляют но аолъг.о стяетсэбразукжие званья романа, ко и смысловые центра до т дела обострившееся к -концу 40-х годов г-эрцоповской ащропологичос; задачи.•
Встреча Крушфорского г. Любоньки нарочито преподносится как ■ :.ачто предсказуемое и не случайное. Однако в основа свсой о та вот] ча для Герцена, бозусловна, случайна: - возш'жшпй сег'.эРикй аавдеа рг ручается 01' ис-рвэгочю'ипшззго- его дайра. тг/.::уо, разрушает да.э 1
' - 1С. -
ам "удар" (рель которого, как известно, отведена в романе Влади-гру Еельтову); Бельтов выполняет, скорее, "кумулятивное действие", . е. создает такух ситуацию, при которой активизируются вкутрен-1е разрушительные процессы: сильный человек (Любонька) не может не зоявить своей силы, а слабый (Крупиферскяй) йе может не испытать зздействие этой силы на себе. Таким образом, давняя, переживаемая грценом мысль о губительности соприкосновения "разноприродных" су-эствованлй "вошла" (как одна из составляющих антропологической эа-1чи) в его главное художественное произведений 40-х годов.
Встреча г? Бельтова я Любоньки, напротив, для Герцена лишь энещне" случайна, несмотря на- весь ее случайностный антураж. Ощу->ние внутренней неслучайности этого события не оставляет читателя зеяеде всего потому, что случай, благодаря которому пересеклись су-¡створаняя зтих персонажей, еще и тот самый случай, который и пе~ >д Еелътовет., и перед Крушйерсхой открывает новые, дотоле неведо-19 им возможности. Для Еелътога эта встреча исполнена глубокого 'ысла и значения: она для него последняя попытка реализовать себя: и Круцпфзрской же встреча с Б<эл".ьтовым открывает возможность обре-шия того, к чему "неосознанно стремилась ее душа",, и прежде все-| - возможность понимания. Таким образом, идея о случае-возмо.тснос-; такяэ вошла как една.из составляющих задачи в герценбвекий ро-
1н.
Однако для Герцена очень важным было следующее обстоятель -■во: для того, чтобы случай ног проявить себя как 'случай-возмоа-|сть, необходима внутренняя к нему готовность; -в человеке должна :т.ь внутренняя поте толп к теку, чтобы и "уловить" згу возможность, "ответить" ей. фактор "внутренней готовности" для Герцена был ■сеобразннм "индикатором", позволяющим расгозйарать случайност. -сть или инслучайнсстность индивидуальной человеческой жизни, ее ографни. Поэтому понятие биографии у Герцена нельзя трактовать лько как то, что "откладывается" в человеке под влиянием различ-го гола условий и обстоятельств без учета "силовой" им сопротгв-емости. "Биографию" следует рассматривать как понятие для Герцена утренно напряженное, как сеоого рода, опять-таки, антрополопгчес-ю задачу: если в человеке лег достаточной силы, готовности к тречп с внешним,- его биография "поглощает" его самого, делает ручкой в руках обстоятельств, социальных условий и - слуая. За-тим, чго "олеряательпзл структура главного автобиографического
произведения Герцена "Былое и думы" развертывается на скрещеш "внешнего" и "внутреннего" в "человеке, случайно попавшемся не (истории.- С.С.) дороге", который проживает не случайную и для тории, и для него самого жизнь.
Заключение. В заключении подводятся основные итога иссле вания и обрисовывается его дальнейшая возможная перспектива.
На материале диссертации опубликовано четыре работы:
1. Савинков С.В» Категория случая и типология характеро! художественном ынре Герцена: "Кто виноват?"//Целостность худоя венного произведения и проблемы его анализа и интерпретации.-иецк, 1992.- С.106-108.
2. Савинков C.B. "Дилетантизм в науке" А.И.Герцена: бнбл екай семантический план//Тезнсн 7-ой межвузовской научной ког4 ренцли молодых ученых.- Липецк, 1993.- С.64.
3. Савинков C.B. Роман ."Кто виноват?" в контексте яизнеи мира Герцена 30-40-х годов//Проблема автора в художественной i ратуро.- Ижевск; 1993.- С.96-105.
4. Савинков C.B. Метафоры кризисных ситуаций в прозе pat Герцена//Кормановскио чтенля.- Lùobck, 1994,- Bsui.I.- С.129-13
т .;о л 90 1/1П