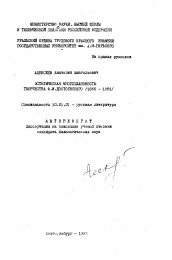автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Эстетическая многоплановость творчества Ф.М. Достоевского (1866-1881)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Эстетическая многоплановость творчества Ф.М. Достоевского (1866-1881)"
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯОЛ1/?,1КИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УРАЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.М.ГОРЬКОГО
На аровах рукописи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Анатольевич
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ .МНОГОПЛАНОВОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО /1866 - 1881/
Специальность 10.01.01 - русская литература
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой ст&иеня .•сандцдата филологических ыаук
Екатеринбург -
1993
Работа выполнена в Уральском государственной университете им. А..М.Горького на кафедре русской и зарубежной литературы филологического факультета.
Базпшй руководитель - доктор филологических наук,
профессор Г.К.Щенников
Официальные оппоненты- доктор филологических наук,
профессор Г.Б.Курлявдская
кандидат филологических наук, доцент Ё.К.Созана,
Ведущее учрекдекио - Екатеринбургский овдёда Знак
Почета государственный педагогический идагитут
Защита состоится
на заседашш специализированного совета Д 063.78.03 но защите диссертаций на соискание учзной стеивни. доктора филологических наук при уральском ордера Трудового Красного Знаавни государственном университете им. ¿..М.Горького /S20083, г. Екатеринбург, к-ез, пр. Данина, 51, комната 248/.
Л '.>■
С диссертацией ыогшо- ознакомиться в научной библиотеке
Уральского государственного университета.
Авторофераг разослан " 'Э " января..._1993 г.
о
Учений секретарь специализированного ооЕета калдп~ат ^алолоигаскях ааук, дэцзнт
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
с*
Проблема эстетической многоплановости творчества Ф.М.Доого-0 вс ко го - сщпа из самых назревших в достоевсковедешш. НИ концап-цая ршана-трагеднп, представленная именами Вяч. Иванова, Д.С.Це-рекковского, Ф.И.Звшша.'В.Я.Кираотина и других исследоваталвй,
ей полоаенив Ы.М.Бахтина о полифонической рэиане как наследнике карнавальной культурной традици- не дала убедительного ответа на воярос, какие эстетические составляющие и в какой внутренней соотношении легли в основание творчества гениального русского писателя. Однако эстетическая многоплановость рочаков Достоевского несомненна: трагическое тесно переплетено в них с буффоинш а щу-товсшм, "мистерия" с "фарсом", эстетически позитивное с эстетически нагативнш.
ОБЬЕКГом диссертационного исследования как раз н является эстетическая структура творчества Ф.М.Достоевского периода его великих романов /1866 - 1881 гг./.
АКТУАЛЬНОСТЬ теми исследования определяется научно-теоретической значимостью исследуемой проблемы: ее неразработанность объективно то¡мозит создаше общей концепции художественного ыыалэ-ния Достоевского, которая обязательно должна опираться на представление об его идеологии художественной Форш. В этой связи ваано уяснить астораа восприятия цафоса творчества гениального писателя в русской критике /кал в до-, так и в послеоктябрьской/, а также специфику бытоьашя в его произведениях так называемых объективных эстетических кате гори;! /возвыша нного, трагического, комического и т.п./, их взаимодействия друг о другом и влияния на эта процессы авторских установок. Вследствие обнаружения в произведениях Достоевского синтетических астатических явлений /траг'лнеми-ческого, комивозвыпвннного и т.п./ встазт также вопрос о культурно-эстетических и литературнпх грщицилх, продолженных художником в его творчестве.
ПРЕДМЕТОМ диссертационного исследова.чия является эстетическая многоплановость и синтетизм творчества Ф..\'.Достоевского 1866-1Б81 годов, в основе чего лахит совмещение нормативной и релятивной эстетик литературного творчеству. Их коренное различие состоит в то; , что нормативная эстетика опирается на представление
об едином выссйм идеале, кснататуирующем эстетическую норму, а релятивная - напротив на утве ¡рдение об относ дельности любо- Л -
го идеала и отрицание всего абсолютного. При этом исследователь сознательно ориентируется на изучение художественной практики, а не теоретических высказываний писателя, поскольку она часто не п лучала в них адекватного отражения. Это обусловлено тем, что Дос тоевский-худокник корекнш образом отошел от принципов кдассичес кой западноевропейской эстетики. И хотя некоторые черти его худо жесгвекзого лишения бшш до шс описаны и.М.Бахтйнш, Р.Л.Джексоном, П.¡¿.Чирковым, ВЛ.Кираотшшм, Г.Ы.Фридле*"дером, Г.К.Щенни ковш, Р.Г.Назировш, ряд аспектов остался за гранью их внимания Наш диссертационное исследование пытается восполнить эти пробелы и сформулировать общие положения "практической эстетики" писателя. Б этом и состоит его НАУЧНАЯ НОВИЗНА.
ЦЕЛЬю исследования является формирование научной системы, ошшнвающей эстетическую структуру художественного творчества Ф.Ы.Достоевского. Это ставит задачи;
- разработки, органичных для писателя этико-эстетических категорий, имеющих выход в религиозно-философский аспект;
- выявления соотношения нормативного и релятивного начал в его произведенияхV
- выявления традиций в области литературы и искусства, подготовивших появление эстетической многоплановости Достоевского;
- исследования механизма выражения авторской позиции в эсте тической структуре характера, сюжета и композиции;
- воссоздания на основе анализа амбивалентных героев писате ля характерологии. Ф.М.Достоевского.
Что касается ТЕОРИ^СЬМЕТОШОГИЧЕ^чОЙ ОСНОВЫ, диссертации, то общефилософской базой ее послужили труды И.Канта, Г.В.Ф.Гегеля, М.М.Бахтина и прот. В.Зеньковского. В вопросах эстетики авто опирался как яа работы упомянутых выше авторов, так и Ф.Шиллера, Ф.В.Шеллинга, В.Г.Белинского, М.С.Кагала, X.Ортеги-и-Гассета, Да Стейнера. Методология исследования "практической эстетики" Досто евского выстраивалась также с учетом разработок Н.М.Чиркова, Р.Л.Джексона, И.А.Рацкого и К.С.Грке, вводящих в нау-шй обиход кардинальные для нас понятия. И, кроме того, диссертация учитыва ет богатейшую литературоведческую традицию, представленную имена ил Н.А.Добролюбова, А.Л.Волынского, Д.С.Мережковского, Вяч.Иване ва, Л. Шестова, Н.А.Бердяева, В.Ф.Переверзева, Л.П .Гроссмана ,Ф Л' Евнина, Г.М.фридаевдера, Г.К.Щенникова, р.Г.Назарова и многочисленных современных российских и зарубежнчх исследователей. .
- 4 -
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ состоит в том, что ее резу-в*-:аты могу» быть использованы в обиуц курсах истории русской днто->атуры XIX века н теории литературы, при подготовке спецкуроов в швцсеминаров по творчеству писателя, а тагсле при дальнейшей ас-1Л9Довшши художественного мшчлвння и "практической естотшш" До-1Тоевокого. Кроиг1 того, разработка проблемы соотношения трагачео-сого и трагедийного, релятивного художественного мышления и меха-шзыа возникновения н фулнцаонитования ¡»литшзнш: зогетичаоких сатегорий цредотавляат интерес для теоретической астотпки.
АирОБАЦИЯ РАБОТЫ проводилась в форлз докладов на ыеквуаово-сих научннх ..онференцкшс "Проблемы взаимодействия метода, стиля а ¿аира в литературе" /Свердловск, 1989/, "Критика а публицистика в шотеыв духовной культуры" /Тюлень, 1992/ и 'Проблош характера а штературе" /Челябинск, 1990/. Диссертация оосуадллась на вааеда-ши кафедра русской и зарубанной литературы Уральского гооударзт-10иного университета /оентябрь, 1992/. Основные полозания диссертация отражены в 4-х публикациях.
СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и описка литературы. Содержание ¿хзлозоно 1» 225 яраннцах шшлнонисного текста, сшсок литературы вшночаот 20+ хадие новация.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДйЗСЕгТАЩШ
ВЕЕДЕНИЕ иооьяцзно обоснованию актуальноеш хеш исследования а ее научной новизны, а такие сивцв^дка, раскрытию аитодоло-гии исследовательской работы, ее цели л основных за.дач.
Поскольку вплоть до последних десятилетий проблема зотетичв-зкой специфичности творчества Достоевского затрагивалась критикана к литературоведами преимущественно в русле проблемы его пафооа, гема ЦЕРВОЙ ГЛАВЫ - "Проблема пафоса тзорчоотоа Ф.Ц.Достдовокоуо Н руо.пклп критики саратге» \ГП - XX ы&хов".
Цервыч из русских критиков, обратив:шхся к творчеству писа- . геля,был В.Г.Белинский. Он сразу не ошетил эотетичеокую олозшоом пафоса его ранних произведении, охарактеризовав его. чак сочетаю» глубоко патетического и трагического тона и колорита с одориота-чо с ¡ты элементом, т.е. как синтез эстетически противоположного. Конечно, многое в этом определении еще отсылаю читателя к Гэголв, в русле творческой традиции котогого формировался раншл Достоевский, по в указании на эототичоскуи многоооотавнооть творчества
- 5 -
писателя Белинский оказался чутче наследующей критики XIX века. Только в IX столетии на это будет указано вновь. Продолжавшие тр дации Белинского представители демократической, критики - такие, иак Н.А.Добролюбов, В .Ф Дереве рзов - воспринимала творчество Дос
тоевского как однопладаво-трагнческое, выражающее протест личное против уродливости н отсталости социального механизма. Это било вееща далеко от реальной позиции сапога писателя, что в яонцо концов ираволо к резкому обострению отжшений ыезду ши и этой критикой /в лице Н.К.Михайловского, П-Н.Ткачева и др./.
Значительно ближе аодоаша к позиции художника религиозно-фи досовская критика /В.С.Соловьев, В.Б.Розанов, Д.С.Мерегковский, АД .Волынский, Вяч.Иванов, Д.Шестов, С.Н.Булгаков, Н.Д.Бердяез/, пчитавшая глаззншь. проблемами илсаталя релитюзно-философскиз. Сна тока воспринимала его пафос как эстетически одноллановый и стремилась к своеобразной отозд^стелешш ею с пафосом античных трагедий /т.е. считала не трагическим, а трагедийным/. Наиболее полное воплощение такой подход получил в работах Морешсовского в Иванова, которые питались не только перенести на творчество русского писателя художественных идеологию трагедии, но и обнаружит
у него приемы, сходные со сценическими. Они заложат основа школы романа-трагедии, довившей до наших дней. Ь то ке время Ме-рекковскоиу удалось подметить у Достоевского этико-эстетическую двойственность ряда героев, осмысленную критиком в свето категории "оиошашюго-смеизюго". "СМешанное-смсшос" возникши как ав-торскал оценка склонности .героя к зтико-рс.лшгшэзпому компромиссу и отказу от бозуарочвого следования идеалу Богочеловека ила Ч^ло векобога. Несмотря на гояность объяснения, сам факт обнаружения атого явления таил в себе возможность выхода к вдоэ ©стетвческой много плановости. К сожалению, эта находка бшга современниками "потеряна". Более плодотворной оказалась идея Вяч.Иванова, что герой Достоевского поставлен автором в условия, когда он долаэн ареодолеть свое трагическое одиночество, утвердив чужое "я" как другой полноценный субъект /"ты esa"/, подготовившая появление бахтинскои концепции полифонического романа.
¡J.;,¡.Бахтин принципиально отказался от соотнесения романов писателя с трагедиями, заявив, чхо Достоевский опирался на трада ции диалогизированиой и карнавализованной литературы, а не драма турглл. оя указывал, что лхмЗой односторонний пафос /в частности храх'кчоский/ писатель передает своим героям - "голе:- а в еда
- G -
ou полифоническом целой такие составляющие, взаимодействуя, образуют сложное единство."Фактически он говорил об ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МНО-ШШЯОВОСТИ романов Достоевского, потому что открытый им принцип художественного полифонизма на эстетической уровне проявляется швнно каа шюгосоставность и многоплановость. Однако, ярко обрисовав релят. вное начало лудозественного мышления Ф.М.Дрстоевского, Бахтин почти не затронул ио£мал!ивцу® -состаалящуы, а также явно преувеличил роль в его творчасггш '"редуцированного" смеха.
Эта недостатка вызвали резкую и нередко весомую критику со стороны советских последователей школы романа-трагедии /ф.И.Евнш, В.Я.Кирпотии и др./, чья позиция объединила отождествление романов
Достоевского с трагедиями с социологическим объяснением их в руо-ле традиций демократической критики. При всей глубине литературоведческого анализа /особенно у В.Я.Кирлотива/ представители этого направления уступали Бахтину в главной': они трактовали пафос Дро-тоевского как одноплановый, а его романы как монологические. Это привело современное литературоведение к осознанию недастаточноста их подхода и к пониманию того, что наступило время, когда необходимо, подобно тому, как это сделал когда-то Белинский, рассмотреть эстетику произведений писателя как сложное ваанмодействие целого ряда эстетических компонентов, приняв ори этом всо ценное, что было достигнуто при расчленяющем, шшлатичаском ее изучении.
ГЛАВА ВТОРАЯ - "Црирода и истоки эстетической многоплановости у Достоевского" - поснящена разрешению именно этой задачи.
В основе эстетической многоплановости творчества Достоевского лежит синтез норлативнох'ои релятивного видов эстетика. ScjM
цервы:! вид эстетики базируется на категориях, подразумевающих од-ноплановую, однонаправленную оценку по принципу "положительный -отрицательный" /прекрасное, безобразное, возвыканкое, низмчнное, трагическое, комическое, величественной н т.ь./, то второй - на категориях типа трагикомического, дающих "дьоя.с(укся", амбивалентную оценку и далеких от всякой однозначности. При этой релятивные категории возникают путем совмещения противоположных по знаку, но близких по природе нормативных /трагического и комического, возвышенного и низменного и т.д./. Это отвечало стремлению Достоевского к изображению "раздвоенного" человека, в котором идеал мадонны "смешался" с идеалом содомским, и который поступает в соответствии то с одним, то с другим из них. Релятивное
- 7 -
художественное начало совмещено в его произведениях с нормативна* такам образом, что видимое отсутствие однозначна го авторского приговора в отношении героя на протяжении романа компенсируется в художественном целом достаточно четким соотнесением его с авторским идеалом, содержащимся в произведении.
Стремление русского писателя к многогранному пониманию и воспроизведению жизни, во всей ее противоречивости привело к формкрс ванию у него особой художественной форш, названной Бахтина« полифонической. Полифонизм этот получил свое воплощение на всех ур: внях романа Достоевского, в том числе - и на эстетическом уровне /как эстетическая многоплановость действующих лиц и сшатш-ксм-позиционной структуры/. Специфика его функционирования на уровне эстетики конкретнкх героев писателя состоит в том, что пока авто| находится на позиции "согласия - несогласия" /другими словами, к релятивной авторской позиции/, прозревающей в одном и том же явд ния сосуществование достоинств и недостатков, силы и слабости, положительного и отрицательного, эстетически позитивное оказывается накрепко связано с эстетически негативный, образуя конституирующую образ релятивную категорию /так Степан Трофимович Верхо-венекий предстает перед нами в центральных главах "Бесов" в. качестве последовательно трагикомической фигурц/. Когда ке автор переходит на позицию оценки-приговора /"положительный - отрицатель пый"/, релятивная категория разрушается с переходом в нормативную позитивную /в данном случае - трагическое/ или негативную /к мпчаское/ категорию, закрепляя тем в сознании читателя авторские оценку и отношение. Не удивительно, . что в начале романа, когда авторсхсое отношение к Верховеыскому-старшему преимущественно отрицательное , в этом образе доминирует комическое начало, а в финала, когда оно меняется на позитивное,- трагическое и трогательное.
Истоки эстетической многоплановости Ф.М.Достоевского восходят к Новому Завету, а точнее - к. четырем Евангелиям и Откровению Иоанна Богослова. Между полифонической позицией писателя и
заповедью Христовой "Не судите, да не судимы будете" существует глубокое внутреннее соотвествие. устанавливая равенство судящего и судимого пред Богом и Его Истиной, заповедь эта требует по-стояшюй проверь своей нравственной безупречности и неторопливости с этическим судом над ближним. Истина Боеия несказуема, иб концы и начала земного быхпя скрыты от глаз человека, но это не
- 8 -
означает, что ее кет: она воплощена в образе хршта, явлладогоод вегнш нравственны* ориентиром. В соответствии о этим пршщдаои относятся к овоим геровд и Ф.М.Достоевский, не спешаци!! поле ляп их ва добрых и злых, а терпеливо воспроизводящий вою двойственность и противоречивость юс дута. ПОИШШ1Я русского писателя ХУ-ДОНЕСТВЕШи 0Ф0К.1ЛЯЯА Е.£1НСТ30 ИДЕАЛА ХРИСТА, проявлявшегося в красоте шдонвн /эстетической эквиваленте Бога/', И ИДЕИ НЕСКАЗУЕМОСТИ ЕОКЬЕЙ ИСТИНЫ, вотетичег-щ* а:шивалоптои которой вштуна-ло редятивно-даалогичеокое начало. Ее основа била рэлигиозно-гра-отианской. Идеологический принцип Четвероевангелия стал у Дэото-евокого принципом фэрлы.
Однако и сама онецифичас/яя форла Четвероевангелия, кохда повествования четырех различных авторов об одном и том ко Лица оказываются для верупцих одинаково авторитетными, насыотря на вэ-которпэ несовпадения, в представляют ообой единое пронзводенио, тоаэ готовила худокественнуто идеологии Достоевского. Она приводв-ла к выводу, что четыре различных взгляда на одно п то ко Лицо /или на одну и ту ае истину, поскольку Христос был зешгьм воплощением Истины/ ПРИ УСЛОВИИ ВДЗЕСГБА ИДЕАЛА у оудяцлх о ним мот считаться в равно И отеиени справедливши. В ооответстсиа о этим представление Достоевского о множественности взглядов на истину порождает в его ¡лире релятивное, а наличие цдоала Христа - нормативное. На уровни эстетики нормативное и ролятнвное олпваютоя в едином синтеза - о эотвтцчоокоИ многоплановости произведши!;* пиоателя. В этом плане творчество Достоаьокого принципиально отличается от произведение представите да ¿1 заподнывропа Некого иоку-оотва, где развитие релятивного начала было связано о утороЯ религиозного идеала и ощущущэншм относительности всех суцеотаущвх цанноотей.
К Новому Завету восходит и представление русского художника об амбивалентности челове ческой природа, получившей прямое воплощение в эототачеокоп двойственности его героев. Что яя касаотоя Апокалипсиса, то в нем он видел авторитетный образец разрешения художественной задачи типизации грядущего, над рзтониом которой так много бился в кавдом из романов своего "пятикнижия'*,
Хриотиаизкое/точнее, народно-православное/ продсхо-аадниа имело и предотавление писателя об обязательности прохоадения догч-
- ностью в ароцосоо сгоего етановлиш : через "снорть-воокросениа". Это-переосмысленная илоя православной Пасхи. Это продотавлониа
- 9 -
обусловило большое место трагучзокого в произведениях художника, но оно ке и принципиально разводило его о авторами классических трагедий. Достоевский считав, что как Иисуо Хриотоо прошел в своей земной оудаба через СБЯЗАТЕЛ&ЮЕ унижение и поругание, чтобы, воскреснув, явлтьоя в ит в виз них силе и славе, так и обыкновенный человек прохода® в кизни через свою "Гэлгофу" а "несет овой кроот". Он обязательно должен пройти через катастрофу, явлиедугоя л иокушыием, и очвдокии»'Д кашаимости- от того, как он выдер-кит испытание/. Автор ставал- в такую ситуацию многих своих героев: Ваоколышкова, Сон» Мармеладову и ее отщ, [Патова и Кириллова, Ставрогида, Ивана и Дмитрия Карамазовых и дате Алаяу /попитание "тлотворнл! духом"/. Это означает, что трагическое у Достоевского не фатально и на гибельно* как у гревних греков /за ним нет злого рока/, оно, конечно, катастрофично, я, как вовоякой катастрофе, в вам ость элемент разка, ко оно спасительно для человека, поскольку дает эму возгонноеть-добиться к сшой сердцевине бытия - к Боаьей Истине, у Достоевского ЕСТЬ ТРАГИЧЕСКОЕ, НО НЕТ ТРАЩИ&ЮГО!
Идея "смерти-воскресения" обусловила значительную роль в 80-гегике писателя категории надкого. Ииоуо Христос в мамонт поругания в позорной смерти на кресте быдне только трагичен, но и ЕА-Д0К1 жалкое как категория прямо противоположно величественному. Если в величественном высо^лй идеал торжествует, выступая в безраздельных славе и могуществе /так, что ему дака и побеждать ш требуетоя - в отличие от героического, ибо его сила а мощь несомненны/ , то в валком он, задавленный и поруганный, отчаянно-робко заявляет о, своем праве на существование. Жалкое астатически оформляет идеал, побежденный действительностью, загнанный ею в угол. Большинство иодакатальных героев Достоевского несет на себе отсвет этой категории.. Она характеризует /наряду о другими/ князя Ышкина - в ситуациях, когда его оскорбляют и теснят, Соню Марме-мадову, которую вообще невозможно анализировать, не учитывая жалкого, ¡.¡авршшя Николаевича, е.тоящего на коленях по капризу Дивы Дроздовой, и др. Достоевский часЛ изобрааал истину в нелепом, калкш ила смешном облиши, что не означало ее поразения, а было особой формой внесения ее в мир, где даже высшие начала вынувдены проявляться во всем несовершенстве земной форлы. Истоки такой в>-тетики восходят не только к раннему христианству, но и к русской традиции юроцивше,
Писатель опирался, однако, не только на традиции христиане® -православной культут но и на непосредственно пред [чествовавшие , ему литературные традиции амбивалентного шора и романтического гротеска, первая из которых а значительной степени восходила к европейской карнавальной культуре /и к ней «в возводил во этой причине полифонию Достоевского Бахтин/. 0<5э они были кореннш образом переосмыслены и трансформированы художника* в соответствия с его христианской эстетикой, именно она, а не карнавальные элементы, была основой его полифонии.
Традиция амбивалентного шора /С.М.Сервантес, Ж.,-П.рнхтер, ЭоТ.А.Гофман, Н.В.Гоголь, ранний Диккенс и др./ демонстрировала Достоевскому один из возможных вариантов совмещения сильного релятивного начала, господствующего в изображении.,с норматавнш авторским идеалом. Один из сьмых любимых художником образов мировой литературы - образ Дон Кихота - эстетически конституируется взаимодействием комического а возвышенного /релятивная катзгоргя ко-нивозвышаиного/. При этом нормативное начало у шористов обычно связано с наличием в их произведениях авторского голоса шш персонажа, крайне близкого автору по взглядам. Шор, несомненно, готовил собой почву для эстетической многоплановости Достоевского, хотя применительно к нему логичное говорить об эствтичвской амбивалентности. Отношение самого писателя к шору было досгато^-ю сложнш. С одной стороны, он чрезвычайно высоко пенил образ Дон пахота-, в котором находил христианскую идеи вечного порывания ча-повока к высшему идеалу через трагедию земного несовершенства, и, пзбид- творчество Гофмана и Диккенса, а с другой - весша скептз-юска*отзывался о пафосе Гоголя, выражая сомнение, есть ля за'этам звдшш смехом какие-либо незримые слезы, другими словами, присутствует" див этом шоре, кроме изображения несовершенства всего звено го , представление о горнем идеале. Сам жэ Достоевский по ири-оолб своего таланта не был склонен к комическим формам творчества, .¡то в любом случае делало для него невозможным включений в эту лиге ратурнув традиция, С другой стороны, в ряде своих произведений -цш ранних, так и: зрелых - он. не чуждался комического элемента, зчезвдно, полемически отталкиваясь от этой традщеи, хотя и чувствуя ее определенную родственность; писатель с особенно! остротой 5щущал специфику собственного подхода.
Традиция романтического гротеска /Л.Стерн,- готический или 'черный" роман, 2.-П.Рихтер, Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь а др./ про- 11 -
¿шлялась в специфической совмещения обыденного и искав читального, правдоподобного и фантастического, привычного и пугающе го-не энако-ыого, что позволяло авторам столкнуть героя к читателя лицом к овцу с проблемой мирового зла. Если шор опирался на внутреннюю, оценочную двойственность /шкалу "согласив - несогласие"/ црк не- • коей внешней единстве /весь мир изображался через комизм и иронию/, то романтический гротеск при вношней амбивалентности /соединении комического и страшного, безобразного и трагического, фантастического а реального/ внутренне был достаточно однозначен и нормативен /в его основе - принцип "положительности - отрицательности"/. Специфическая атмосфера художественно трансформированного Достоевским гротеска явно ощутима в таких его романах, как. "Преступление и наказание" и "Бесы" /не говоря ухе о ранних произведениях/. На уровне характера гротеск был трансформирован художником ь атико-эстетический парадокс - совмещение противоположного, но одаоприродного по качеству в противовес совмещению разнопрн-родного, т.е. несовместимого в действительности, в гротеске. Тяготение писателя к сопряжению исключительного с обвденно-иривычнш, несомненно, восходит к этой же литературной традиции.
Создавая свою "практическую эстетику", вэликий художник сопрягал концы к начала европейского и русского искусства, одновременно и "модернизируя" его, и "архаизируя". К в этом смысле нельзя не сказать о влиянии на него эстетики и поэтики такого жанра массовой беллетристики середины XIX века, как рсман-фе"ъетон/Э.Сю, А.Дюма, ф. Судье и др./, с его ставкой на резкие, "театральные" аффекты, с намеренно не до конца отделанным стилем, где много "сырого материала", с ориентацией на занимательность и "сериадьность"-появление произведения в печати по частям, что требовало, с одной стороны, придания каждой такой части определенной самодостаточности /с наличием поддающегося осмыслению фрагмента сюжета с присущей ему относительной целостностью/, а с другой - открытости финала, прямо"указывающей, что "продолжение следует". Без этих адамантов , художественно переплавленных Достоевским в горниле своего христианского мышления и повлиявших на сюжетно-комдозиционную структуру его романов, он как автор просто непредставим.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ - "Эстетическая специфика хашктеш и сюжетцо-ксшозипионной структуры" - раскрывает закономерности проявления эстетической многоплановости в произведениях великого русского художника. ^
Ведущее место в художественном мире Достоевского всегда занимали герое, а не сюжет. Шенно с поиска героев начиналось у художника формирование очередного творческого замысла. Сюжет же преимущественно имел вспомогательное значение: он был полностью подчинен задаче их максимального самораскрытия в свете авторской концепции.
Еще современники русскою романиста отаечали, что определенные черты миросозерцания и мироотношения его героев кочуют из произведения в произведение. 1Л .Гроссман назвал это явление "возвращающимися обрезами". Эстетический анализ действующих лиц писателя /вернее, этико-эстетический, поскольку подход самого Достоевского был тркединш: этическое, эстетическое и религиозно-философское составляли для него три неотъемлемых стороны единого целого/ позволил выявить этико-эстетичэскую характерологию художника, в которой каждая из разновидностей характера решается в свете определенной эстетической категории /релятивной или нормативной/. Ери этом выявленная характерология учитывает и историософские взгляды писателя /XX, 172 - 175, 191 - 194/. Ее изложение составляет содержание § 1, который называется "Этико-эстетичвская хатактвто-дагия.ПоАТОввскога"-
Выглядит она следующим образом:
Т ДНЕ "ЗОЛОТОГО ВЕКА.". Это представители "детства" человечества, его минувшей патриархальной ясности, чистоты, и гармонии. Они изображаются писателем с помощью нормативной катеуррии ДРЕКВ1-СЕСЯГО. "Золотой век" был для Достоевского одновременно и прошлым человечестве, и. залогом и идеалом будущего. В его представителях совладали для писателя добро, красота и истина, и: только категория прекрасного, являющаяся формальным выражением достигнутой гармонии. и соразмерности, могла отвечать задаче художественного изображения зтих лвдей.
II ЛЦЦИ 310ХИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. К ним принадлежит подавляющее большинство действующих лиц. Для них характерно падение веры в высокие идеалы и, прежде всего, в Бога, смешение добра и зла л - одновременно - напряженный поиск истинного идеала. Природа людей вилизации расколота, они лишены внутренней цельности н потому ю могут быть прекрасными.
1. "Забитые" люди. Самая ранняя разновидность характера у Достоевского. До 'Преступления и наказания" ее конституировала категория КМКО-ТРАГИЧЕСКОГО /синтез жалкого я
- 13 -
трагического/, равно, присущая Макару Девушкину, Вареньке Доброое-девой, отцу студент Покровского, седее Горшковых, "честному вору" Аота$тэ Ивановичу н семейзхву Ишенавнх. Это люди, неоправед-днво униаэнныа и попранные жизнью и другими людьми, отброшенные на обочину бытия. Характеризующая их категория дает ни положительную оценку, т.е. не является собственно релятивной. Начиная о Цреотушения и наказания", изображение "забитых" становится ре-дятквнш: чиновник Мармеладов - пьяница, способный украсть у семьи в пропил» последнее, сена его мокет подтолкнуть в "алую" минуту падчерицу к торговле о обой, а семейства Капернауыовнх в Снегиревых заставляют вспомнить о тех увечных и бесноватых, которых когда-то исцелял Христос. Трагическое а валков соединено в них о отвратртельнш, где отвратительное поншаетоя кок нормативная категория, в которой не различаются безобразное и низменное /для художественной практики Достоевского характерно отсутствие мззду шшг четкой грашвд/. "Забитых" лвдей позднего творчества писателя в отличие от их ранних представителей модно назвать УРОДЛИВО-* ЖАЛКИМИ.
2.Люди "двух бевдн". Это действующие лжца, в которых смешение двух противоположных идеалов и красот достигает наибольшей сили. Их две разновидности.
а/ Теоретикя-рационалиоты /Раскольников, Терентьев, Кириллов, Смешной человек, Иван Карамазов а др./. Дня нкх характерно неразличение идеала мадошш я идеала содсмокого, "головное" их смешение вследстаие непризнания неоказувмооти Божьей Истины /оостающегося о сомнением в самом существовании Бога/ и преклонения веред рационалистической логикой, от которой они вдут ответов на цучащиа их вкзиотеицаальнда воаросн. Мучительные поиски ими иста-ны в духовной свободы не могут не вызывать сочувствия у читателя, во "последние" выводы их теорий в результаты их воплощения на практика пробуждают у него отвращение в ужао. В их эстетике доминирует релятивная категория УРОДЛИВО-ТРАГИЧЕСКОГО, розденная оинте-8ом трагического в отвратительного.
б/ "фавотвеню-широкие натуры" /еввдригайлов, Рогошщ, князь Ce pesa, Ддитрвй Карамазов, "ин|)ернальницы" в др./. они оые-шввают красоту мадонны о красотой содомской при различении двух соответствующих им идеалов /у рационалистов - вое наоборот/. В отличие от предыдущей разновидности у них в основе смешения лежат ваблувденмя оердца, а не ума. Суть их ошибок - в уравнивании нод-
- 14 -
вига и подлости по равносильности переживаемого ими upa этом аю-циональшго подъема. Из "беьдаы идеала" "широкие натуры" броса-, втоя в "баздпу оодонокув" о наоборот, одинаково доходя до послад-пэго прадеда хшк в порвем, так и во втором случае. Эотэтачемш они ропшгася через категория КРАЙНЕГО, образованную оошзщзнзеа возвшштого п 1ШЗМ9ЩЮГ0, яля которчх одинаково характорпо прэ-вшэнео меры в соотношении идеального начала /во втором случао -антнядеальногс/ о реальным в пользу идеального.
З.Лоди "золотой оеродпны". Так Достоевский называл лзадей ординарных, лтаэннж от природа семобц-тностя и таланта, но првтэццутецях на.ого наличия. Он выделял два яж раэювядиоотп: наиболее ограниченных - не оознащшг этого противоречия я спокойно считающих себя яркими личностями - такдз, как Лужян, до Гряо, Лзбэзятняков, Гэрщэпштубе, Келлер, Эркеда /оял мало ялтэресоваля писателя л всегда олуетли "фоном" для главных гароов/, а ординарпостой "о червячком". Послодккэ созпаэт носоотвототвпо своих способностей я амбиций и рада того, чтобы "внокочт из собственной козл", готозн на краЗпш лодлозть ила крайнее благородство. Впрочем, как правило, этого порота до конца они на вцдераивают. они вызывали у Доотоевокого значительный интерес.
Воах ордашарностей объединяет категория СЕРЕДИНШГО, образованная синтезом привлекательного о галрязлокатэльяш. Признанна зозвншенного и низменного в качества категорий, связанных о иару-езнпсц iiop;i з сторону парзвзса идеальною, застаиллат»тшга признать возиозность иорэиеса в пользу реального. Шенно такой пара-зео ирноуц категориям привлекательного л непривлекательного. "Сэ-родашшз" парсонаха обычно из вшивают сильных алоцай у читателя: наша сочувствие за достаточно кратковременно' /Добезятников, Ганя Цзолглы, Эркель/, а ах низостл а лресаушэная яровоцирута? чувство гадошвоотл, а на высокого ужаса /эрколь, Смэрдяков/. Однако ордв-нариосхи "о червячком" под действием болезненной потребности в оа-иоутверзденип способны на время вырываться аз"елабых" категорий привлекательного, непривлекательного и серединного к более "сильным". Самий крупный их представитель - Петр Верхованокий в момент наибольшего размаха своей деятельности переходит нз офары сз-рединного в сферу отвратительного. Но завэрзается ого романная карьера вновь возвращением к "слабой" категории непривлекательного /моиент отъезда из города Т./. В этом явно ощутам тенявщтозниЗ
- 15 -
авторский, приговор.. Достоевский вообще относился к орцинадаостям довольно негативно и потому часто разрушал оценочный баланс кате-го рш серединного в пользу непривлекательного.
4. Воплощения красоты, они не являются у Достоевского представителям следующей за цивилизацией эпохи развития. "Положительно-" и "отрицательно-прекрасные" люди вое-го лишь предельно ярко выражают своим существованием ситуацию необходимости выбора из двух ценностных ориентация: мадонны к содома, Христа е князя тьмы. Первые совершают его в пользу Христа, вторые - Его врага, г в этом смысле они являются для остальных действующих лиц воплощением и олицетворением этих сил, что тем га менее^ не превращает их в нормативные фигуры.
а/ Положительно-прекрасные" леди /Соня Мараеладова, кн. Ыышкин, Тихон, Зосиыа, Алеша Карамазов и др./. Здесь у Достоевского всегда господствует позитивная оценочность. При этом на образе кн. Мышкина происходит перелом от "мученика" /чьими основными категориями являются ЖАЛКО-ТРАГИЧЕСКОЕ и ЕАПКО-ВСОШ1ЕННОЕ/ к "подвижнику" /К0МИВ03ВШШН0Е/. В Мишкине совмещаются обе эти структуры. В то же время в образе Сони Маргеладовой господствует первая, а в остальных "положительно-прекрасных" - вторая. В этих образах никогда' не появлются отвратительное, так или иначе присущее прочим представителям цивилизации. Это объясняется тем, что данные герои уже прошли через духовное преображение.
б/ "Спрацате льно-п ре красный" человек. "Стопроцентно" частого воплощения его в творчестве писателя нет, но его чертами обладают такие действующие лица, как кн. Валковский, Свидригайлов, Ганя Иволгин и Ставрогин. это носители содомской красоты. Всех их характеризует очень своеобразное сочетание красивого и отвратительного /ОТВРАТИТЕЛЬНО-КРАСИВОЕ/. Красивое отличается от прекрасного тем, что затрагивает только внешний облик предметов и явлений, не калаясь характеристики внутреннего содержания, физическое совершенство "отрицательно-прекрасных" людей дискредитируется отсутствием совершенства духовного, более того - их духовной ущербностью и пустотой.
Опираясь на свою характерологию, Достоевский проводи своих героев через обязательную катастрофу, ставя юс перед выбором в пользу мадонны или содома. При этом происходило разложение конституирующей образ релятивной категории, и в зависимости от резу-
льтатоп выбора автор вводил свою оценку посредством оставшийся нормативной категории: положительную, если был выбрен идеал мзд<>~ шш, отрицательную - в противоположном случае.
Своеобразия характерологии Достоевского состоит в том, что в ней одинаково важны как иерархические, вертикальные отношения /н в этом смысле "положительно-арекраснне" лвди являют собой по отношения а другим представителям цивилизации наиболее высокую с ту -пень развития/, так и горизонтальные - сводящие всех действупдих лиц на одной плоскости, как. это и происходит в романах писателя. Нормативная вертикаль и релятивная горизонталь обладают у Достоевского своеобразной равноправностью а соответствии с сбщшж законами его художественной полифонии.
§ 2 - "Эстетическое, своеобразие свжетно--компо зтгипиной структуры" - посвящен исследованию бытования и взаимодействия нормативного и релятивного в сюжетно-ксыпозиционной структуре произведений Достоевского.
Нориативное начало связано в первую очередь с фабульной тенденциозностью, когда само движение фабулы, приводя одазх героев к поражению, а других - к спасению во Христе, ила демонстрируя моральную высоту и благородство одних и низость либо этическую "расщепленность" других, наводит читателя на авторюкуа оценку. В то ке время оно корректируется непрямо линейностью и извилистость» фабулы у Достоевского, нешыуемо тормозящей развитие действия и затрудняющей выявление нормативного авторского отношения, которое
легче всего прочитывается тогда, когда фабула сравнительно проста и схематична.
Нормативность присутствует и в определенной повторяемости судеб "возвращающихся" героев писателя. Это обусловлено их соотнесенностью с общей характерологией. "Личный" сюжет каздого из них изначально ориентирован на определенную эстетику. Прорыв из этого сюжета "вверх", к духовному преображению, сопровождается появлением возвышенного, "вниз" - отвратительного, релятивный же компонент более всего ощутим в вариативности этих "личных" сюжетов /в разных произведениях великий писатель пробовал различные варианты судеб представителей своей характерологии, не ограничиваясь од-нш-двумя/ и в открытости финалов произведений Достоевского, открытые финалы русского художника говорят об ограниченности авторского знания и неокончательности только что прозвучавшего приговора. В то же время самый открытый из финалов романов
Доотоевскогб - финал "Цратьев Карамазовых" одновременно и открыто тенденциозен. Мы вадим в нем "русского инока", окруженного полюбившими его наш - представителями будущей России. Это вновь подтверждает, что нормативное и релятивное образуют у Достоевского синтетическое целое на всех уровнях форш - в том числе и на уровне сюжетно-композиционной структуры.
Эта синтетичность заметна и в самой окрашенности действия произведений писателя: перебивах патетически-возвышенного резко-снихенным по эстетической окрашенности элементом /фарсовым, шуто-вскш, юродским и т.н./, трагического пошлда, трогательного цина-чнда, на что указывал в свое время Н.М.Чирков. Достоевский вообще тяготел к парадоксальному столкновению эстетически противоположного , »провоцирующему у читателя шок и активное включение в действие. Дня него было характере и введение в романы сюжетных линий, пародийно перекликающихся с линиями основных действующих диц ц снижающих их /линия капитана Дебядкина, мадам Хохлаковой в т.п./. В этом проявлялась не только релятивная художественная }•зтановка писателя на дополнение серьезного элемента противоположным, но я нормативная - на разоблачение ложных идей и страстей-"кадрывов" основных героев. В едином художественном целом, где все перечисленные элементы вступали во взаимодействие, они создавали эстетическую многоплановость на уровне сшета и композиции, без чего полифонический роман писателя не обрел бы своей стройности и целостности.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации кратко формулируются основные итоги и выводы проделанного исследования, а также намечаются перспективы его дальнейшего развития. В нем также указывается, что значительная роль релятивного художественного начала в творчестве Дэс-тоевского отвечала историческим тенденциям развития русского и западноевропейского искусства, однако у Достоевского релятивное никогда не приводило к утрате ценностной ориентации, к ршыванив идеала, как это сплошь и рядом происходит в искусстве XX столетия. В этом смысле русский гений по-прежнему продолжает стоять особняком.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикаг
циях:
1. Трагичвское и комическое в романе ф.М.Достоевского "Бесы^1 ' Русская литература 1870 - 1В90 годов: Эстетика и метод. Сверд-
- 18 -
довск, 1987., С. 73 - 85.
2. Эотетичесха. многоплановость творчества Дэстоевского //проблемы взаимодействия метода, стиля и ганра в литературе: Тез. кахл. Свергаовск, 1989. С. 58 - 60.
3» Эстетическая структура характера в' зрелой творчзстве Р.Ы .Достоевского // Проблема характера в литература: Тез. докл. Челябинск, 1990. С. 86 - 88.
4. Эстетическая многоплановость творчества ф.М.Достоезского Ч ?£орчество Ф.М.Достоевского: искусство синтеза. Екатеринбург, 1991. С. 204 - 223.