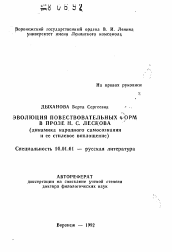автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Эволюция повествовательных форм в прозе Н.С. Лескова (динамика народного самосознания и ее стилевое воплощение)
Полный текст автореферата диссертации по теме "Эволюция повествовательных форм в прозе Н.С. Лескова (динамика народного самосознания и ее стилевое воплощение)"
л иь.ьг
Воронежский государственный ордена В. И. Ленину университет имен}! Ленинского комсомола
На правах рукописи
ДЫХАНОВА Берта Сергеевна •* -
ЭВОЛЮЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ «ЮРМ В ПРОЗЕ Н. С. ЛЕСКОВА (динамика народного самосознания и ее стилевое воплощение)
Специальность 10.01.01 — русская литература
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук
Воронец — |?9?
Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы филологического факультета Воронежского государственного педагогического института.
Официальные оппоненты: доктор филологических наук,
профессор В. И. Коровин, доктор филологических наук В. А. Туниманов, доктор филологических наук, профессор В. В. Шахов.
Ведущая организация: Российский педагогический университет.
Защита состоится 10 июня 1992 г. в ^ часов на заседании специализированного Совета Д 063.48.07 по русской литературе при Воронежском государственном университете по адресу: 394693, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10, филологический факультет, ауд.
С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке ВГУ.
Автореферат разос
8
ч>
1992 г.
Ученый секретарь специализированного Совета, кандидат филологических наук
О. А. Разводова
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
г^иЗГпорческое наследие Н. С. Лескова, привлекающее сегодня все большее внимание отечественных и зарубежных исследователей, представляет собой богатейший материал не только для научных исследований филологов и лингвистов, но и для философов, социологов, психологов, так как изучение лесковского художественного феномена способствует проникновению в тайну народности, тайну национальности, состоящую, по определению В. Г. Белинского, «не в одежде и кухне, а в манере понимать вещи»1.
Основным постулатом в постижении лесковского творчества может служить понимание его повествовательных форм в их эволюции как стилевого выражения динамики народного самосознания, ибо смысловым центром художественной системы этого писателя является устное слово рассказчика из простонародной среды. Нам представляется, что Лесков и ощущал и осознавал свою задачу художника прежде всего как проблему Слова, специфического аккумулятора реальности в условном мире литературы. «Литература есть записанная жизнь, — утверждал писатель, — и литератор есть в своем роде секретарь своего времени, он записчик, а не выдумщик, и где он перестает быть запис-чиком, а делается выдумщиком (подчеркнуто автором. — Б. Д.), там исчезает между ним и обществом всякая связь»2.
Несмотря на то, что существует уже большая научная литература о лесковском творчестве, начиная с книг А. Л. Волынского, Л. П. Гроссмана, В. И. Гебель, Б. М. Другова, М. С. Горячкиной, В. Ю. Троицкого, И. В. Столяровой,
A. Н. Горелова и др. и кончая многочисленными статьями и диссертациями (О. В. Анкундинова, М. П. Чередникова,
B. А. Туииманов, О. В. Евдокимова и многие другие), работы, посвященные изучению специфики лесковского сказового слова как такового, подобные кандидатской диссертации О. В. Евдокимовой3, все еще редки. Характерная для отзывов современников Лескова сосредоточенность на его стиле,
1 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-тн т. — Т. III. — М.: Изд-во Акая, наук СССР, 1954, с. 101.
2 Лесков Н. С.: О литературе и искусстве. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984, с. 34.
3 Евдокимова О. В. Проблема достоверности в русской литературе 1870—1890-х гг. и своеобразие художественной системы Н. С. Лескова: Дисс. канд. филол. наук. — Л., 1962.
сохранившаяся до наших дней, мало изменилась в оценочных .суждениях об «излишествах» лесковского повествования. А между тем представление о внутренней немотивированности лесковской «игры словом» — не более чем созданный современной писателю критикой и не до конца разрушенный сегодня миф. За обманчивой легкостью и простотой устных .импровизаций лесковских рассказчиков таится содержание, не равное этой «простоте», и необходимость в скрупулезном анализе лесковского стиля для решения историко-литературных проблем определяется теми особыми отношениями, которые в сказе возникают между способом выражения художественной идеи и ее семантикой.
Эстетическая значимость слова рассказчика в поэтике Лескова не исчерпывается функцией «слова — факты» (О. В. Евдокимова) в силу своей многоликости: обращенное к материально-телесному миру, насыщенное памятью предшествующих употреблений и в то же время предельно субъективное, слово в лесковском сказе становится весьма своеобразным «зеркалом» реальности: в фокус изображения попадает не сама действительность, а ее отражение в устном слове героя, отделенного от автора огромной мировоззренческой дистанцией. Последнее обстоятельство обусловливает необходимость разрешения проблемы выражения авторской оценочное™, связанной с многократным расширением «семантического объема» устного слова и особой структурной организацией художественного текста.
Скрытно присутствующий в слове рассказчика конфликт объективного и субъективного начал обуславливает не эпический, а лирический характер отношения носителя речи к миру. С этим и связан принципиально новый вопрос о путях и способах интеграции прозаическим повествованием Лескова иной, непрозаической художественной системы.
Сотканное из звуков устное слово, «материализуясь» в художественном тексте, лишь иллюзорно остается самим собой, так как становясь словом письменным, обретая графическую форму, устное слово обрастает рядом дополнительных коннотаций и в литературном сказе оказывается несравненно жестче связано с речевым контекстом, чем в устной импровизации: там эта связь зыбкая, мгновенная, улетучивающаяся с произнесением слова. В сказовом повествовании устное слово оказалось «пойманным» и, следовательно, подверженным одному из парадоксальных эффектов письменна зафиксированного слова, выражающего больше,
чем обозначает, из-за объективности присутствия скрытых пластов запечатлевшегося в нем бытия. В орбиту нашего исследования попадает «речевое поведение» героя, выявляемое детальным анализом самой художественной фактуры повествования.
В отличие от других эстетических систем, где оно является одним из структурных компонентов в контексте повествования, слово лесковского рассказчика становится главным объектом авторского исследования и одновременно универсальным инструментом познания объективной реальности. Представляется, что «чужое слово» в лесковском повествовании принимает на себя предельную смысловую нагрузку и, следовательно, имеет огромный семантический объем. В нем аккумулируются: а) миропонимание субъекта речи; б) объективные реалии внешнего мира, запечатленные в сознании и подсознании говорящего; в) скрытно присутствующая авторская мысль. На наш взгляд, свой «коперниковский переворот» в литературе Лесков совершает, решая сложнейшую задачу непосредственного отражения народного самосознания в народном слове и в нем же косвенного выражения авторской оценки.
В свете вышеизложенного определяется цель нашего исследования — анализ процесса смыслообразования произведений Лескова как органической структуры, осью которой является художественная концепция автора, его миропонимание, для нахождения источника стиля художника, его главенствующего принципа, связанного со сказовым повествованием и отражающим специфику художественного мышления этого писателя, по-своему выразившего динамику народного самосознания.
Предметом нашего анализа с необходимостью становятся «законы обратимости художественной материи» (О. Мандельштам), согласно которым внешне не связанные элементы текста соединяются в семантически значимые формы. Законы эти в данном исследовании предстают не в логических формулировках только, а в своем становлении, движении и действии. Мы исследуем лесковский стиль в соответствии с формулой А. Ф. Лосева как «динамическое единство композиционно-схематического плана и того принципа, которому подчиняется композиционно-схематический план»4. Главный интерес для нас представляет не статическое со-
4 Лосев Л. Ф. Материалы для построения современной теории художественного стиля // контекст: Ш5. — М.: Наука, 1977, с.'240.
стояние художественного текста, не текст как «результат», а динамика художественных идей Лескова в ее подробностях.
Актуальность предлагаемой диссертации определяется тем, что она отвечает тому острому интересу, который сегодня проявляет литературоведческая, лингвистическая и психологическая отрасли науки к проблемам языкового мышления: творчество Лескова является благодатнейшим материалом для их решения. Рассмотрение лесковской поэтики с общетеоретической, историко-литературной, типологической точек зрения позволяет установить подпочвенную общность между лесковским сказом и литературными тенденциями XX века.
Новизна настоящего исследования обусловливается нетрадиционностью подходов к теме. Впервые в науке о Лескове слово рассказчика в сказовом повествовании рассматривается как главный источник сведений не только о персонаже в совокупности жизненных обстоятельств и характерных черт его личности, но как универсальный эстетический инструмент авторского постижения реальности. При решении поставленных проблем впервые привлекаются идеи смежных с литературоведением наук — лингвистики и психологии, проясняющие смыслотворческую роль языка, что во многом позволяет приблизиться к постижению специфической роли слова в сказовом контексте.
Рассказ героя из простонародной среды, из «толпучки» в произведениях Лескова как бы спонтанно вбирает в себя неупорядоченную эмпирику бытия и, на первый взгляд, кажется зеркальным, фотографически точным слепком бытовой реальности. Однако наличие воспринимающего сознания неизбежно смещает реальные пропорции. А. С. Выготский, развивавший идеи А, А. Погебни об особенностях психологического восприятия и опиравшийся на рефлексологию И. П. Павлова, указал на то, что «сознание есть реакция организма на свои же собственные реакции», проявляющаяся вовне как «речевая реакция»5. Мотивированная не только извне — объективным состоянием окружающего мира, но и изнутри — субъективным жизневосприятием, речевая реакция не может быть ни «зеркальной», ни «фотографически точной».
С этой точки зрения, очевидно, что эстетика Лескова опиралась на «протеизм» слова как такового и захватывала
5 Выготский А. С. Психология искусства. — М.: Педагогика, 1987, с. 295.
жизненные установки рассказчиков во всей многосложности их обихода и существования. Вот почему в рассказах лесковскнх героев возникал особый мир, мир отраженной реальности, привязанный к человеческому органическому восприятию и принимающий в связи с неизбежным «оптическим обманом» внутреннего зрения осколочные, фрагментарные, часто деформированные очертания. Коэффициент такого искажения является величиной переменной, так как целиком зависит от субъекта восприятия. Можно утверждать, что в сказовом контексте слово героя обрастает всевозможными сверхзначениями и, следовательно, символизируется.
Практика словоупотребления и становится у Лескова ключом не только к «бытовым загадкам» национальной жизни (М. Горький), но и к историческим закономерностям национального бытия, сопрягаемых с динамикой народного самосознания.
Архаическая и современная философия (от К.-Г. Юнга до М. К. Мамардашвили) выдвигала специфическое понимание человека как микрокосм, изоморфный, параллельный большому миру вселенной. Идее о том, что универсум изначально аналогичен внутреннему миру человека, соответствует в поэтике Лескова принцип, в соответствии с которым слово героя становится проекцией не только сознательного, но' и бессознательного начал человеческой психики.
Масштабность художественных открытий Лескова и состоит, на наш взгляд, в освещении области бессознательного, включенной в семантический ореол слова. Конгломерат научных идей, объясняющих особую роль языка — смысло-творческую, явился мощным стимулом для разрешения поставленных в предлагаемом диссертационном исследовании проблем лесковского творчества. Ведь все то, что открылось философам, психологам, лингвистам в теоретическом аспекте языкознания, присутствует в практике художественного словоупотребления у Лескова и трансформируется в его стилистике в художественную истину.
Включение в орбиту научного исследования творчества Гл. И. Успенского, современника Лескова, и русских прозаиков рубежа 70—80-х годов XX века обусловлено необходимостью в дополнительном материале для типологического рассмотрения поэтики Лескова, оценки его художественных идей в литературном процессе эпохи и в исторической перспективе.
Типологичёский подход к художественному материалу становится одним из оснований принятого в диссертации метода исследования. Однако автор широко пользовался и другими принципами изучения художественного текста, добиваясь синтеза разных методик (элементы исторической поэтики, философии и психологии искусства, традиционные эмпирические методы изучения творчества художника) в системном анализе изучаемых явлений. Подобный подход служит уяснению исторического развития художественных идей и открывает путь к решению проблемы эстетического своеобразия творческой системы Лескова.
Основные ракурсы работы во многом определяются принципиально новым подходом к предмету исследования: впервые слово в лесковском сказе рассматривается в максимальной полноте своего семантического «объема» как слово-фокус, слово-«эссенция», принимающее на себя в чистом сказе огромную смысловую нагрузку. Впервые с такой степенью детализации исследуется и тог «стилевой механизм», с помощью которого Лесков-художник с небывалой еще в прозе интенсивностью реализует эегетичаские потенции устного слова. Рассматриваемые под новым углом зрения очерки Гл. Успенского, новеллы В. Шукшина, повести В. Белова и Б. Можаева, романы Ю. Трифонова и Ч. Айтматова в свете такого анализа обнаруживают скрытые пласты своего содержания, позволяющие судить о некой закономерной общности устремлений Лескова и названных прозаиков.
Апробация работы. По материалам диссертации опубликована монография «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова», а также ряд статей. Общий объем публикаций сотавляет более 30 п. л. Основные положения диссертации обсуждались на научных конференциях в Орле, Ульяновске, в С.-Петербурге, Волгограде, Свердловске, Ельце, 1чоломне, Белгороде и. Воронеже.
Практическое значение работы заключается в том, что отдельные ее положения и общие выводы могут быть использованы (и уже используются) для чтения общих и специальных курсов по истории русской литературы XIX и XX вв., на занятиях школьных факультативов, в исследованиях, посвященных истории и теории реализма, в учебных пособиях (так, глава о творчестве Гл. Успенского вошла в учебник по русской литературе XIX в. для филологических факультетов педагогических институтов) и справочных изданиях разного рода.
II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава («Историко-литературные предпосылки возникновения «классического» сказа в русской литературе. Особенности поэтики Глеба Успенского») вводит в проблему лесковского сказа путем сопоставления творческой манеры Глеба Успенского и Лескова, ставивших й начале писательской деятельности сходные задачи — писать о «малых сих» одну только правду — и осуществлявших это сходными «приемами» — через очеркистику. При внимательном рассмотрении творческой эволюции обоих писателей обнаруживается и то, что их разводит, и то, что соединяет.
Вопреки тому, что Успенский «самоотвергается» во имя неукоснительного соблюдения гражданского долга (свобода вымысла, игра воображения, «художницкая дерзость» сковываются установкой на документальность, приверженностью художника к тем сферам жизни, где было так ничтожно мало поэзии и красоты), этот писатель все-таки остается художником, использующим те же средства, что и «волшебник слова», литературный «изограф» Лесков. Если лесковский сказ был особой формой документальности, то «очерковость» Глеба Успенского становится особой формой художественности.
Оба полюса — прямое оценочное слово повествователя, изымаемое в «чистом» лесковском сказе, и устная импровизация у Лескова — в очерках Успенского по-новому соотнесены: авторское рассуждение не является по отношению к «чужому» высказыванию «последним словом», равно как и это «чужое», «изображенное» слово — лишь иллюстрацией к авторской мысли. В очерках Успенского «устное» бытовое слово эстетически равноправно с «письменным», авторским, и потому оно вступает в острый «диалогический конфликт» (термин 10. Манна) со словом повествователя, не подчиняясь, бунтуя против его логичности и тем самым становясь мощным импульсом для развития авторской идеи. При этом слово повествователя теряет обязательную в очерке авторитарность и становится проблемным, не перекрывающим полифоническое звучание других голосов.
Поэтика художника выражала социальную ситуацию, когда внутри одного языка существовало «многоязычие», порожденное двумя действительностями — официальной («напоказ») и бытовой («под спудом»). Оба художника — и Лесков, и Глеб Успенский — вытаскивают из-под спуда
эту вторую, бытовую действительность, давая слово простолюдину.
Успенский берет на себя задачу истолкования косноязычных («темных») речей собеседников из народа, помещая их в контекст размышлений интеллигента-разночинца. Бытовое сознание темного, неграмотного человека из массы становится для этого писателя одним из важнейших источников объективного познания народной жизни. От произведения к произведению этот конфликт между «головным», рассудочным миропониманием и «естественным» мировосприятием «простолюдина», характерный для лесковского сказа, будет обретать все большую напряженность и у Гл. Успенского. Чтобы убедиться в этом, автор диссертации далее прослеживает эволюцию Успенского-художника в главных поворотных моментах его творческого пути.
«Нравы Растеряевой улицы», самое значительное создание раннего Успенского, представляют собой объединенные местом и временем эпизоды из жизни ремесленного люда. Очерковая природа этой книги налицо. Повествователь, пользующийся методом прямого наблюдения растеряевских буден и праздников, отражает жизнь, как бы не опосредованную фабульным вымыслом, «фотографически» точно. Однако в «Нравах...» такое положение повествователя в значительной мере условно, потому что, никак не самоопределяясь, он выходит за рамки роли стороннего наблюдателя. Повествовательный текст плотно насыщен диалогами и монологами «аборигенов» Растеряевки, слово повествователя, которым владеет пафос объяснения и исследования, эстетически уравновешено сказом: чтобы объяснить, очеркисту необходимо не только вглядеться, но и вслушаться.
Повествовательная зона легко проницаема для «чужого» слова, и автор иногда выделяет его курсивом как цитату из речи героя, но так же легко н свободно включает в контекст «своего» слова, где «чужоое» чуть заметно отграничивается легкой иронической окраской. При такой максимальной приближенности наблюдателя к быту существует огромная смысловая дистанция между «своим» и «изображенным» словом, так как вся полнота истины остается за повествователем. «Изображенное слово» служит здесь целям психологической и социальной характеристики и не имеет второго плана. Авторская, ирония, окрашенная пониманием и.сочувствием, обозначает эту дистанцию как духовное и культурное прееосходство ровестрователя.
Авторское знание, персонажу недоступное, выражается в «Нравах...» не только в резкой контрастности «своего» и «чужого» слова, но и в формах непрямой оценочности. Отдельные, ничем, кроме местопребывания, не связазнные человеческие особи объединяются в совокупный образ Расте-ряевой улицы, которая здесь является не только пространством действия, его фоном, «декорацией», а как бы художественной моделью русской провинции, обозначением всего склада ее социальных отношений и даже символом бездомности, неприкаянности погрязших в пишете (и прежде всего — в нищете духовной) растеряевцев.
Идея неразумности всей социальной системы в России, ее «глуповства», три года спустя блистательно реализованная в щедринской «История одного города», — стержневая в «Нравах...» Просветительская позиция автора, его доверие к разуму здесь ничем не колеблется. Живописное изображение не спорит с рассуждениями повествователя, оно служит своеобразным «документом», точной копией быта и, следовательно, поводом для социально-психологических интерпретаций. Однако одномерности изображения человека, свойственной литературным «физиологиям» 40-х гг. (а связь с ними очень ощутима в «Нравах...»), противостоит у Гл. Успенского живая стихия говорения, выходящая из границ иллюстративности. Языковая колоритность, преизбыточность, бытовая экзотичность слова в «Нравах...» свидетельствует о поразительном, пожалуй, не уступающем лесковскому, даре литературной имитации. Однако ограниченность художественной функции устного слова здесь налицо. Язык персонажа, принадлежащего определенной среде, характеризует и личность, и среду, но само «чужое» слово имеет пока лишь прикладное значение: оно не является для автора «инструментом» познания народного бытия более важным, чем слово «авторское», «свое».
В «Наблюдениях одного леитяя» (третья часть трилогии «Разоренье») уже налицо изменение авторской концепции народности и явное ослабление просветительских тенденций. В отличие от художественной структуры «Нравов...» повествователь наделяется биографией и уже не отождествляется с личностью автора. Мировосприятие «лентяя» становится таким же объектом авторского исследования, как мироот-ношение героев-простолюдинов в «Нравах...», и это не может не отразиться на функциональном соотношении «своего» и «чужого» слова в «Наблюдениях». «Чужое слово» по свое-
му влиянию на самосознание личности здесь уже не уступает поступку. Отсутствие поприща для приложения физической силы, образованности, таланта, даже богатства, не имеющих никакого спроса, является причиной того, что у народа нет своих слов и он смутно ощущает свои духовные потребности. Но невнятное бормотанье мужика-ходока о «душе», по Успенскому, все-таки предвещает пробуждение народного самосознания, а, следовательно, появление мысли, облеченной в «свое» слово.
Маленькая повесть «Неизлечимый» почти целиком опирается на рассказ дьякона-расстриги о своей «болезни». Выбор героя, на первый взгляд, соответствует законам лесков-ской сказовой манеры: дистанция между «своим» и «чужим» словом специально обыграна во второй главе («Рассказ») в комических перипетиях разговора чудаковатого «пациента» с доктором. Однако при внимательном анализе данного художественного текста обнажаются два парадокса. Первый— никакого рассказа эта глава не содержит, так как ее содержание исчерпывается «диалогом глухих», где преградой к взаимопониманию собеседников является косноязычие дьякона. Второй парадокс связан с детально зафиксированными повествователем подробностями разговора.
Все туманные, комически несообразные с понятиями доктора вопросы дьякона о действии лекарства («И то-есть уж в самый корень вступит?» «То-есть чтоб в самую, например, в жилу?» «И возобновляет?») сведены к четкой формуле в последней главе («Болезнь») — в заключающей повесть исповеди дьякона («Вот я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излечить и душу и тело? Тело, например, восстановить медицинскими специями, а душу — одновременно чтением?...»). Совершенно очевидно, что способ выражения в <исповеди дьякона принципиально иной, чем в диалоге. Настойчивое разграничение слова интеллигента и слова героя нз простонародной среды, характерное для сказа и присутствующее во второй главе, нейтрализуется в исповеди дьякона за счет сокращения речевой дистанции между повествователем и героем. Стилевое единство здесь проявляется и в характере рассуждений повествователя и героя, описательного по своей природе, а также в прямой оценочности стиля. Нейтрализация подчеркнутой в первых двух главах речевой характеристики осуществляется и с помощью однотипных у повествователя и рассказчика метафор и сравнений, в которых эта оценочность проявляется.
Такая эволюция речевой манеры персонажа, внешне немотивированная, не является у Гл. Успенского эстетическим просчетом. Изменение «речевого поведения» соответствует эволюции самосознания: духовному пробуждению от «сна разума» сопутствует и обретение слова, адекватного реальности. Непонятный пне художественного контекста стилевой «разнобой» оказывается эстетически оправданным. Вслушиваясь в голос толпы, Успенский снова и снова убеждается, что слово обывателя, живущего без всякой «серьезной и совестливой мысли», мистифицирует реальность. Вот почему высшей смысловой инстанцией в поэтике зрелого писателя по-прежнему остается самосознание интеллигента. Все остальные имеющие слово персонажи приближены или удалены от объективной истины в зависимости от уровня своего самосознания. Поэтому есть внутренняя закономерность в том, что в «Крестьянских циклах» вновь меняется писательская манера Успенского: здесь, потеснив авторский вымысел, значительно возрастает документальный материал. Логика и художественная интуиция, как и прежде, сообща участвуют в поисках истины, но логика здесь входит в качественно иные отношения с художественной образностью. Образное представление становится не «информацией к размышлению», а основой движения мысли повествователя, ведущего своеобразный диалог •— н не с Иваном Ермолаевичем пли Иваном Босых, не с этим крестьянином, а с народной жизнью в ее синкретической целостности. В этом диалоге автору приходится учиться языку собеседника, чье слово оказывается Наполнено глубочайшим смыслом, так как адекватно самой жизни, гармонично соотносящейся с природой.
Очевидно, что во многом «совпадая», Гл. Успенский и Лесков по-разному пользуются устным словом. В поэтике Гл. Успенского «чужое слово» повернуто прежде всего своим прямым смыслом. Изображенное слово не заключает в себе самом истины, скрытой от говорящего, а лишь характеризует стиль его мышления, особенности мировосприятия, и лишь в этом качестве — как «чужая» точка зрения — интересно и важно автору. Очерковое начало без противоречий включает в себя сказ, так как последний имеет вспомогательное значение в художественной системе Гл. Успенского: эстетический потенциал устного слова в ней реализуется лишь в той мере, в какой это необходимо для возникновения в тексте диалогического конфликта между «своим» и «чужим»
словом. Существенно расширяя рамки «физиологического очерка», Успенский ограничится лишь тем уровнем соединения «образа» и «публицистики», который достаточен для осуществления просветительской задачи учета народного миропонимания. Лесков, ставя ту же проблему, пойдет неизмеримо дальше.
Глава вторая («Историко-литературные предпосылки ле-сковского сказа. «Воительница» Н. С. Лескова и поэтика «натуральной школы») объясняет причины внутреннего различия двух художественных систем, составленных, казалось бы, «из одних и тех же «компонентов» художественной формы.
В «Воительнице» художественные тенденции, прямо восходящие к поэтике «физиологического очерка», оказались ослаблены до такой степени, что его «каркас» стал основанием для художественного построения нового типа. В «Воительнице» уже нет обязательной для «физиологического очерка» биографической «истории» персонажа: ее заменяет ряд анекдотических фрагментов, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к его жизни, ибо содержание характера реализуется не столько в сюжетных перипетиях, как в слове героя, и не столько в том, что сказано, а в том, как сказано.
Главной движущей силой повествования становится здесь не прямая аналитическая мысль автора, а прихотливые, непредсказуемые повороты диалога повествователя с героиней и обращения к читателю, то есть мотивировка связок и переходов в повествовании становится подчеркнуто произвольной, отражающей жизненный «факт», «случай» во всей их «непридуманности» и «свободе» от вымысла.
Конфликтно-динамическая тенденция лесковского очерка противостоит просветительскому принципу разумного миропонимания: практика жизни в своем столкновении с «головными» представлениями обнаруживает свои особые преимущества, а сам характер, уже не сводимый к воздействию среды, оказывается гораздо богаче и неожиданнее. Источником переосмысления изображаемого характера и ситуаций становится у Лескова принципиально иное, чем в «натуральной школе» и поэтике Глеба Успенского, отношение к «чужому» слову. За «чужим», изображенным словом признавалась значимость, какой оно еще не имело в русской литературе: устное слово рассказывающего героя, чьи оценки, миропонимание, социальный статус ни в чем не совпадают с авторскими, уже в «Воительнице» тяготеет к тому,
чтобы вытеснить описательные характеристики, представительствовать за героя, сделаться главным источником сведений о мире и человеке.
Такое сведение вместе слова персонажа и авторской оце-ночности, заключающейся непосредственно в этом слове, предполагало особое отношение искусства к устной, импровизированной «бытовой» речи — не просто как к материализованному миросозерцанию, но как к особому бессознательному источнику познания реальности. В противовес размышляющей, 'объясняющей литературной традиции века, Лесков стремится к высвобождению истинного миросозерцания народа из-под спуда наслоений заформализованного мышления. Сам выбор героини с ее бытовым, естественным, «неправильным», наивным миросозерцанием отражал это стремление автора к активному контакту художественной мысли с обыденным сознанием. Задача художника оказывалась необычайно сложной — разбудить в личном, субъективном слове все те сложнейшие, невидимые, тончайшие связи, которыми оно соединяется с жизненной реальностью и о которой не подозревает произносящий его герой.
Лесков как бы пытается реализовать платоновскую идею «скрытого знания», присутствующего в сознании человека. В связи с этим объективная реальность предстала уже в «Воительнице» как «закодированная» в субъективном слове героини, и перед автором возникла проблема особого вне-субъектного отражения авторской оценки. «Избыточность», «безмерность» повествовательной манеры Лескова, обилие «несущественных» подробностей в его книгах оказались проявлением особой художественной системы, где создание обширной «зоны авторского избытка» (термин М. Бахтина) было эстетически закономерно.
Перестраивая всю структуру «физиологического очерка», Лесков оставляет в неприкосновенности только один его постулат — установку на факт. Это стремление показать связи жизни, как бы не опосредованные художественным вымыслом, так и останется в неприкосновенности в поэтике Лескова, впрямую связанное с установкой на сказ. В своей диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата филологических наук Евдокимова О. В. обосновала идею «слова-факта» как основы своеобразия художественной системы Лескова: границы между правдой и вымыслом нарочито размыты, и произведение «отделано» под факт с тем, чтобы передать не только характер народной молвы, но и
бытование народного сознания. По справедливому утверждению автора диссертации, ...«художественная система писателя представляет, «разыгрывает» эпос, основываясь на идее слова-факта»6.
Социальная проблематика, оставаясь исходной, дополняется широким включением в картину жизни «слова-факта» — продукта слухов, молвы, суждений, бытующих в народной жизни, но не принимаемых всерьез просвещенным сознанием. «Воительницей» и начинается исполненный глубокого смысла эстетический спор с диктатом рационализма. По собственному признанию писателя, «проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, как делается история». Уже в «Воительнице», пристально вглядываясь в живую изменчивость практики повседневного быта, Лесков пытается открыть национальную историю в ее подспудном существовании I! проникнуть в нее через самое слово народа. В определении художественной задачи — «проследить, как складывается легенда», Лесков обозначает тот поворот от изображения собственно реальности к изображению бессознательно запечатлеваемого ее устного слова, который и станет одновременно поворотом к новым формам психологизма, и тут Лесков, как выясняется, на столетие опередил открытия ученых-психологов.
«Воительницей» начинается особый путь художника-«пси-хоаналитика» с его принципиально новым подходом к устному слову как универсальному источнику познания мира народной жизни, служащему адекватному воплощению этого мира в литературе. Первая попытка Лескова извлечь действительность из ее словесного, материализованного в устном слове воплощения обернулась новизной форм — «мозаич-иостью» композиции и «игрой словом». Исполненный глубокого смысла эстетический спор автора «Воительницы» с «физиологическим очерком» выводит Лескова к новым художественным горизонтам: его сказу как особому направлению в искусстве предстоит, как выяснится в процессе дальнейшего литературного развития, долгая и богатая жизнь и в творчестве са мого Лескова, и в позднейшей литературе.
Глава третья («Соотношение эпического (объективного) и лирического (субъективного) начал в сказе «Запечатленный ангел») содержит материал о художественной структуре повести «Запечатленный ангел», хронологически следо-
6 Евдокимова О. В. Указ. соч., с. 0.
павшей за «Воительницей» и «Соборянами». Художественные открытия последних, развитые и обогащенные в сказе «Запечатленного ангела», складываются в систему, где стиль и смысл оказываются столь взаимосвязаны, что только при условии непременного учета этой связи и этой обусловленности можно «прочитать» лесковскую повесть.
В «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике» возникает внутренне завершенная художественная структура, в которой эпическое и лирическое начала повествования встречаются уже в новом контексте. В «Запечатленном ангеле» впервые возникает резкая «демаркационная линия», отграничивающая сферу собственно повествования от рассказа героя, его устной импровизации: повествование лишь обрамляет историю «заиечатления» чудотворной иконы, рассказанную участником и очевидцем. Повествователь лишается преимуществ единственного собеседника, остается в тени других слушателей и никак не обнаруживает личного отношения к рассказу «рыжачка». Выступая в роли «за-л"счика» «чужой» речи, автор предельно нагружает эту «чу-^•^ю» речь, совмещая в ней оба плана повествования — 'Объективный и объективный. Слово рассказчика становится "лявным объектом изображения и инструментом авторской опенки, способом ее выражения. Событие возникает отраженно, в восприятии рассказывающего о нем, и, следовательно, неизбежны ножницы между событием как таковым и его субъективным преломлением в слове рассказчика, чье мироотношение глубоко отлично от авторского. Изменившийся ракурс изображения меняет привычные «параметры» эпического повествования, и возникает новая повествовательная форма, эстетически связанная с родовым изобразительным принципом и в то же время во многом оспаривающая его.
Анализ «стилевого содержания» (термин С. Бочарова) художественного текста «Запечатленного ангела» дает обширный материал для заключения о близости устной импровизации лесковского рассказчика по художественной структуре так называемому народно-героическому эпосу, и в то же время неопровержимо свидетельствует об особой специфичности лесковской повествовательной манеры — сказа.
В «Запечатленном ангеле» сказовая манера повествования обретает устойчивые признаки целостной системы. Эпическое (объективное) начало сохраняет в ней свое главенствующее значение в связи с эпической, а не лирической
установкой рассказчика, опирающегося на характерный для эпоса принцип «всеведения» повествователя. Причастный происходящему, являясь в сюжете действующим лицом, Марк Александров тем не менее «заступает место необходимости», так как опирается на выявленную сознанием (коллективным) объективную логику событий. Рассматривая поступки каждого индивида (и свои в том числе) как проявление сверхличной воли, божественного промысла, Марк Александров в центр своего рассказа помещает событие, полнота же проявления личностной активности стихийно, как в народно-героическом эпосе, становится орудием проявления народного, национального начала. В «Запечатленном ангеле» оказывается соблюдено главное условие эпоса — «непосредственное единство чувства и действия героев» (Гегель), что и обеспечивает гармоническое разрешение основного конфликта повести. Отсюда и многие стилевые особенности повествования, в частности, «живописность» рассказа Марка Александрова (на нее как на стилеобразую-щее начало указала впервые О. В. Евдокимова в своей диссертации), и «статически-пластический принцип» (термин Е. М. Мелетинского), возникающий как осознаваемый на авторском уровне художественный «прием», необходимый для выражения особого миропонимания рассказчика. Этот и другие, характерные для поэтики народно-героического эпоса, особенности построения художественного текста обретают в лесковском сказе принципиальный, а не бессознательный, как в структуре-прототипе, характер. В повествовании «Запечатленного ангела» встречаются два речевых явления — стилизация, ориентированная на литературный стиль (в данном случае на гомеровский эпос), и сказ, воспроизводящий внелитературную устную импровизацию (бывальщина). При этом стилизация здесь не является особым типом авторской речи, она, присутствуя внутри простодушного рассказа, обнаруживается лишь в «зоне авторского избытка», проявляясь структурно — в художественных моделях и психологически — в архетипе мышления и поведения героев. «Аналитическая ирония» (термин К- А. Долинина) возникает в «Запечатленном ангеле» вопреки пафосу рассказчика, не осознающего сопряженности духа ушедшей культуры с позднейшей культурно перспективой, и окутывает его рассказ «сверхзначениями». Особый пласт последних связан именно с тем, что модифицированное эпическое начало входит в лирическую стихию рассказывания, устной
(личной) импровизацией, осложненной проступающим в ней «хоровым» началом.
Слово рассказчика несет на себе печать общего миропонимания и в определенной степени представительствует за каждого носителя речи. Недаром в диалоге с англичанином раскольники участвуют именно как одна из «сторон».
Слово рассказчика, включающее общее, тем не менее сохраняет личное, индивидуальное, не могущее полностью раствориться в «хоровом» начале, что позволяет автору воспользоваться теми средствами художественного выражения эстетических идей, которыми оперирует поэзия вообще, и лирика в частности. Лесков в «Запечатленном ангеле» уже широко пользуется теми возможностями, которые можно извлечь художнику из многозначности слова, поливариантности художественного образа, ассоциативности стиля.
Глава четвертая («Поэтика композиции повести «Очарованный странник») рассматривает следующий шаг художника на пути «отработки» новой повествовательной манеры и стилевого воплощения народного сознания.
Поэтика «Очарованного странника» вбирает в себя весь предшествующий художественный опыт автора и в то же время эта повесть становится очередной и очень существенной фразой новой художественной системы. Если доиравст-венную героиню «Воительницы» в «Соборянах» сменяет герой-идеолог (Туберозов), а в «Запечатленном ангеле» личностное начало гармонически сливается с началом коллективным, и голос рассказчика — лишь главная партия в «хоре» единомышленников, то в «Очарованном страннике» рассказчик опять представительствует лишь за самого себя, в суждениях о жизни опирается только на собственный практический опыт и, будучи волею обстоятельств свободным от нивелирующих и формообразующих влияний цивилизации, близок по своему типу Ахилле Десницыну и Домне Плато-новне. Общность эта проявляется не только мировоззренчески (наивность, непосредственность богатыря-черноризца), но и в самом способе подачи героя: по сравнению с «Запечатленным ангелом», возрастает роль обрамления к «чистому» сказу — оно включает не только описания места встречи с героем, мотивацию «рассказывания», но и диалоги со слушателями, вклинивающиеся в ткань рассказа-импрови-текс-те диалогов, то есть «приемы», знакомые по «Воитель-тексте диалогов, то есть «приемы», знакомые по «Воительнице». Описание облика героя, где каждая подробность важ-
на и значительна для скрытно проявляющегося авторского плана повествования, вызывает в памяти богатырскую внешность дьякона Ахиллы. В этом описании сосуществуют, помогая друг другу, противоположные «системы координат». Установка на необычность, оригинальность внешности героя-рассказчика (тогда как в «Воительнице» и «Запечатленном ангеле» самобытность личности проявляется по контрасту с внешней ординарностью) поддержана особой «типологич-ностыо» героя. Иван Северьяныч Флягин зримо воплощает облик русского богатыря, каким он сложился в искусстве. В прямом авторском слове указана генетическая связь образа с фольклором (былины об Илье Муромце), живописно (картина Верещагина) и литературной стилизацией былин (поэма-А. К. Толстого), и в то же время введено еще одно измерение, для сказа обязательное, — фактографичность (и повествователь, и рассказчик воспроизводят «действительно бывшее»). Такой расклад предопределяет многосложность художественного текста, особую «синтетичность» форм, в которых реализуется — на авторском уровне — глубинный смысл повествования в целом. Первым на контрапункт его разнородных начал указал А. И. Измайлов, так охарактеризовавший поэтику «Очарованного странника»: «Все цвета радуги, все виды трагического, кровавого, комического и лирического, оскорбление всех единств, какие только и можно представить, мистика рядом с водевилем — скифский стиль, от которого у критика пестрит в глазах, от которого упал бы в обморок Буало... Художник дерзко пренебрег всеми педантическими условностями беллетристики как искусства»7. Современные же Лескову критики новаций художника не поняли и не приняли, осудив автора за «необязательность», «случайность» композиционного рисунка и «чрезмерную» насыщенность фабулы (Н. К. Михайловский).
На самом деле «случайность» возникновения всех эпизодов рассказа, внешне спровоцированная инициативой рассказчика и отчасти зависящая от реакции слушателей, иллюзорна. Каждый элемент композиционной структуры при ближайшем рассмотрении оказывается исполненным особого смысла в системе целого, незримо подчиненный закону обратных связей. Внутренняя (авторская) эмоционально-смысловая соотнесенность всех компонентов фабулы оказывается в повести несравненно важнее, чем внешние причиные связи. .
7 Измайлов А. И. Лес ков и его время. — ИРЛИ. — Ф. 145. — Он, Ед. \р. 510, с. 105.
На фоне «Запечатленного ангела» отчетливо проступают стнлеобразующпе доминанты повествовании в «Очарованном страннике». Если в «Запечатленном ангеле» рассказчик, выполняя эпическую задачу — познания законов бытия, — вынужден строго следовать очередности событий как таковых, то изменение мотива рассказывания — исповедь о своей жизни — неизбежно влечет за собой -и перемену ракурса повествовании,, возникновение особой специфики смыслового движения. Связь между событием, имеющим первопричину вне личного действия; и поступком личности, представительствующей за некое человеческое сообщество, «выспренней горячею верою одушевленное», более открытая, н в «Запечатленном ангеле.* не случайно убеждение рассказчика в закономерности коллективного поступка как итога событий. В «Очарованном страннике» па первый план выхо-иотому категория действия, оставаясь так же, как в «гоме-иоотому категория действия, оставаясь также, как в «гомеровском эпосе», важнейшей, обретает здесь иную функцию, поскольку меняется сам характер взаимоотношений героя с миром.
В отличие от традиционного эпоса элементы действительности вовлекаются рассказчиком в свою импровизацию независимо от их объективной значимости и подчиняются внешним образом лишь стихни рассказывания, цель которого в самом себе. Рассказчик отбирает лишь субъективно значимое и сам зависит от собственной памяти и от власти испытываемых при переживании былого чувств. Ощущение, чувство, иллюзия, так же как в лирике, оказываются в равных правах при отражении действительности в слове героя, сущность которого в пси же проявляется. Герой здесь приходит со своим словом.
Отсюда несравненно более свободный, «незапрограммиро-вашшн» характер сюжета, и как следствие «расширение объема «сверхннфор.мацш!» опять-таки через подтекстовые значения. Поскольку в «Очарованном страннике» «хоровое начало» изгоняется из монолога героя (никакое «мы не подразумевается за «я»), эта сверхинфор.лация текста содержится в первую очередь в тех компонентах художественной формы, которые реализуют авторскую идею в композиционной структуре, «игре словом», многозначности стилевых комбинаций. Простодушный, субъективно одноплаповый, как в бывальщине, рассказ героя обрастает независящими от сознания, рассказчика смысловыми ореолами, образующими слож-
ный конгломерат сверхзначений. Благодаря их наличию бытовые детали обогащаются внебытовыми смыслами и аналогиями до универсальных включительно. И потому в «Очарованном страннике» через самые простые и обыденные представления героя просвечивают первоосновы бытия.
Таким образом, в повествовании «Очарованного странника» зримо проявляется суть художественной структуры сказа, оказавшегося в явном генетическом родстве с лирическими системами. Субъективное начало как инструмент и способ познания объективного мира объясняет и тот.романтический реализм, который вызвал недоумение у лесковских исследователей.
Комбинации элементов, составляющих систему, полива-риантны, и потому способы обнаружения авторской оценки в лесковском сказе тяготеют не к тематическому, а стилевому анализу художественного текста. Это обстоятельство с особой силой заявит о себе в тех произведениях Лескова, которые, на первый взгляд, свободны от романтизации ге- ' роя, где герой вступает в несравненно более тесные связи со средой, чем в «Соборянах», «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике».
В пятой главе («Фольклорная стилизация как специфический способ художественного познания в творчестве Лескова») рассматриваются «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» и сказка «Час воли божией» как особый этап художественного познания Лесковым корневой жизни народа. Конец 80-х — 90-е годы отмечены в творчестве Лескова своеобразным идеологическим сдвигом — прославление исконного богатства национального характера сменяется его «сатирической» интерпретацией. Именно тогда в творчестве Лескова появляются названные композиции, не похожие ни на романтизм «Очарованного странника», ни на «социабельность» «Полунощников». Они-то, на наш взгляд, и могут дать представление о законах художественной эволюции писателя в связи с эстетическим исследованием динамики народного самосознания. Воплощенная в иной, чем «чистый сказ», эстетической форме индивидуальная программа Лескова по-новому открывает глубины его творческого сознания.
§ 1. Анализ поэтики «Левши» свидетельствует, что первоначальный авторский замысел в процессе его реализации вступил в противоречие с саморазвитием художественных идей и претерпел какие-то изменения, сказавшиеся на всей
художественной «конструкции». Изменения эти отозвались прежде всего в образе повествователя. Вопреки утвердившемуся в научной литературе о «Левше» представлению об идентичности описанного в лесковском «Предисловии» оружейного мастера рассказчику в сказе, художественная концепция «Левши» не соответствовала подобному типу рассказчика, объективно отторгала его. Рассказчик с «биографией» не отвечал целям автора «Левши», 'иным, чем в «Воительнице» или «Очарованном страннике». И не случайно колоритная личность «старого оружейника», подробно обрисованная в «Предисловии», никак не отразилась ни в сюжете, ни в слове повествования. На наш взгляд, это произошло потому, что народный рассказчик в «Левше» не является сущностной фигурой, воплощая глас молвы и представляя коллективное народное самосознание.
Такая установка на фольклорность переключала повествование в иную, нежели в уже сложившемся лесковском сказе, художественную систему. Устойчивому представлению об идентичности стиля «Левши» сказу «Очарованного странника» или подобного ему противоречат данные анализа, открывающие возможность новых исследовательских подходов к стилевому содержанию лесковского шедевра. Ведь, настойчиво утверждая свое авторство, Лесков тем самым снимает проблему достоверности, необыкновенно важную в сказе, одновременно подчеркивая условный характер «фольклорности» текста и устанавливая какие-то новые правила литературной игры, Выделка повествования под «цеховую легенду», фольклорная стилизация речи и психологии персонажей в сочетании с гротесковым, лубочным началом способствовали созданию образа народного мифа как специфического «инструмента» коллективного сознания, осваивающего чуждую ему область реальности и в то же время заменяющего последнюю.
В своей пародии на «баснословие» Лесков переворачивает привычное литературное соотношение, при котором точкой отсчета и стилевым фокусом в изображении «верха» и «ннза» национальной жизни являлись мысль и чувство принадлежащего «верху» образованного человека (Тургенев, Достоевский,-Толстой). У Лескова в фокус художественного осмысления попадает аберрация восприятия действительности, присущая всем временам и народам н порождающая причудливую смесь домыслов и реалий в народных мифах. Автора «Левши» занимает сам «механизм» мифологизации
истории, ибо его познание может дать ключ к тайне народного духа в его подспудных, подсознательных формах.
Вот почему в «Левше» возникает как бы перевернутая смысловая перспектива, когда «господская» культура в повествовании кроится из двух «материй» — простонародного быта и чуждой этому быту экзотики — чужеземной или чужеродной.
В языковых смещениях, «порче» языка, народной этимологии автор «Левши» открывает важнейшую черту народного мировосприятия, овеществляющего и присваивающего чужое и вместе'с тем исконно безразличного ко всему, что не есть собственная жизнь. Лубочность основного стилевого рисунка служит своеобразным эстетическим ориентиром: чужое уподобляется своему, вписанное в привычный облик вещей и понятий. Действительность переоформляется, переводится на родной язык, и в едино'и словесной реальности повествования «Левши», ориентированного на свободное устное слово, гротескно совмещаются исторически сложившиеся в их непохожести горизонтальная (народная) и вертикальная (господская) культуры.
Игровая вольность в обращении с историческими реалиями, демонстрируемая здесь, — необходимое условие мифологизации мира. Народное мышление навязывает свою логику и историческим лицам, и другому пароду, бессознательно конструируя картину жизни, в основе которой — невыдуманная гротескность, аналогичность самой действительности. Неизбежной многоплановости повествования художественного текста, обусловленной контрапунктом различных ценностных уровней жанрового рассказчика и автора, соответствуют многообразные стилевые ходы, которые позволяют разглядеть за «фольклорной» оболочкой повествования ле-сковскую интерпретацию сложившейся социально-исторической ситуации в России 90-х гг. XIX в. Учет фольклорной подпочвы текста при одновременной внутритекстовой символизации мифологических моделей помогает осмыслению многих стилевых особенностей «Левши».
§ 2. Самосознание парода и «порядок вещей» в их диалектической сопряженности, взаимообусловленности и взаимодействии является опорой художественной «конструкции» в лесковсккх фольклорных стилизациях. И доказательством этому служит еще одно произведение Лескова в их ряду — сказка «Час воли божией».
Используя «прецеденты» волшебной сказки, притчи, бы-
тового анекдота и разрушая сложившиеся стереотипы их восприятия, Лесков создает блистательную пародию, остроумно эксплуатируя те эстетические возможности, которые ему открываются. Реализация сюжетных инвариантов оборачивается у автора столь существенными трансформациями их структурных элементов, что последние в «Часе воли божнен» обретают принципиально повое художественное бытие 1! ведут к результатам, не запрограммированным ни в одной из систем, которыми автор пользуется. Постоянная стилевая пара сходством-различием со структурой-прототипом способствует символизации всех элементов литературной мистификации Лескова; они обретают символическую сверхзиачимость, не имеющую места в поэтике аналогичных фольклорных моделей.
Насколько существенное миросозерцательное значение для автора имеют «формальные» различия между лесков-ской сказкой и жанром-прототипом, обнаруживается прежде всего при сравнении поэтики лесковского сказа с эстетическими законами «Часа воли божней». В лесковской сказке слово по-библейски приравнено к делу, так как цементирующее сюжет ожидаемое чудо присутствует здесь как некая возможность, сначала связанная с надеждой на всеве-денье старцев-праведников, а затем —■ с «простотой разумения» простоволосой девицы, то есть со словом как таковым.
Вопреки жанровой традиции, «полированные послы» и Разлюляй-гудошннк отправляются не за «хитрой наукой», мастерством или умонксм, а за словом. Но приравненное к делу оно не обращается в деяние, оставшись духовным обретением двух екгзо'шы;; персонажей — скомороха и короля;-
Игра сл<л$, перекрещивание их значений в «Часе воли божнен» связаны с гласным конфликтом повествования — между Словом, очйщо:.лы\1 от житейских иаслоеинй, с не поддающимся да."ь::-.":шпм трансформациям семантическим ядром, и сп;. ст1_;м--- перевертышем, словом-обманкой. Иерархии сказочных ксрсо:;а:кей зависит от значимости слова каждого из них на шкале высших нравственных ценностей.
Нацнонадьпо-самсбитаая стихия языка выявляет не только процесс утраты жктзйскпм словом его духовной сути, ко и момент истины. Алогизм, главный стилевой принцип в леахвскоЛ сказке, служит обнаружению в национальном сознании н быту поведенческих и психологических стереотипов, блокирующих все, что не согласуется с привыч-
ным, традиционным, укоренившимся в народном мироощущении. Именно в этих сгереопитах и проявляется, по Лескову, сила, способная свести на нет любые благие намерения. Сила эта, проникшая на сказочную территорию из реальности и довлеющая изнутри над сказочными персонажами, изначально присуща «порядку вещей».
Различие «чистого сказа» и фольклорной стилизации обусловлено не только разной психологической установкой повествования: в сказе — на индивидуальное, это слово рассказчика-импровизатора, а в фольклорной стилизации — иа коллективное слово молвы. С этим обстоятельством оказывается связан и разный тип повествователя. В первом случае — это персонифицированный носитель речи, с ярко выраженным субъективным мировосприятием. Во втором — некий анонимный «рупор» народного множества, выражающий психологию толпы.
Становится очевидным, что Лесков-художник в своей творческой эволюции движется к новому типу героя, сознание которого воплощало бы стереотипы национального мышления, и тем самым писатель Есе глубже и многостороннее раскрывает бытовые загадки национальной жизни как подоплеку исторической судьбы народа. В этом можно воочию убедиться, обратившись к так называемой сатире Лескова.
Глава шестая («Поздний Лесков (эволюция позиции сказа)» посвящена так называемой сатире Лескова, где принципы сказовой поэтики можно продемонстрировать на качественно ином, чем в «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике», материале, находящемся в явном генетическом родстве с фольклорными стилизациями. Лесковская ..сатира вызывала у всех исследователей законное недоумение. Определение всех «претензий» к «неправильной» сатире Лескова выразил Л. П. Гроссман. Он называет четыре признака, по которым Лесков-сатирик не вписывается в ее традиционные каноны: а) «намеки и усмешки» вместо «стрел и ударов», лишающие лесковскую сатиру прямоты и цельности; б) склонность выбирать объект не в настоящем, а в прошлом, что сужает социальный адрес критики; в) недостаточную «масштабность», ибо в своей сатире писатель «избегает больших явлений и острых недугов эпохи», обращаясь к «мелочам жизни»; г) наконец, по заключению автора монографии, это «сатира безгневная»8. Говоря все это,
8 Гроссман Л. П. Н. С. Лесков: Жизнь. — Творчество. — Поэтика. М.: Гослитиздат, 1975, с. 236—237.
Л. П. Гроссман был, безусловно, прав. Но, заметив новизну лесковского художественного метода, исследователь художественного смысла такого, а не нного способа подачи материала не уловил, будучи априорно убежден, что. «опыт благодушной, уклончивой, запутанной» и «малой», то есть анекдотичной сатиры остался сомнительным и пассивным»9. Более поздние исследователи, однако, возвратили Лескова в традиционное русло, уже не увидев здесь никаких противоречий, и, по сути, никакой новизны (Б. М. Другов, А1. С. Горячкина). Однако «закрытый» таким образом вопрос вновь актуализирует акад. Д. С. Лихачев, указав на очень интересный феномен маскировки нравственной оценки рассказываемого10.
В рецензируемой главе сложность выявления моральной оценки в так называемых сатирических новеллах Лескова связывается с природой лесковского сказа. Конкретный анализ поэтики рассказа «Грабеж» многое проясняет в специфике лесковской сатиры. При внимательном рассмотрении его композиции многие фрагменты выглядят абсолютно лишними (например, подробное описание бойцовских гусей, скрупулезное воспроизведение мелочей купеческого быта, стенографически точная передача «родственных» разговоров, не имеющих прямого отношения к сюжету и т. п.), а сюжетная завязка (состязание дьяконов) приходится на середину повествования — восьмую из семнадцати главок.
Однако вязь слов, снова и снова повторяющихся в разном контексте, соотношение глав в системе целого, реплики, к действию либо вообще не имеющие отношения, тормозящие его, либо связанные с ним косвенно, художественно необходимы в контексте рассказа. Анализ обнаруживает целую систему слов-сигналов, ключевых понятий, являющихся проводниками авторских идей. Оказывается, что Лесков не зря и не случайно так подробно знакомит читателя с бытом орловской купеческой семьи, старательно живописуя узкий кругозор купеческого недоросля. Из простодушного рассказа героя вырисовывается бытовой уклад семьи, опирающейся на прочные, устоявшиеся, освященные традицией нормы морали и поведения.
Понятия из обихода естественного, патриархального об-
9 Г р о с с м а и Л. П. Указ. соч., с.
'О Лихачев Д. С. Ложная этическая оценка у Н. С. Лескова // Звезда. — 1980. — № 7.
щежития («маменька», «тетенька», «дядя», «племянник» и т. п.), к которым постоянно прибегают в разговоре персонажи, художественно утверждают главенствующее значение в этом быту кровнородственных уз. Неофициальные связи в «Грабеже» охватывают и соединяют не только прямых родственников, но я вообще «своих» в отличие от «чужих». Дело в том, что причастность рассказчика к старому патриархальному жизненному укладу представляет для автора рассказа особую ценность. Лесков противопоставляет здесь народное мировоззрение социально-государственному и общественная жизнь оценивается им с точки зрения естественно сложившегося народного общежития. И потому главным в этом рассказе является вовсе не событие и действие, а испытание героев, испытание их «правил» жизненного поведения, основ житейской морали двусмысленностью обстоятельств, в которые эти герои попадают, а также художественная интерпретация причин возникающей двусмысленности.
Исследуя практику человеческих отношений, сам механизм связи «я» — с «мы», «ты», «он», «они», «своих» — с «чужими», автор показывает, как при усложнении общественных форм бытия интересы индивидуума сложно переплетаются с общественными устремлениями, как в результате их столкновения происходит перегруппировка «сторон». Вот почему соперничество двух укладов — елецкого и орловского — будет многократно и виртуозно обыграно в ле-сковском рассказе. Патриархальные уклады, самоутверждаясь, претендуют на главенство, но в сюжетных перипетиях обнаруживают глубокое родство, проявляющееся в общности пристрастий, вкусов, миропонимания, «русскость» изнутри подрывает местный патриотизм, и антагонистическая ситуация разрешается в финале полным примирением сторон отнюдь не случайно.
Конечно, «счастливая» развязка «воровского» сюжета глубоко иронична: все участники происшествия так или иначе способствовали «грабежу». Однако вразрез с традициями сатиры Лесков углубляется в «психологию факта», в глубь незначительной, обыденной ситуации. В смысл художественных искании автора позволяет вннкиуть второй план рассказа. Стремясь разгадать тайну народности, тайну национальности, Лесков доискивается причин сохранения нравственной устойчивости народа, чья жизнь на переломе от патриархальности к цивилизованности испытывает неизбеж-
ное и по-своему необратимое изменение. Усложняющаяся действительность уже требует от личности, тесно связанной со своим миром, его «правилами», шкалой оценок, собственных решений. Нечаянное ограбление и становится испытанием нравственной крепости героя и его ближайшего окружения, то есть самой среды и в конечном итоге основ народной, национальной жизни.
Обращаясь к патриархальным основам народной жизни в поисках альтернативы развивающейся буржуазности, Лесков находит там глубинную устойчивость бытия, но, глубоко вникая в практику реальных человеческих отношений, автор «Грабежа» открывает, что в относительно гармоничном прошлом скрытно созревала будущая дисгармония. Достоинства русского национального характера и социальная трагедия народа диалектически взаимосвязаны у Лескова, и то, что в «правильной» сатире предстает отдельно, как разные стороны одной действительности, выступает у этого писателя в нерасчленимом единстве. Именно необычайная диалектичность художественной концепции Лескова исключала резкую контрастность «положительного» и «отрицательного», и потому была понята либо как нравственная неразборчивость автора, либо как его пресловутая «безгнев-ность».
Лескова-художника занимает бытование важнейших религиозных, нравственных и философских идей в сознании обывателя, интеретует, какие следы оставляют там эти идеи, чем заполняется пропасть между культурой меньшинства и некультурностью масс.
Комплекс неявных ассоциаций, расположение пятен в мозаичной картине образуют символический слой повествования в сказе Лескова, и литература нового времени многое унаследует не только от Толстого и Достоевского, но и от «волшебника слова». Художественным идеям последнего, как показала творческая практика художников 20—30 гг. и 70—80-х гг. нового столетия, суждена была плодотворная жизнь, так как они оказались для определеных исторических ситуаций в высшей степени современными.
В седьмой главе («Лесковские традици и стилевые искания советской прозы на рубеже 70—80-х гг. XIX в.») исследуются новеллы В. Шукшина, повести В. Белова («Плотницкие рассказы») и Б. Можаева («История села Брехова»), романы Ч. Айтманова («И дольше века длится день») и Ю. Трифонова («Время и место») с тем, чтобы показать
связи, которые существуют между реальным ходом истории и художественным мышлением «рифмующихся» эпох. Данные конкретного анализа каждого из названных произведений убедительно свидетельствуют, что сказовая традиция обретает особую силу и интенсивность в определенных исторических ситуациях, в кризисные «переходные» периоды жизни нации.
Вслед за Лесковым и генетически связанными с ним писателями 20-х гг. XX в. литература 70—80-х обратилась к исследованию современного речевого сознания народа с тем, чтобы получить ответ на актуальнейший вопрос, заданный Шукшиным: «Что с нами происходит?» Обращение писателей к устному слову было гражданским актом огромной значимости: бытовое внеэтикетное сознание отражало жизнь во всей неприглаженности и подспудной истинности, и воспринималось и было на самом деле противовесом тотальной лжи, фарисейству, страху. Устное слово в системе художественного целого занимало разное место у разных писателей, и способы его эстетической «аранжировки» зависели от авторской концепции, выражавшейся в совокупности стилевых признаков.
Повествование В. Шукшина вбирает в себя несобственно прямую речь героев и представляет собой сложный конгломерат «своего» и «чужого» слова. Автор широко пользуется теми возможностями комической игры значениями, которые таятся в косвенной передаче прямой речи. Но при этом слово шукшинского героя -имеет свой специфический облик: автор, синтаксически и лексически передавая строй простонародной речи, почти не пользуется принципом «народной этимологии», какими-то особыми колоритными словами, не заботит его и реставрация утраченных значений. Шукшин, так же, как и Белов, акцентируя внимание читателей на духовных утратах, связанных с выхолощенностыо, пустотой, унылой монотонностью ежедневного быта, озабочен не реставрацией патриархальности, а поисками в этих условиях пути от души к душе через слово героя, обращенное к читателю прежде всего смыслом, а не фактурой. В поэтике Шукшина происходит испытание возможностей слова: способно ли оно преодолеть пропасть разобщенности, глухоту другой стороны, способно ли одолеть клишированное мышление, ..слова-штампы. Ставя на «нутряную», природную, а потому неистребимую духовность, препятствующую окончательному расчеловечиванию человека, автор прослеживает
трудноуловимый процесс движения от интуитивного к сознательному, именно на исследовании этого процесса и сосредоточен Шукшин-художник.
Для В. Белова утрата национальных традиций чревата полным распадением семенных связей, исчезновением «хорового» начала, так как общность бытовой культуры была одной из могучих опор существования этноса. И потому, в отличие от В. Шукшина, авторскому мировосприятию В. Белова присущ своеобразный народный «эллинизм», характерный, по убеждению О. Мандельштама, для русской национальной культуры минувшего века. В. Белов использует магическую силу слова, его способность вызывать зримые образы для того, чтобы вернуть почти исчезнувший материальный мир, называя вещи, предметы, бытовое окружение русского крестьянина, воскрешая в слове материальную сферу, порождавшую крестьянскую культуру.
Пафос автора «Плотницких рассказов» — в спасении исчезающих слов как нетленной культурной ценности, в убеждении, что необходима реставрация обозначаемого ими материального мира, гармонически соответствующего человеческому естеству. Неприятие современной городской культуры уже остро ощущается и в этой повести: Зорин как бы изымает свой «городской» опыт из этих деревенских «двадцати четырех дней без выходных» как нечто, ие имеющее под собой настоящей почвы и не облаченное в значащие слова. В повести уже просматриваются причины последующей эволюции этого художника: с одной стороны, в направлении к «крестьянской энциклопедии» — «Ладу», а, с другой, — к «антигородскому» роману «Все впереди».
На этом фоне становится понятен сокровенный смысл художественных искании Б. Можаева, от «Живого» с его глубоко нравственным Федором Кузькиным обратившегося к «антигерою» в «Истории села Брехова», близкой «сатирическому» сказу позднего Лескова. В сознании бреховского «летописца» причудливо взаимодействуют разные системы ценностей, отвлеченные идеи и зримая реальность оспаривают друг друга. Привычно тянущиеся друг к другу идеологические слова-штампы образуют готовые блоки, не выражающие ничего, так как за ними пег реального содержания, но в сознании раскрестьянившегося Булкииа они трансформируются в новые понятия — симбиозы, комически сочетающие новое со старым. Словесная реальность возникает в повести как трагикомический процесс переименования дейст-
вительности, процесс возникновения бутафорских значений слов. Расподобление понятий и сути, искусственное замещение того, что есть, некоей условной конструкцией демагогически используемых идей отражается в стиле повествования, в «речевом поведении» мемуариста, в его языке. Сознание Булкина уже не производит ценности, а потребляет готовые, навязанные ему извне. Но в булкинском слове, несмотря ни на что богатом, колоритном, отражается практика жизни, включающая в себя материальную силу быта, сопротивляющуюся омертвению жизни.
Адекватность слова и «целокупности» мира возвращается советской прозе в айтматовском повествовании, где путевой обходчик Едигей Буранный, обладает столь же трудолюбивой душой, как и лесковские праведники.
Герой айтматовского романа способен процессно и за-вершенно мыслить о жизни, но его жизненная философия не есть плод отвлеченного умствования, почвой для обобщения является чувство и мысль, порожденная чувством. Слово Едигея имеет опору в тысячелетней культуре киргизского народа, в собственной жизни, где гармонически совпадает слово и поступок, в естественной включенности героя в природное целое, в его способности к вчувствованию (эмпатии). Отсюда и открывшиеся в айтматовском романе перспективы иного мировосприятия, чем у героев «деревенской прозы», а также возможность выхода к иным горизонтам художественного мышления.
При всем внешнем несходстве художественного «почерка» Ю. Трифоонова и с «деревенщиками», и с Айтматовым стилевая общность все-таки просматривается иод определенным углом зрения. Их всех роднит и объединяет внимание к обыденному сознанию, к быту, а, следовательно, и к устному слову. Но в отличие от «деревенщиков», Ю. Трифонов обращается к сознанию другого социального слоя — городской интеллигенции. Для того, чтобы повествование было личностным в каждой своей точке, автор идет на раздвоение своего авторства, на своеобразное «двойничество», наделяет и «я»-повествователя и главного героя — Антипова — сходной со своей биографией. Мир видится сквозь множество мелких и, на первый взгляд, не имеющих никакого смысла подробностей, неповторимых ракурсов. Повествование подчиняется «всесильному богу деталей», за счет чего возникает объемное изображение мира и преодолевается дидактизм, порожденный властью автора над художественным текстом.
Трифонов строит сюжет необычно, прослеживая не хронологические, а ассоциативные связи в субъективно-объектной композиции романа. В намагниченном подспудными значениями поле повествования чрезвычайный смысл имеют своеобразные кодовые слова, выделенные разрядкой. Писатель Антипов уже в силу профессии воспринимает все окружающее потенциально воплощенным в слово. Отсюда и чрезвычайное внимание к словесному поведению человека, к тому, как сказано, к «личной семантике». В свое время 10. Тынянов назвал «домашней семантикой» язык посвященных, принадлежащих определенному клану. Трифоновские стилевые искания опираются на опыт предшественников — не только Лескова, помещавшего «ключевое слово» в разный контекст, но и поэтов-модернистов. Говоря о поэтической дедукции, Л. Гинзбург в качестве примера приводит «лирические системы, пользующиеся условным кодом, для посвященных, поэтическими шифрами представлений, существующих в пределах определенного мировоззрения»11.
Автор «Времени и места» широко пользуется подобной моделью. Но, если обоснованием механизма дедукции у символистов было «представление о высших мистических реальностях, стоящих за словами»12, то Трифонов здесь гораздо ближе к Лескову. Слова в трифоновском тексте выделяются как цитаты из чужой речи: воспринимающее сознание как бы примеривается к чужой точке зрения, пытаясь ее освоить, и резкая граница чужеродности сохраняется. Полной ассимиляции «чужого слова» зоной повествователя не происходит, если даже оно попадает в родственную языковую среду (например, ближайшее окружение Антипова говорит с ним на одном языке). Завершенность, единство романа, достигается, в сущности, генерализующим, как и в сказе, композиционным способом.
Таким образом, исследование поэтики разных писателей обнаруживает общность стилевых исканий и подтверждает их связь с определенной литературной традицией сказового повествования: именно в русле, проложенном Пушкиным, Гоголем, Гл. Успенским и, в особенности, Лесковым и писателями 20-х гг. нового века, двигались художники 70—80-х гг. XX в.
В заключении обобщаются результаты анализа тех струк-
п Гинзбург Л. Я. Частное и общее s лирическом стихотворении И Вопр. лит. — 1981. — № 10. — С. 155—156.
12 Гинзбург J1. Я. Указ. соч., с. 156.
турных и смысловых особенностей, которыми характеризуется лесковский сказ, а также определяются главные типологические признаки генетически связанных с ним художественных систем.
• «Физиологический очерк» 60-х гг. вернул русскую прозу к поэтике, основанной на фактографичное™, вернул к логике соотношений социального и личного, утратив романтический колорит и уйдя в глубины бытовой эмпирики. Лесков в сказе, соединяя объективный факт с его субъективным восприятием, приходит к очень своеобразному синтезу двух разных эстетических систем, где сохранившиеся в «снятом» виде элементы образуют качественно новый художественный сплав.
В основу этого нового эстетического образования ложится «эпическое» доверие к бытию, к его «самоданности», что предполагает у художника интерес к факту и возбуждает интерес к «феноменологической» задаче беспосылочного, «непредубежденного» описания действительности.
Феномен лесковского сказа связан не только с открытием художником словесной реальности, соответствующей опре-деленньш сторонам жизни — в сущности, каждый писатель вводит ее в художественный текст в качестве речевой характеристики персонажей. «Смелость изобретения» у Лескова— в открытии новых эстетических и познавательных возможностей бытового устного слова. В лесковском сказе художественно исследуется и в своем эстетическом качестве выступает как главное средство художественного познания действительности речевое поведение героя, его языковая активность (органическая и потому трудно отличимая от других форм естественного поведения).
Лесковский сказ — это повествование с тщательно замаскированным мнимой «безыскусностью» конфликтом между прямым и подразумеваемым смыслами рассказанного.
Пользуясь неограниченными познавательными возможностями устного слова, Лесков блистательно осуществляет в прозе то, что считалось и действительно было до него прерогативой поэзии: роль контекста в поэтике сказа становится столь же всеобъемлющей, как в поэзии, пользующейся «игрой слов» ради приращения смысла в подтекстовых значениях и ореолах. От лирической прозы сказ отличается своей импровизационностыо, т. е. установкой на устное, а не записанное слово и необычайной колоритностью. Последнее обусловлено вовсе не пристрастием художника к оригиналь-
¡¡ому народному слову, а той особой ролью, какую оно призвано сыграть в данной, художественной системе. Устное слово героя изображается и в этом качестве противостоит стилистически нейтральному языку повествователя — «запис-чика», последний становится фоном для языка героя, воспринимаемого поэтому как альтернативная, особо экспрессивная форма. Расслоение повествования на две стилевых зоны становится художественным принципом сказа, ибо воплощает несовпадение миропонимания повествователя и героя. Длина этой дистанции является отличительной особенностью сказа, равно как и наличие слушателей (или слушателя), что специально фиксируется в тексте.
Особая активность стиля в лесковском сказе возникает именно потому, что сказ предполагает наличие максимально широкой зоны авторского избытка: слово героя, внешне освобожденное от авторской интонации, вбирает в себя и то, ^о присутствует в сознании и подсознании рассказчика, и то, что находится вне их — в мироотношенни творца. Слово героя становится зеркалом, в котором отражается и внутренний мир самого героя в его максимальной полноте и внешний мир в его объективной сути. Открытая субъективность рассказа героя изнутри корректируется теми смысловыми отношениями, которые возникают при взаимодействии всех элементов художественного текста. Все это и позволило Лескову в новом стилевом содержании воплотить эволюцию народного самосознания.
По теме диссертации опубликованы следующие работы:
1. Стилевые искания Лескова-художника в романе-хронике «Соборяне» // Проблемы литературных жанров: Материалы второй научи, межвузовской конференции. — Томск, 1975, с. 14—21.
2. Причинно-следственные сцепления в сюжете повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» // Писатель и время. — Вып. 1. — Ульяновск, 1975, с. 10—15.
3. О поэтике повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» Ц Изв. ВГПИ. — 1976. — Т. 161, — с. 21—40.
4. Выразительная функция слова в романе-хронике Н. С. Лескова «Соборяне» // Изв. ВГПИ. — 1977. — Т. 173.— С.
5. Писатель будущего // Лесков И. С. Поовести и рассказы. — Ворнеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1979, с. 3—20.
6. «Запёчатлённый ангел» и «Очарованный странник» Н. С. Лескова. — М.: Худож. ли г., ¡980, 174 с.
7. В поисках своего слова. // Вопр. лит. — 1981. — № 2.— С. 189—212.
8. Классик и современники. // Подъем. — 1981. — №3.—
С.
9. Великий рассказчик. // Лесков Н. С. Очарованный странник: Повести и рассказы. — М.: Худож. лит., 1981, с. 3—18 (Переизд. в 1982 и в 1983 гг.).
10. «Сердцевина целого». // Лесков Н. С. Левша: Повести и рассказа. — М.: Худож. лит., 1981, с. 2—15. (Переизд.: Правда, 1984, с, 5—18).
11. «На роковом распутье русской истории...» // Успенский Гл. И. Книжка чеков: очерки и рассказы. — М.: Правда, 1985, с. 3—18.
12. Художник «переходного времени». // Успенский Гл. И. Рассказы и очерки. — М.: Правда, 1986, с. 450—466. 4
13. «А там во глубине России...» ,// Лесков Н. С. Соборяне. Захудалый род. — М.: Правда, 1986, с. 548—560.
14. Дыханова Б. С. «Грабеж» Н. С. Лескова: о своеобразии воплощения народности в рассказе // Современность классики: Актуальные проблемы изучения русской литературы. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986, с. 73—86.
15. Глеб Иванович Успенский. // История русской литературы XIX века: вторая половина. — М.: Просвещение, 1987, с. 354—373. (Переизд.: М.: Просвещение, 1990).
16. Слова «незнакомых» песен. // Творчество Н. С. Лескова: Межвузовский сб. научн. трудов. — Курск, 1988, с. 133—153.
17. «К одной только правде — хотя бы и болящей, но искренней...» // Успенский Гл. И. Сочинения: В 2-х т. — Т. 1. — С. 5—30. — М.: Худож. лит., 1988.
18. «Очарованный странник катакомб языка...»: О художественном мире позднего Лескова // Лесков Н. С. Повести и рассказы. — М.: Правда, 1988, с. 3—14.
19. Россия Глеба Успенского. // Успенский Гл. И. Очерки и рассказы. — М.: Худож. лит., 1989. с. 3—16.
Воронеж. Обл. тип. 394-92, т. 100. Объем 2 п. л.