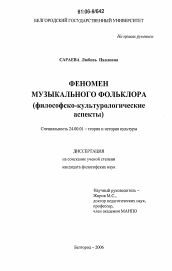автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01
диссертация на тему: Феномен музыкального фольклора
Полный текст автореферата диссертации по теме "Феномен музыкального фольклора"
На правах рукописи
САРАЕВА Любовь Павловна
ФЕНОМЕН МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА (философско-культурологические аспекты)
Специальность 24.00.01 — теория и история культуры
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук
Белгород - 2006
Работа выполнена на кафедре культурологи и теологии Белгородского государственного университета
Научный руководитель
доктор педагогических наук, доцент Жиров Михаил Семенович
Официальные оппоненты:
доктор философских наук, профессор Шевченко Николай Ильич; кандидат философских наук Спицына Татьяна Вячеславовна
Ведущая организация
Орловский государственный институт искусств и культуры
Защита состоится 7 октября 2006 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.015.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук при Белгородском государственном университете (308600, г. Белгород, ул. Преображенская^ 78, социально-теологический факультет).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Белгородского государственного университета (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85).
Автореферат разослан 6 сентября 2006 г.
Ученый секретарь . диссертационного совета .
доктор философских наук, доцент
С.М. Климова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования обусловлена реальными потребностями общества в гуманизации осознания социокультурного пространства, что невозможно без формирования нового стиля мышления, миропонимания и собственно духовной деятельности. Этому способствует музыкальный фольклор, в сфере которого формировались представления человека о мире, окружающей действительности, система восприятия образов, язык, верования, знания и умения, обычаи, формы трудовой и общественной жизни. Утрата смысловых форм и ценностных доминант традиционного музыкального фольклора влечёт за собой распад принятых в этнической традиции нравственных устоев и норм поведения, этнокультурных синхронных и диахронных связей, ослабление чувства национального достоинства, национального самосознания, культурной идентичности.
Данное обстоятельство актуализирует острую необходимость преодоления инерционности научных исследований в сфере духовной культуры, в том числе — музыкального фольклора, народного творчества, способствующих осознанию сущности Человека, объяснению диалектики отношений «человек - мир» сквозь призму реальных музыкальных систем, воспринимаемых не как свод застывших художественных форм народной музыки, а как социальный, антропологический, культурный феномен, наделённый бесконечным креативным потенциалом, осмысление которого способствует осознанию своих этнокультурных, ментальных основ, постижению нравственных, эстетических, волевых и интеллектуальных способностей человека, их гармонизации, а потому целостное культурологическое исследование феномена музыкального фольклора возможно в междисциплинарном диалоге, с учетом его (музыкального фольклора) взаимодействия с наукой, религией и философией, в соотношении художественного и нехудожественного начал.
Степень научной рсоработанности данной проблемы предопределена тем, что сущностные основы, общие закономерности развития и функционирования культуры, неотъемлемой частью которой является музыкальный фольклор, нашли отражение в философских, естественнонаучных, культурологических, искусствоведческих работах: B.C. Библера, Р.И. Грубера, В.Е. Гусева, М.С. Кагана, A.C. Каргина, М.Н. Котовской, В.В. Медушевского, В.М. Межуева, И.П. Павлова, Ю.В. Рождественского, В.Н. Холоповой, H.A. Хренова.
Выявление взаимозависимости между артефактами музыкального фольклора, принадлежащими различным культурно-историческим эпохам, в процессе анализа исторического, этнографического материала потребовало формирования теоретической платформы диссертации посредством осмысления результатов исследований в области философской антропологии (работы А. Гелена, М. Шелера, С.Е. Гречишникова, Б.Т. Григорьяна, П.С. Гуревича и др.); культурной антропологии (Э. Тайлора, Дж. Фрезера); в области проблемы времени (А. Августина, М. Меряо-Понти, И. Ньютона, А. Эйнштейна, В .И. Вернадского,
A.И. Тсшстопятенко и др.); проблем эстетики (Р. Ингардена, А. Шопенгауэра,
B.В. Кандинского, А.Ф. Лосева и др.); в области музыкальной эстетики (Т.В. Чередниченко, В.П. Шестакова, Дж. Кейджа, МА. Марутаева и др.); теории культуры (Э. Кассирера, В.И. Ленина, К. Маркса, Г. Рохейма, К. Юнга).
В рамках исследований теории культуры обращает на себя внимание осмысление процессов мифотворчества как способов освоения мира (А.Н. Веселовский, О.Ф. Миллер, И.П. Сахаров, И.М. Снегирёв); в символическом аспекте (Ю.М. Антонян, Ю.МЛотман, Е.М. Мелетинский, М. Элиаде); в филолого-фольклорном аспекте (В.В. Иванов, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров); в аспекте космологического компонента, отражающего процесс формирования реальности через ощущения древнего человека (О. Ройтер, В.В. Дёмин, Д.В. Кутапёв, МЛ. Серяков). На стыке дисциплин: этнографии, литературоведения, истории, — фольклор , рассматривали
A.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, A.A. Потебня, Б.А. Рыбаков.
. Познание культуры как феномена представлено у О. Конта, М. Вебера,
B. Дильтея, Б.Малиновского, JI. Уайта, О. Шпенглера. Выявление механизмов формирования, функционирования и трансляции культуры под воздействием биоритмов человека и алгоритмов природы, определение музыкальных метроритмов, связи музыкальных форм с процессами, происходящими в социуме, обнаружение тождественности музыкального мышления биомеханике человека, нашло отражение в ведической, античной философии (Пифагор, Протагор), работах К. Леви-Стросса, М. Хайдеггера, Б.В. Асафьева, И.И. Земцовского, Д.В. Кандыбы, К.В. Квитки, Д.В. Колесова, Е.А. Минаева, Ф.А. Рубцова, В.М. Щурова, З.В. Эвальд.
Семантический смысл музыкального фольклора представлен в работах Г. Гадамера, Э. Гуссерля и др., в исследованиях С.М. Климовой,
C.И. Некрасова, H.A. Некрасовой и др. Относительность показа объективных и всеобщих оснований концептов «рациональность», «знание», «истина», «реальность», а также морально-нравственных категорий, ментальности в фольклоре освещается в трудах JL Леви-Брюля, Л. Февра, X.. Штейнталя, в работах E.H. Ищенко, В.П. Римского, Ю.С. Степанова, М.В. Черникова. Роль музыкального фольклора в аспекте функционирования социокультурного института обозначена в исследованиях В. Тернера, A.B. Бабаевой, В.О. Ключевского, В.М. Розина. Истоки структурного осмысления фольклорного наследия обнаруживаем у Фукидида, К.Д. Кавелина.
Проблемы национального своеобразия фольклора в синтезе исторического и культурологического подходов разрабатывались отечественными философами, религиозными мыслителями, историками и социологами: НА. Бердяевым, Н JL Данилевским, И.А. Ильиным, И.В. Киреевским, А.Ф. Лосевым, В.В. Розановым, П.А. Флоренским, СЛ. Франком и др. Поиском черт национального своеобразия в фольклоре занимались «евразийцы»: Л.Н. Гумилёв, Н.С. Трубецкой. Осмысление процессов социокультурной динамики и преемственности в музыкальном фольклоре стало возможным благодаря «цивилизационной» концепции
A. Тойнби, а также на основе разработок А Л. Флиера и др. Отдельные аспекты анализа семантики музыкального фольклора присутствуют в работах
B. Гошовского, Б.Б. Ефименковой, Л.В. Кулаковского, A.B. Рудневой, ВВ. Цуккермана, В.М. Щурова. Особое место в изучении регионального музыкального фольклора занимают работы белгородских этнографов и
фольклористов О.И. Алексеевой, М.С. Жирова, О.Я. Жировой, И.Н. Карачарова, В.А. Котели, И.И. Веретенникова и др., представляющие специфику народной художественной культуры края, в том числе — музыкального фольклора.
Нельзя не отметить, что в атмосфере интегративности культурологической науки профессиональная актуализация музыкального фольклора до сих пор осуществляется в рамках рассмотрения его как творческого процесса, благодаря чему востребованность нового методологического аппарата, способного обеспечить комплексный культурологический анализ фольклора5, очевидна.
Таким образом, проблема исследования обоснована возросшим интересом к традиционным ценностям культуры, недостаточной изученностью и востребованностью гуманитарного, гуманистического потенциала музыкального фольклора, наделенного такими чертами, как универсальность, экстравагантность, экстраординарность, вероятность, уникальность.
Объектом исследования является музыкальный фольклор в своей креативной полифункциональности.
Предмет исследования — процесс формирования и бытования музыкального фольклора и ценностная трансляция его в современное социокультурное пространство.
Цель работы — философско-культурологическое осмысление феномена музыкального фольклора в контексте его генезиса, эволюции и форм бытования.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью диссертационного исследования решались следующие задачи:
1) выявить теоретико-методологические основы исследования проблем музыкального фольклора в контексте его ретроспективного анализа;
2) раскрыл, регулятивно-адаптивный аспект феномена музыкального фольклора как базиса общечеловеческих, этнических, национальных констант;
3) определить коммуникативные средства музыкального фольклора, обосновать механизмы его трансляции в современный социум;
4) охарактеризовать музыкальный фольклор в структуре культурогенеза региона, определив основные тенденции его развития;
5) выделить аспекты «времени», способствующие постижению «целостности» содержания музыкального фольклора, границ его реальности;
6) осуществить комплексный семиотический анализ музыкального фольклора.
Теоретико-методологической основой исследования ■ стали технологии, позволившие обосновать концепцию понимания феномена музыкального фольклора в социокультурном контексте:
— системный подход, обусловивший представление музыкального фольклора как формы существования и движения реального мира в его упорядоченности; . ,
— исторический метод, демонстрирующий человека в единстве его биологических, социальных и культурных параметров;
— функциональный метод, обнаруживший направленность гуманитарной энергии на познание, оценивание, преобразование объектов субъектами деятельности в процессе их взаимодействия;
— структурный метод, проявивший системные связи в пространственно-временном бытии музыкального фольклора;
— феноменологический подход, послуживший установлению линии демаркации реальных и потенциальных (креативных) возможностей музыкального фольклора в современном социокультурном пространстве.
Основа исследования характеризуется единством философско-культурологического подхода, системно-универсального, сравнительно-исторического, структурно-функционального и эмпирического принципов, обусловленных принципом междисциплинарного синтеза.
Эмпирическую базу исследования составили полевые экспедиционные материалы автора, фонды фольклорного кабинета кафедры народного хора Белгородского государственного института культуры и искусств, фактологический материал учёных, этнографов и собирателей Белгородчины.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
— обобщены теоретико-методологические основы ретроспективного анализа феномена музыкального фольклора как социально-культурного феномена;
— выявлено «изначальное» смысловое содержание музыкального фольклора в эволюции «пред...»» — «собственно...» — «пост...» и развитии форм человеческой деятельности, а также в аспекте его полифункциональности (регулятивно-адаптивные, общечеловеческие, этнические, национальные роли; коммуникативные и т.п.);
— осуществлен на основе аутентичных образцов музыкального фольклора его анализ в рамках культурогенеза региона и определены основные тенденции его сохранения, трансляции и развития;
— аргументирована вневременная значимость музыкального фольклора, обусловленная актуальностью его содержания;
— выявлена полисемантичность музыкального фольклора в контексте его онтологической и антропологической направленности.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Культурологическая методология позволяет сформировать ценностно-смысловой и социо-технологический взгляд на музыкальный фольклор. Являясь антропологическим и социальным, наделённым бесконечным креативным и инкультурационным потенциалом феноменом музыкальный фольклор постепенно освобождается от зависимости «внешних» факторов: экономических, политических, идеологических, социальных, что лишает его вторичности и придает особый социокультурный статус.
2. Музыкальный фольклор поступательно формирует социокультурное и символическое пространство, ценностные общечеловеческие, этнические, национальные константы благодаря уникальным регулятивно-адаптивным и коммуникативным факторам жизнеобеспечения гуманитарного фундамента.
3. Музыкальный фольклор, анализ которого в масштабе культурогенеза региона, особой региональной этносоциальной культурной системы, аккумулирует и воспроизводит социально-стереотипизированный комплекс его духовных ценностей, опыт народа, этапы его истории, что мотивирует цельный смысловой неповторимый этнокультурный «узор» сущности каждого из его образцов.
4. Вневременная актуальность музыкального фольклора обусловлена содержательным триединством его профанного, социокультурного и ментального модусов.
5. Музыкальный фольклор, сформировавшийся под влиянием принципа «позитивности знания», механизма ; «долговременности памяти», первоначально детерминированный. совокупностью исторических, социально-бытовых, природных и культурных факторов, в итоге сконцентрировал в себе реальный онтологический, антропологический потенциал, проявившийся в полисемантичности.
Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного исследования определяется самим подходом к анализу проблемы, построенному на обобщении историко-философских, культурологических, этнографических, искусствоведческих материалов. В работе осуществлена попытка всестороннего рассмотрения феномена в контексте определения наиболее эффективного пути его реконструкции и трансляции в современный социум. Результаты и выводы исследования способствуют пониманию процессов саморегуляции и самовоспроизводства музыкального фольклора, выступающего органичной частью духовной жизни народа; это делает возможным использование данной работы в реализации практических культурно-образовательных, художественно-эстетических и воспитательных проектов и программ различного уровня.
Материалы работы нашли применение в содержании лекционных дисциплин «Русское народное музыкальное творчество», «Расшифровка записей народной музыки», «Областные певческие стили», в разработке курсов по выбору профессионального этнохудожественного образования особой модели «детский музыкально-эстетический центр — школа — колледж — вуз». Полученные результаты могут быть использованы в процессе преподавания философии, культурологии, регионоведения, истории мировой и отечественной культуры, а также в дальнейшей научно-исследовательской работе автора.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе научно-исследовательской, учебной и научно-творческой деятельности автора в рамках лаборатории «Музыкальный фольклор Белгородчины» кафедры народного хора БелГИКИ, преподавания специальных дисциплин («Расшифровка записей народной музыки», «Фольклорный ансамбль», «Фолыаюрно-этнографическая экспедиция»).
Основные положения исследования нашли отражение в выступлениях на научных конференциях различных уровней (гг. Курск, Белгород, 2000-2005 гг.). Результаты работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Народная культура российской провинции» (Курск, 2002); международной научной конференции «Человек, культура и общество в контексте глобализации» (Москва, 2005), I, И, III Международных молодёжных Иоасафовских чтениях (Белгород, 2002-2005); межрегиональных и межвузовских научно-практических конференциях («Патриотизм как концепт формирования человека и мира»; «Язык, фольклор, культура: проблемы взаимодействия» (Белгород, 2005); Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Философия поверх барьеров: планетарное мышление и глобализация XXI века» (Белгород, 2006). Часть
материалов исследования подготовлена в рамках внутривузовского гранта «Инкультурационная динамика музыкального фольклора Белгородчины: философско-культурологический аспект» (2005).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии, включающей 309 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется степень разработанности проблемы, определяются методологические и теоретические основы, цель и задачи работы, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, их апробация, основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава ■ «Музыкальный фольклор в контексте философско-культурологического знания» посвящена комплексному осмыслению основных подходов к исследованию музыкального фольклора в ракурсе базовых концепций отечественной и западной науки.
В первом параграфе «Теоретико-методологические основы проблем исследования музыкального фольклора» нашло отражение осмысление процесса формирования проблематики музыкального искусства как специфического социокультурного явления, постижение которого представлено в доклассической и классической философии: ведийской, античной, римской, Нового времени (Пифагор, Протагор, Вергилий, Дж. Вико, Й. Гердер и др.). Антропологическая и ценностно-смысловая стороны музыкального фольклора позволили Дж. Фрезеру, Э. Тайлору,
A.Н. Афанасьеву, И.М. Снегирёву, А.Н. Веселовскому и др. доказать его историческую подвижность, цивилизационную значимость. Философское постижение культурологических универсалий, соединивших непреходящие, «вечные» проблемы с конкретно-историческими вопросами жизни общества, позволило H.A. Бердяеву, ПЛ. Данилевскому И.А. Ильину, И.В. Киреевскому,
B.В. Розанову, П. Сорокину, E.H. Трубецкому, СЛ. Франку, П. А. Флоренскому A.C. Хомякову рассматривать музыкальный фольклор как атрибут социокультурной предметности.
Актуализация «позитивного знания» (О. Конт), когда на первый план выдвигается «связь» между фактами и явлениями музыкального фольклора, вследствие чего предметным полем познания обосновывается не сущность как таковая, а феномены в многоаспектности их осмысления (Э. Гуссерль, Г. Гадамер, М. Хайдеггер, К. Леви-Стросс), стала основанием для сопряжения историко-культурного и историко-философского подходов в анализе функционирования феноменов музыкального фольклора. Это вывело на их концептуализацию в контексте целостного развития культуры (С.М. Климова, С.И. Некрасов, H.A. Некрасова).
Генезис различных методологий и основных категориально-понятийных средств в философско-культурологической традиции показал связь и зависимость естественно-научных и культурно-исторических факторов становления и развития теоретических знаний музыкального фольклора (И.П. Павлов, Н.К. Рерих, Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А. Чижевский, В.И. Вернадский), что подготовило почву в воспроизведении
явлений, воспринятых из прошлого этнического коллектива (И.И. Земцовский), увидеть структурно-системные целостности, включающие в себя, «наряду с людьми, доместикаты, ландшафты, богатства недр, взаимоотношения с соседями, ту или иную динамику социального развития, а также то или иное сочетание языков и элементов материальной и духовной культуры», обозначенные Л.Н. Гумилёвым как «этноценоз», универсальное явление, отразившее «некую физическую или биологическую реальность».
Следующим шагом в «материализации» реальности явилось возникновение идеи обнаружения и констатации полевых механизмов бытия в трудах О. Шпенглера, Н. Лосского, Б.А. Минаева, С. Трубецкого, Г. Шпета.
Так, в комплексности естественно-научного, структуралистического, феноменологического подходов проявился гуманистический потенциал музыкального фольклора, бытующего в масштабе «социум — личность». Переключение интересов с объектов познания на субъект (В. Дильтей) в области исследования обычаев, мифов, ритуалов, входящих в содержательную ткань музыкального фольклора, внедряет психологический компонент в поиск причин функционирования предмета анализа (Г. Рохейм, К. Юнг).
В ходе исследования высветились логические его уровни: «человек -жизнь - деятельность», - просматривающиеся от истоков философского осмысления музыкального фольклора и до современных изысканий. Определение центрального места понятию «деятельность» как способу взаимодействия с окружающей средой способствует рассмотрению музыкального фольклора в рамках адаптационизма (в привлечении системного подхода). В этом аспекте границы феномена музыкального фольклора отмечаются рамками представления деятельности как формы активности (атрибутивное качество живого, что является частным случаем движения как наиболее общей характеристики материи), проявляющейся в конкретных её формах (от способов осуществления деятельности, её длительности, степени эмоциональной напряжённости до типов мотивации) (М.С. Каган). Феноменологический «портрет» деятельности показывает принцип универсального функционализма (Б. Малиновский). В то же время актуальной остаётся ценностно-смысловая трактовка культурных артефактов: позиция А. Крёбера, увидевшего в каждой культуре некое смысловое начало, способное контролировать поведение её членов. Различные аспекты этого были развиты в трудах Л. Уайта, Э. Кассирера, М. Вебера.
Плоскостью, на которой происходит сближение адаптационного и ценностно-смыслового направлений теоретической мысли, предстаёт информационно-семиотическая концепция культуры, в которой синтезируются и развиваются идеи параллельного рассмотрения рядов концептов и рядов «вещей» на одних и тех же основаниях, ибо в культуре, равно как и в музыкальном фольклоре, нет ни чисто духовных концептов, ни чисто материальных вещей; каждое из рассматриваемых в ней явлений имеет две эти стороны (Фукидид, К.Д. Кавелин, Э. Кассирер, Ю.С. Степанов).
Данная методология показывает музыкальный фольклор одним из исходных образцов гуманитарной культуры общества, преподнося его как явление духовного и прагматического порядка, как явление духовной и
материальной культуры народа, как историю человеческого духа. Его закономерности развития, процессы и связи, происходящие в нём, очерчивают сущностные свойства самой культуры в целом.
Во втором параграфе «Регулятивно-адаптивный аспект музыкального фольклора» рассматривается данная сторона этого уникального явления. «Навыки духа», манифестируемые музыкальным фольклором и исходящие из глубинных оснований восприятия, обосновываются социально-психологическими и историко-этнографическими факторами. Речь идёт о коллективных представлениях, отражённых в музыкальном фольклоре, которые невозможно осмыслить и понять только путём рассмотрения индивида как такового, но которые составляют «несомненную социальную реальность» (Э. Дюркгейм). Исходными в ней предстают «коллективные формы поведения», генезис которых уходит в «протоколлектив», а её своеобразие выводит нас на уровень понимания специфики мифологических форм бьггия мыслительных категорий для выявления генетической преемственности между мышлением древнего и современного человека. Внимание акцентируется на их влиянии в формировании целостного взгляда на мир, давшего человеку в нерасчленённости познавательных и духовных процессов внутреннюю опору, открывшую для его созерцания духовное царство (Вл.С. Соловьёв).
В аспекте генезиса возникновения исторического сознания, с точки зрения ценностной организации жизнедеятельности, затрагиваются вопросы аксиологической мотивации (Н.Б. Бакач, В.А. Соснин, В.П. Римский). Концептуальная связь между составляющими её «ценностями деятельности» и «ценностями культуры» устанавливается на основе осмысления организации потребностной сферы человека, в своей типологии согласовывающей и примиряющей в рамках поведенческой активности организма различные поведенческие формы (М.В. Черников). Но оперирование идеальными представлениями (субъективные смыслы, мотивы, интенции, ценностные основания), несущими в себе информацию, представляет их элементами организации тактики и стратегии поведения живой системы и, одновременно, формами объективации социокультурных процессов. В данном случае мы обращаем внимание на способность коллективного бессознательного «овнешняться», то есть проявляться в типичных образах фольклора, а, значит, улавливаться сознанием субъекта. Аргументация тезиса гуманитарного единства социокультурного пространства основана на взгляде Г. Рохейма на культуру в целом как на систему «психической защиты от напряжённости и деструктивных сил» и позиции К. Юнга, выявившего соотношение биологически унаследованного и культурно-исторического в жизни народа. Устойчивые механизмы (они же «формы») концентрированного выражения психической энергии, в которых существует и реализуется коллективное бессознательное, архетипы, .по мнению К. Юнга, отражают не только психическое выражение тождественности структур мозга, независимо от расовых, национальных и иных отличий, но и регулятивно-организующую -культурную — основу этих процессов.
Рассмотрение регулятивно-адаптивных особенностей поведенческой активности социальной группы осуществляется посредством анализа фольклорных текстов-цитат. Посредниками мифологического поведения
здесь предстают «медиаторы» — знак, слово, символ, миф, указывающие на мифическое поведение. Его активность направлена на самоподцержание группы, её воспроизводство себя как целого. Это рассматривается в качестве феномена групповой психологической защиты, в аспекте «субъекта активности», осуществляемой в рамках системного образования. В ходе его развития обнаруживаются и преодолеваются противоречия между базовыми системными тенденциями: изменением и сохранением. Основными функциями защитных механизмов (система средств, направленных на поддержание позитивного образа на внутриличностном, межличностном и межгрупповом уровнях) являются как стабилизационная, так и, с точки зрения целостной социально-психологической общности, сохранение «Я-образа субъекта» как члена определённой социальной группы (В.А. Штроо). Стремление сохранить и усилить свою позитивную этническую идентичность нарушает устоявшиеся компенсаторные связи между сознанием и бессознательным (в случае опасности топологической, динамической, структурной, этнической целостности), требуя нового уровня компенсации, тем самым активизируя систему психологической защиты этнической группы: поддержание единства, снятие социальной напряжённости, преодоление конфликтности межгруппового общения и т. д. (функция снятия социальной напряжённости). Являя собой социально-регулятивную функцию, её модификация — смех — тонко соответствует оценке ситуации, иначе он не был бы столь универсальным явлением. Это подтверждается взглядами исследователей на смех как нейрофизиологическое явление (защитная разрядочная реакция мотивационного поля), обоснованное аргументами и фактами как культурологического, так и психофизиологического плана (М.М. Бахтин, АЛ. Гуревич, Д.В. Колесов, В.Я. Пропп).
К составляющим «некоторое феноменальное поле» групповой динамики музыкального фольклора в категории «групповые защитные механизмы» причисляются: групповое табу (запрет на обсуждение «опасных» тем групповой жизни), групповой дух (качество группового решения оценивается с точки зрения сохранности единомыслия в группе), групповой ритуал (обязательное воспроизведение какой-то групповой процедуры, придание этому самостоятельного (символического) смысла) (В.А. Штроо). Ввиду этого ритуал разбирается как в статусе «всеобщего» опыта, так и в статусе «единичного», отображающего специфику определённой общности. Первое основывается на очевидной всеобщности функционирования механизмов групповой защиты, в аспекте представлений о том, чего пытаются достичь люди с их помощью, какой здесь психологический, духовный или иной выигрыш, какие силы они хотели бы привести в действие. Второе исходит от детерминирования ритуального взаимодействия социальными стереотипами межгруппового восприятия, проявляя такие стороны поведенческой активности, как поведенческие шаблоны, которые фиксируют ментальные особенности социокультурных групп, их ценностно-нормативные системы и происходящие в них изменения. Поэтому, осуществляя внутри группы функции социального контроля, они определяют характер мотивации в поведении людей, что «почвенно» объединяет проблемы этноса и связанного с ним понятия
«национальное своеобразие» с вопросами ментальности. Помимо этого, при всём многообразии аспектов, в ней подчёркивается проецирование процессов сознания на восприятие целостности сообщества. Регулирование жизнедеятельности человека и отражение национально-психологических особенностей развития культур овеществляется в ценностях, нормах, традициях, идеалах и убеждениях, что составляет мощный социокультурный институт. Таким образом, содержание музыкального фольклора отражает гуманитарные процессы.
В третьем параграфе «Коммуникативные средства музыкального фольклора» конкретизируется суть понятия «коммуникация» в контексте формирования регулятивных механизмов поведенческой активности социума, который определяется регуляцией индивидуального поведения человека со стороны общества (значимого другого) и социокультурно обусловленной саморегуляцией. Такой подход выстраивает все компоненты музыкального фольклора в зависимость от селектирующего характера регулятивных механизмов. Известно, эволюционируя, они способствовали развитию различных гуманитарных практик. Несомненно, доминирующую роль среди них играет речевой (специфически человеческий) способ обмена информацией, присущей музыкальному фольклору. Формальная структура человеческой речи предоставляет широкие возможности для экспликации и репрезентации в режиме «проговаривания» различного рода идеальных представлений. Соответственно, ментальное содержание психики получает конвенционально закреплённый, стереотипный способ своей объективации в звуковой, а позже — и в письменной речи, в реализации двух типов режима: перевода «речи другого» в план идеальных объектов, управляющих поведенческой активностью, и перевода идеальных объектов, присутствующих в психике индивида, в «речь для другого». На этом этапе становится возможной и автоадресация: речь для другого направляется к самому себе и воспринимается как речь другого. «Биполярность системы ментального обеспечения человеческой индивидуальной деятельности» (М.В. Черников), проявляя коммуникативную форму жизнедеятельности, в свете сказанного, имеет выходы на «прямую» и «ритуальную» формы коммуникации посредством музыкального фольклора. Первая связана с образованием института «знание», материализованного в образцах фольклора. Характеризуясь как «обладание предназначенными для регуляции жизнедеятельности идеальными объектами» (М.В. Черников), знание становится в рамках человеческого сообщества фактически совокупным, сознанием. Знание в себе становится знанием для себя, самосознающим знанием. Именно в рамках музыкального фольклора как способа жизнедеятельности конституируется система не просто ментальной, но сознательно-ментальной регуляции жизнедеятельности человеческого общества. При этом на первый план выходят смысловые образования, обслуживающие выполнение общественно значимых целей и задач, среди которых основополагающее значение имеет проблема сохранения социального статуса, что предполагает, с одной стороны, сохранение сообщества как такового и с другой — поддержание своего членства в сообществе.
Помимо «прямой» коммуникации, увеличивающей информацию в музыкальном фольклоре, выделяется «ритуальная» коммуникация, которая
играет роль возбудителя, вызывающего потребность в ней внутри сознания получателя. Функции приёмников информации - «органов» - в ритуале несут его структурные единицы - ритуальные символы, которые способны «превращать интимнейшее молчание индивидуальной мистической души в орган вселенского единомыслия и единочувствия, подобно слову и могущественнее слова» (Вяч. Иванов). Это основано на «невспоминаемой» коллективной памяти — коллективном бессознательном, содержание, смыслы и символы которого наследуются «посредством определённой формы мнемических (запоминающихся) образов или, выражаясь анатомически, через структуры мозга» (Ю.М. Антонян). «Бессознательное» при этом является источником сил, приводящих душу в движение, а его регуляторами -«формами и категориями» — предстают «архетипы».
Отсюда - функционирование института иконичности, канона, присущего музыкальному фольклору, поддерживающего «символическую» реальность, основанную на глубоком и стойком уважении к образцам в древнем обществе с его низкой динамикой. Переходя из поколения в поколение, они сохраняли архетипические стержни и механизмы, обеспечивающие психологическую и духовную преемственность. Особенность «ритуальной» коммуникации музыкального фольклора ценна тем, что каноническая система не теряет способности быть информационно активной. Важно и то, что формирование мировоззренческих образований ряд исследователей увязывает с процессами концептуализации «коллективного бессознательного» (Ю.С. Степанов).
Различные измерения музыкального фольклора (артефакты, организованные группы людей и символизм, тесно связанные одно с другим) в современных взглядах на культурологическое пространство предполагают необходимость смены контекста теоретического их осмысления. Так, фольклорная сфера трактуется как колыбель человечества, характеризуясь формированием в ней «программ» жизнедеятельности, поведенческих практик, которые до сих пор содержат в себе в концентрированной форме весь предыдущий исторический опыт. Генетические истоки музыкального фольклора являют собой феномен «социальной реальности», в которой воплощены коллективные представления, опосредованные «мифологическими формами бытия мыслительных категорий» (В.П. Римский), конституируя информационно-коммуникационные характеристики социокультурной среды.
Представленные выше архаические способы коммуникации музыкального фольклора (механизмы поддержания единства, снятия социальной напряжённости, преодоления конфликтности межгруппового общения и т.д.), характеризуют социум как коллективную форму жизни и функционируют на всех этапах исторического развития, ибо «каждое общество сталкивается с социальными противоречиями» (A.C. Каргин, H.A. Хренов). Это подтверждает универсальность коммуникативных функций фольклора.
Введение категории «художественная коммуникация» способствовало рассмотрению вопросов о психофизических началах музыкального фольклора в контексте психоэнергетического феномена «эмоции», объективация которых воспринимается как объективация непосредственных смыслов. Нами проанализирована двусторонняя направленность природы
коммуникативности музыкального фольклора: от историко-культурной реальности в современной его ситуации к историко-генетической сущности и от архаичной сущности к историко-культурной реальности настоящего момента. Эти направления обусловлены различными плоскостями исследовательских изысканий. Если во втором случае рассматриваются архаические коммуникативные механизмы, функционирующие в «коллективном» сознании, то в первом - социализация чувства (средство историко-культурного эволюционирования коммуникативных механизмов), которое объективировано, вынесено вовне, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, сделавшихся внешними орудиями общества для «переплавки чувств индивида» (Л.С. Выготский). В контексте данного исследования важна как первая, так и вторая точки зрения, ибо только в их единстве возможно целостное осмысление музыкального фольклора. Ритмические и звуковые проявления человека, создание музыки как вида искусства — особая ступень энергоинформационной эволюции сознания, зависимая от полевой формы действия и непосредственно переходящая в полевую форму развития. Согласно этому функция музыкальной сферы шире её «художественной коммуникации», так как представляет собой инструмент адаптациогенеза человеческих сообществ на основе «понятия биополя человека как физического поля высокой степени информационного наполнения и сложности» (Е.А. Минаев).
Во второй главе «Музыкальный фольклор в социокультурном пространстве региона» он проанализирован в аспекте социокультурной динамики. На основе анализа культурогенеза этномузыкальной традиции вычленены глобальное и локальное, интегральное и дифференциальное составляющие содержания музыкального фольклора Белгородчины.
В первом параграфе «Музыкальный фольклор в структуре культурогенеза региона» даётся анализ музыкального фольклора Белгородчины на основе «интегрирующей науки» концепции (А.Тойнби), предоставляющей возможность осуществлять переход от всеобщего через общее к единичному и обратно. Мы обращаемся к музыкальному фольклору как явлению социально-культурной жизни и вместе с тем как факт человеческого сознания.
Интонационность его «звукообразов» (мелоса) суть духовно-творческая практика бесчисленного ряда поколений, в которой конденсируются разные виды культурологического содержания (Б.В. Асафьев): отображение действительности (посредством объективного тона «высказывания», предопределяющего изложение событий, внешних по отношению к сказителю); эмоциональное и оценочное воспроизведение внутреннего мира человека; коммуникативная направленность творческого «моделирования реальности» — драматическое действие. Эволюция интонационности есть социально-историческое её наполнение, объективирующееся в социальном переосмыслении звукообразов. Представленная констатация даёт возможность осмыслить область культурогенеза, трансфером социокультурного опыта в котором предстаёт традиция, передающая социально-историческую данность процесса формирования и развития определённого этнографического локуса, его населения, специфику музыкального фольклора, основные константы
которого заложены комплексом субстратных (местных) и суперстратных (пришлых) компонентов. Обусловленность формирования музыкального фольклора Белгородчины (региона) автохтонными и миграционными процессами обозначила в его сфере наличие неравномерно проявляемых следов активного социокультурного взаимодействия различных этносов и локальных этнических групп (племени северян как «коренного этноса», «севрюков», «горюнов», «саянов», «цуканов», «мамонов», «евунов», «щекунов», «ягунов»); колонистов (вольных - украинцы, белоруссы, а также правительственных, монастырских, помещичьих, единого сословного класса земельных собственников, владевших землёй по частному «четвертному» праву, где наиболее консервативной оказалась культура «детей боярских» (М.С. Жиров, В.М. Щуров). Концентрация торговой и культурной жизни вокруг местных административно-хозяйственных центров XVIII в. также способствовала формированию мозаичной региональной системы музыкального фольклора: песенного, инструментального, хореографического, представленного обрядовыми песнями календарно-земледельческого круга и семейно-бьггового назначения.
Анализ природы музыкального фольклора осуществлялся на основе эмпирических и аналитических подходов, позволяющих представить особенности культурогенеза конкретной социоэтнической общности через призму подлинных образцов музыкального фольклора. Принципы синхронного метода на основе этнографических и исторических фактов, диалекта, характерных жанров и интонационного материала способствовали детализации специфики музыкального фольклора региона в контексте его исторической и этногеографической конкретики.
Типологический метод помог вскрыть некоторые существенные закономерности мелодики фольклорных произведений, структура, образное содержание, функции которых имеют и общий (международный) характер и неповторимые локальные черты конкретного локуса. На основе сравнительных и сопоставительных операций стало возможным исследование различной степени однородности музыкальных образцов в аспекте культурогенеза региона. Суть «метода реставрации народных песен» -в последовательном освобождении музыкальной основы от возникавших в процессе исторической эволюции более поздних стилевых напластований. Комплексное применение этномузыкальных подходов и методов музыкально-стилевого анализа позволило конкретизировать историко-генетическое содержание музыкального фольклора в плане вычленения следов внешних влияний. Так, наличие протофилософских элементов в содержании текстов регионального музыкального фольклора свидетельствует об индоевропейских, восточнославянских корнях; заимствование музыкальных форм (типы национального переосмысления) — о творческом восприятии русскими ратными людьми некоторых украинских и белорусских стиховых структур, проникших на территорию края в период ХУ1-ХУП вв. при освоении «дикого поля». В этом ряду стоят инфильтрация польских и литовских интонаций, привнесённых в музыкальный фольклор Белгородчины поселенцами из русского Смоленска и динамика традиций украинской метрополии и старожильческой среды в сёлах с переселенцами.
Тендерной константой музыкального фольклора региона является «мужской характер» песенной традиции, что также исходит из особенностей культурогенеза. Импульс мужского начала идёт от доминирования в архаичном слое календарного фольклора форм музицирования с приоритетом мужской инструментальной традиции, представленной «пишшиками», дудками, «рёвами», «треногами», скрипицами, гудочками, трубушками, бапабайками; а также от ментальности «ратных людей», «испокон веку» населяющих край (М.С. Жиров, В.М. Щуров). Таким образом, музыкальный фольклор региона «манифестирует» своё принципиальное различие с музыкальными жанрами других регионов России, представляя нам широкую панораму этого процесса, калькируя структуру культурогенеза Белгородчины.
Во втором параграфе «Время» в целостном познании сущности музыкального фольклора» показаны модификации категории «время», что способствует пониманию содержательной целостности социокультурного пространства, неотъемлемой частью которого является и область музыкального фольклора. Внимание акцентируется на механизме ценностного смыслообразования. Этим объясняется экзистенциальность времени, текущего не от прошлого в настоящее и в будущее, а от настоящего к последующему настоящему, так как человек всегда вынужден защищать своё настоящее, одновременно подвергаясь давлению со стороны прошлого и будущего. Вопреки традиционному линеарному восприятию течения времени, экзистенциальная временная траектория, скорее, выглядит как спираль, динамика уровней которой покоится на «преемстве» (В.О. Ключевский).
Отсюда «полихронность» музыкального фольклора, ведь в нём каждое «здесь-и-теперь» уникальным образом складывается из разных культурных времён или эпох, представляя собой противоречиво функционирующую целостность. Поэтому время ментально, так как доносит глубинную часть социальной информации в разнообразии ценностей и смыслов. В нём существуют идеи, в отличие от реального, исторического времени, в котором живут люди, и ведущим принципом его организации является не хронология, а «стада ализация полихронности», «мозаика» ценностных смыслов, возникающих в процессе жизнедеятельности социума и формирующих поведенческие практики человека.
В параграфе рассматриваются особенности функционирования человеческого сознания в условиях доклассового общества в алгоритме сохранения внутренней пропорции между представлением (образом) и его оформлением, специфичными для каждой общественной формации, с внутренней тождественностью значений при многообразии их проявлений. Низкая динамика социокультурных процессов древнего общества обусловила долгое их доминирование. Отождествление субъекта и объекта, мира одушевленного и неодушевленного, слова и действия длительный период времени происходило независимо от изменяющихся ценностных установок, что отражено в метафорических образах различных уровней и географической локализации: тотемистических (гуси-лебеди, утки, горошек и пр.); анимистических (божества озёр, рек, деревьев и т.д.); политеистических (образы Сварога, Даждьбога, Перуна, Хорса, Ярилы, Стрибога, Волоса, Мокоши, Рода и рожаниц) и других, менее известных и спорных. Цельный
характер смысловой системы доклассового общества показывает не дифференцированное на отдельные идеологии мировоззрение, смысловой константой в котором стало стадиально изменяемое отождествление космоса и общества. При этом предшествующие смыслы продолжали функционировать в нём «стоячими масками» «космо-быта» и в переосмысленном виде (О.М. Фрейденберг). Об этом свидетельствуют сопутствующие антропоморфным божествам «звериная» атрибутика или закрепившиеся за ними «звериные» прозвища. В более поздних стадиях аналогично растительный прототип в виде растительного атрибута или прозвища символизировал и зооморфность и космогонический контекст мироздания. Переосмысление-перекодировка метафорических образов затрагивала внешнее их оформление, выразившись в изменении и варьировании формы, но соотношение между семантикой образа и семантикой этих форм в пределах архаической формации не изменялось.
Переориентация на новую значимость и ценность последовательно отразилась в угасании зооморфного кода «охотничьего» периода при доминировании вегетативного, свойственного «земледельческому»; в стадии эпохи матриархата - с плодотворящей функцией богов (преимущественно женских); патриархата — с небесно-световой: «светодарящей» и «жизнетворящей» функциями богов (преимущественно мужских). Обращается внимание на смену стереотипа восприятия, обоснованную объективным ходом реальности. Например, смысл «исчезновения-появления» тотема «затмевается» смыслом «смерти-воскресения» бога. С развитием же ткачества, плетения переосмысляется место пребывания божества - теперь это шатёр, полог, то есть то, что классифицируется как «тканевые метафоры». Но статус «социального архетипа», сформированного «коллективным сознанием» архаичного общества, отражает их общую суть единично-множественной метафоры солярности, вегетации, возрождений. Вышесказанное позволяет говорить о «знаковых» временах, в которых объединение людей происходит через единство способов установления и решения общих задач эпохи, что становится мерой значимости в ней любого культурного явления. Тем самым физические параметры времени, связанные со стадиальностью, не исчерпываются хронологией. В связи с этим исследована аксиологичность времени: понятие «цикличности» времени как постижение внутренней связи человеческого существования со временем. Закрепление данного концепта произошло в синонимизации слов «душа», «судьба», «жизнь», понятийно связанных с временной мерой жизненного процесса. В них сосредоточился опыт осмысления времени как меры значимости жизненного цикла. Спецификой этого представления является овеществление и материализация физического времени и пространства в образе «округленного» пространства -коловорота, в котором Миру и Времени присущ циклический ритм солнца: восход, шествие, заход. Отсюда смерть в сознании первобытного общества наделялась рождающим началом. Как ценностный смысл, идея бессмертия была подвержена переосмыслениям, то есть носила полихронный характер. Ей воплощение мы находим в образцах музыкально-обрядового фольклора в виде идеи вечного процесса продолжения жизни, персонифицированной в мифологии славянского язычества в фигурах Рода и рожаниц, в фаллических культовых представлениях. Основным моментом в цикличности признаётся
творение, появление нового, что делает его значимым и ценным одновременно (повсеместное празднование Нового года, отражающее законы космогонии: нарождение Нового мира, чистого мира). Подобное явление встречаем в архаичных заговорах на исцеление, где, по очевидным причинам, практиковалось исполнение ритуалов, символизирующих творение. Возвращение к творению можно наблюдать и при инициациях.
Другой важнейшей ипостасью представления о цикличности времени в музыкальном фольклоре является ощущение «урочного» часа реализации жизненной энергии. Оно сосредоточилось в концепте «сакральность», основными характеристиками которого, идущими от «цикличности», является прерывистость, обратимость, отсчёт в контексте каких-то событий. Истоки сакральной континуализации времени лежат в устойчивом представлении, что человек и окружающая действительность, коллектив и индивидуальность слиты, а в силу этой слитности общество есть природа. Параллельно объективному ходу вещей человек «действенно», «вещно» и «персонифицированно» «творит» мир, воспроизводя его мировоззренчески. С этой точки зрения, архаичные фольклорные жанры — фрагменты сакрального концепта, в которых и события, и персонажи интерпретируются космогонически, воспроизводясь действием, вербально, интонационно. С течением времени, в результате естественного «размывания» целостности доклассового мировоззрения, происходила деритуализация, десакрализация образов, низводящихся в сказочные, ослабление строгой веры в истинность мифологических «событий», детализация образов, с выделением различающихся разноуровневых сил, с конкретизацией и спецификацией их ролей и функций, с подчёркиванием соподчинения низшего начала высшему через их относительную положительность и отрицательность, а также социальное переосмысление образов, перенесение внимания с коллективных судеб на индивидуальные, замена мифологического персонажа на реальное историческое лицо, что так ярко проявилось, например, в исторических и духовных песнях. Расщепление мифологического образа в музыкальном фольклоре и его трансформация были связаны с возникновением и развитием исторического сознания, а вместе с ним — с началом отсчёта «профанного» времени. «Сакральный слой» времени ведёт постоянную борьбу со временем «профанным», устанавливая режим ментальной регуляции человеческой деятельности.
В третьем параграфе «Семиотика музыкального фольклора» рассматривается его проблематика, генетически связанная с ситуацией первичного метасемиозиса. Это позволило приблизиться к пониманию специфики музыкального фольклора в русле этносоциокультурного контекста как одной из базовых форм человеческой деятельности, обусловленной его «наддиалектными закономерностями». Как ансамбль знаков неприкпадных искусств (в трактовке функционально-генетического принципа формирования сферы содержания знаковой системы в до-письменном обществе), он объясняет отношение человека к миру (Ю.В. Рождественский).
Иллюстрируя процессы адаптации в человеческих сообществах, фольклорная музыка в синкретической целостности с массовым ритмизированным движением психологически способствует формированию
миметического коллективного единства, поскольку хореографическая пластика с простейшими синхронными звуковыми ритмосигналами купно организуют и создают особое психическое поле - музыкально-информационное. Оно «включает» имитационный характер поведения и закрепляет его посредством эмоционально-звукового резонанса, выступающего «ядром» полевой формы сознания. Благодаря этому сформировались психофизиологические особенности восприятия музыкальной ткани: эффект воссоздания в процессе слушания пространственных и временных параметров действительности — тех измерений, в которых живёт человек. Эволюционируя, эмоционально-ритмические формы поведения человека в обществе (музыкально-информационные модификации полевой формы сознания) «оседают» в различных жанрах музыкального фольклора, в циркулировании по интонационно-мелодическим и ритмическим их каналам потока рационально-сенсорной информации. Если раннефолыслорное пение является архетипным образованием коллективного бессознательного, то его жанрово-стшшстическая система представляет чётко структурированную знаковую систему, удерживающую этнокультурологические категории (В.Г. Антонюк) в последовательности «любых» знаков, объединённых смысловой связью и в то же время структурирующихся автономно (ансамбль знаковых систем). В своём многообразии они показывают динамический аспект семиотики. Чертами этнической знаковое™ обладают песенные, декламационные и моторно-ритмические проявления музыкального фольклора в их этнокультурной поливариангности (Э.Е. Алексеев, Б.В. Асафьев, П.Г. Богатырёв, И.И. Земцовский, JLA. Мазель, Л.А. Мухомедшина, A.B. Руднева, Ф.А. Рубцов, В.А. Цуккерман, В.М. Щуров, З.В. Эвальд).
Базовой основой семиотического процесса, вскрывающей в интонировании такие стороны как единство обобщения и общения, в зависимости от актуализирования той или иной из них, является типологический метод исследования. С его помощью музыкальная речь предстала средством социального общения, высказывания и понимания. В этом отношении семиозис этнокультурного общения, органичной частью которого является музыкальный фольклор, основываясь на пролонгировании коммуникационных констант, активизирующих гуманитарную целостность конкретной этнической группы, помимо формирования поведенческой программы, вырабатывает ценностно-нормативные её критерии, организовывая аксиологическую сферу. Она объективируется в «символической реальности» — феномене, передающемся «выразительными» знаками: голосовыми (песенные, декламационные и моторно-ригмические). Они составляют метаязык этнокультурного вокального универсума. В. нём интонации возгласов (Ф.А. Рубцов), лады, стиховые размеры (В.М. Щуров), хореографическая лексика музыкального фольклора (A.B. Руднева) вкупе со «словесными знаками», представляя аналог «зримого подобия» (иконические знаки у Ч. Пирса - Л.С.), несут действенность этнокультурных канонов — духовно-сущностных констант.
Таким образом, информационностью, знаковоегью в музыкальном фольклоре обладают все компоненты его структуры. Так, и поэтика музыкального фольклора, например, помимо «эстетической радости», открывает облик народа, внутренний мир его мыслей и чувств, его идеи и эмоции. Поскольку
семиотический аспект музыкального фольклора вбирает могущественность его семиотического объёма, контакт с «семантическим массивом определённого качества структурирования» . (В Р. Ангонюк) связан с включённостью музыкального фольклора в различные социальные дискурсы современного социокультурного пространства, в данной работе: «личность -социум». .
Специфику текста, предопределённость текстового отображения окружающего человека пространства архетипами культуры, к которой принадлежит носитель языка, обуславливает объективно независимую от воспринимающего субъекта сторону — суггестивность. Её «носителями» выступает образность в субъективности восприятия окружающей действительности, а в связи с этим, в отражении связи с культурно-национальной спецификой, которая слита с эмотивными факторами поведенческих практик человека. Рассматриваемый как лингвокультурологическая категория, «образ» вмещает в себя информацию о связи с культурой, что представляет исключительный интерес для понимания народного мировоззрения. Но если образ, образность — это формы бытия мифологических содержаний, то своеобразными атрибутами мифа, дорожными знаками на пути человека к самому себе, являются символы. Их знаковое», указующее начало, определяется тем, что во всех без исключения случаях мифологические символы находятся на определённом расстоянии от того объекта, который они призваны олицетворять и представлять.
В рассмотрении знака в качестве «чистого указания» (Г. Гадам ер) раскрывается способность символа в этой ситуации объединять в процессе семантической деятельности разные планы реальности в единое целое. Его корни, сугубо земного генезиса, определяются социально-экономической практикой и живым психологическим содержанием. При данной многомерности правомерны взгляды исследователей на символы как «стереотипизированные явления» в рамках определённой культуры (О.М. Фрейденберг, Е.М. Мелетинский, В.О. Ключевский, Ю.М. Антонян). В славянском язычестве их кристаллизация происходила вокруг смысловых «стержней» в комплексности представлений, имеющих выраженный архе-типический характер. По сути, данные акты отражали ход осознания принципов устроения мира. В этих ритуальных действиях организующую роль играла триада «мысль-слово-дело», несущая процедурный характер: сохранение семантической целостности осмысляемого пространства в целях поддержания «стандартов» поведения для стабилизации внутренней структуры конкретной общности. Этим проявлялась синкретическая целостность утилитарной и символической компоненты текстов музыкального фольклора.- Вербальное сопровождение обряда отражало «практическую значимость условной речи», без понимания которой семантика обрядового фольклора не раскрывается сполна. Поэтому важным в раскрытии семантики «песни» становится её функциональная роль в фольклорно-этнографическом комплексе, в стратификации её как песни-заклятья, песни-гадания, песни-санкции, как пение с целью введения в заблуждение опекающих род духов, как пение, в котором концентрируется сакральная образность.,
На примере подлинных образцов музыкального фольклора прослеживается процесс размывания синкретической целостности триады
«мысль-слово-дело» в культурно-историческом контексте: архаика в понимании первобытного слоя религий, которые сформировались в период индоевропейской общности; календарная обрядовость, являющаяся основой магического заклинания сил природы, со временем трансформировавшаяся в элементы праздников и сопровождающих его игр; включение высших достижений языческой культуры в православный культурно-цивилизационный контекст. Последнее - свидетельство того, что после крещения Руси славянский субстрат не исчез бесследно, а преобразился, соединившись с христианскими ценностями. В результате возникло отождествление религиозных и национальных традиций, что и легло в основу констатации факта о синтезе двух мировоззренческих систем (О.В. Ковальчук), проявляющихся в различных формах и жанрах музыкального фольклора. Адекватность смыслового уровня перевода круга символических образов удостоверяется степенью знаковых совпадений. Анализ данных позволяет более глубоко воспринимать семантику фольклорного материала, определяющим фактором семиотической полноценности которой является этнокультурная поливариантность.
Падение гегемонии довлеющей силы архаической идеи над символом ослабило синкретическую целостность, способствуя эволюционированию образности, переходу от «статики» к показу социально-исторических процессов, их динамике, что обеспечивало наполнение смыслового пространства элементами субъективного выражения чувств в эмоциональном и оценочном воспроизведении внутреннего мира человека: конкретизация пейзажных зарисовок; проникновение в содержание текстов бытовых деталей; смена сюжетного драматизма психологическим, а в связи с этим — смещение акцента с ритуальности музыкального фольклора на его игру.
В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются его наиболее важные выводы, указываются возможные пути и перспективы рассмотрения освещенных проблем.
Основное содержание работы отражено в следующих публикациях:
Публикации в реферируемых журналах и изданиях списка ВАК
1. К вопросу об интонационной динамике музыкального фольклора в аспекте культурогенеза Белгородского региона // Вестник БУПК - Фувдаметальные и прикладные исследования: междунар. науч.-теорет. журн. — Белгород, 2006. - №2(17). - С. 249-252 (в соавторстве).
Статьи и материалы докладов
2. Познание основ музыкального фольклора Белгородчины на предмете «Расшифровка народных песен» // Народная художественная культура Белгородчины на рубеже веков: состояние и перспективы: материалы науч.-практ. конф. - Белгород, 2000. - С. 58-61.
3. Взаимосвязь элементов православия и традиционных обрядов в народной художественной культуре // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молод£жи на основе православных и культурно-бытовых традиций: материалы науч.-практ. конф. - Белгород, 2001. - С. 109-111.
4. Взаимопроникновение православных и традиционных элементов в музыкальном фольклоре Белгородчины // Народная культура российской провинции. Особенности бытования традиционной народной культуры: материалы всерос. науч.-практ. конф. - Курск, 2001. - С. 102-104.
5. Религиозная философская мысль в России в контексте современности // Славянский мир и православие глазами молодых: материалы междунар. науч.-практ, конф. - Белгород, 2002. - С. 91-94.
6. Семантика музыкального фольклора Белгородчины // Народная художественная культура Белгородчины как основополагающий фактор образовательного процесса в БелГИК: материалы науч.-практ. конф. - Белгород, 2002. - С. 98-101.
7.. О феномене русско-украинской культуры // Иоасафовские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф. - Белгород, 2003. - С. 265-266.
8. Духовный потенциал музыкального фольклора Белгородчины // Духовная жизнь и культура Российской провинции: материалы Третьей межвуз. науч.-практ. конф. студентов, молодых ученых, аспирантов и докторантов. - Белгород, 2003. - С. 110112.
9. К вопросу о духовно-нравственном компоненте в воспитании современной молодежи // Опыт духовного просвещения в современной системе образования: науч.-богосл. сб. - Белгород, 2004. - С. 128-130.
10. О целостном охвате содержания аксиологической сферы культуры // Материалы межвузовской научно-практической конференции. - Белгород, 2005. - С. 114-116.
11. К вопросу о социокультурной просвещённости // Патриотизм как концеггт формирования человека и мира: материалы межвуз. науч.-практ. конф. - Белгород, 2005.-С 182-185.
12. Патриотический потенциал репертуара внебогослужебных песнопений // Патриотизм как концепт формирования человека и мира: материалы межвуз. науч.-практ. конф. — Белгород, 2005. - С. 185-189.
13. Коммуникационный аспект народной песенной традиции // Человек, культура и общество в контексте глобализации: материалы междунар. конф. - М., 2005. - С. 98101.
14. Особенности интерпретации содержания аутентичной песни (на примере интерпретации символа «Мировое дерево» по материалам Белгородского фольклора) // Язык, фольклор, культура: проблемы взаимодействия: материалы межрегион, межвуз. науч.-практ. конф. - Белгород, 2005. -С.214-219.
15. Формирование профессиональной направленности в условиях производственной практики студентов народно-хоровой специализации» // Культурологическое образование нового тысячелетия: сб. метод, докл. и тез. преп. учреждений культуры и искусства. - Вып. 7 «Тверские встречи». - М.: ИП Монастырская М.В., 2005. - С. 74-76 (с грифом УМО).
16. Исторические корни нового мышления через музыкальные проявления чувственно-рационального опыта человека // Философия поверх барьеров: планетарное мышление и глобализация XXI века: материалы междунар. науч. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов. Ч. 2. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. - С. 51-53.
Подписано в печать 5.09.2006. Формат60x84/16. Гарнигура Times. Усл. а л. 1,34. Тираж 100 экз. Заказ 174. Оригинал-макет под готовлен и тиражирован в иэддгельсте Белгородосого государственного университета. 308015, г. Белгород ул. Победы, 85
Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата философских наук Сараева, Любовь Павловна
Введение
Глава 1. Музыкальный фольклор в контексте философско-культурологического знания
1.1. Теоретико-методологические основы исследования проблем 12 музыкального фольклора
1.2. Регулятивно-адаптивный аспект феномена музыкального 38 фольклора
1.3. Коммуникативные средства музыкального фольклора
Глава 2. Музыкальный фольклор в социокультурном пространстве региона
2.1. Музыкальный фольклор в структуре культурогенеза региона
2.2. «Время» в целостном познании сущности музыкального 108 фольклора
2.3. Семиотика музыкального фольклора
Введение диссертации2006 год, автореферат по культурологии, Сараева, Любовь Павловна
Актуальность исследования обусловлена реальными потребностями общества в гуманизации осознания социокультурного пространства, что невозможно без формирования нового стиля мышления, миропонимания и собственно духовной деятельности. Этому способствует музыкальный фольклор, в сфере которого формировались представления человека о мире, окружающей действительности, система восприятия образов, язык, верования, знания и умения, обычаи, формы трудовой и общественной жизни. Утрата смысловых форм и ценностных доминант традиционного музыкального фольклора влечёт за собой распад принятых в этнической традиции нравственных устоев и норм поведения, этнокультурных синхронных и диахронных связей, ослабление чувства национального достоинства, национального самосознания, культурной идентичности.
Данное обстоятельство актуализирует острую необходимость преодоления инерционности научных исследований в сфере духовной культуры, в том числе - музыкального фольклора, народного творчества, что побуждает изучать их не как свод застывших художественных форм народной музыки, а как антропологический, социальный, культурный феномен,' наделённый бесконечным креативным потенциалом. Это, несомненно, будет способствовать осознанию своих этнокультурных, ментальных основ, постижению волевых, нравственных, эстетических и интеллектуальных способностей человека в их гармонизации, познанию сущности Человека, объяснению диалектики отношений «человек - мир» сквозь призму реальных музыкальных систем. А потому целостное культурологическое исследование феномена музыкального фольклора возможно в междисциплинарном диалоге, с учетом его (музыкального фольклора) взаимодействия с наукой, религией и философией, в соотношении художественного и нехудожественного начал.
Степень научной разработанности данной проблемы предопределена тем, что сущностные основы, общие закономерности развития и функционирования культуры, неотъемлемой частью которой является музыкальный фольклор, нашли отражение в философских, естественнонаучных, культурологических, искусствоведческих работах: B.C. Библера, Р.И. Грубера, В.Е. Гусева, М.С. Кагана, A.C. Каргина, М.Н. Котовской, В.В. Медушевского, В.М. Межуева, И.П. Павлова, Ю.В. Рождественского, В.Н. Холоповой, H.A. Хренова.
Выявление взаимозависимости между артефактами музыкального фольклора, принадлежащими различным культурно-историческим эпохам, в процессе анализа исторического, этнографического материала потребовало формирования теоретической платформы диссертации посредством осмысления результатов исследований в области философской антропологии (работы А. Гелена, М. Шелера, С.Е. Гречишникова, Б.Т. Григорьяна, П.С. Гуревича и др.); культурной антропологии (Э. Тайлора, Дж. Фрезера); в области проблемы времени (А. Августина, М. Мерло-Понти, И. Ньютона, А. Эйнштейна, В.И. Вернадского, А.И. Толстопятенко и др.); проблем эстетики (Р. Ингардена, А. Шопенгауэра, В.В. Кандинского, А.Ф. Лосева и др.); в области музыкальной эстетики (Т.В. Чередниченко, В.П. Шестакова, Дж. Кейджа, М.А. Марутаева и др.); теории культуры (Э. Кассирера, В.И. Ленина, К. Маркса, Г. Рохейма, К. Юнга).
В рамках исследований теории культуры обращает на себя внимание осмысление процессов мифотворчества как способов освоения мира (А.Н. Веселовский, О.Ф. Миллер, И.П. Сахаров, И.М. Снегирёв); в символическом аспекте (Ю.М. Антонян, Ю.М.Лотман, Е.М. Мелетинский, М. Элиаде); в филолого-фольклорном аспекте (В.В. Иванов, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров); в аспекте космологического компонента, отражающего процесс формирования реальности через ощущения древнего человека (О. Ройтер, В.В. Дёмин, Д.В. Куталёв, М.Л. Серяков). На стыке дисциплин: этнографии, литературоведения, истории, - фольклор рассматривали А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, A.A. Потебня, Б.А. Рыбаков.
Познание культуры как феномена представлено у О. Конта, М. Вебера, В. Дильтея, Б.Малиновского, JL Уайта, О. Шпенглера. Выявление механизмов формирования, функционирования и трансляции культуры под воздействием биоритмов человека и алгоритмов природы, определение музыкальных метроритмов, связи музыкальных форм с процессами, происходящими в социуме, обнаружение тождественности музыкального мышления биомеханике человека, нашло отражение в ведической, античной философии (Пифагор, Протагор), работах К. Леви-Стросса, М. Хайдеггера, Б.В. Асафьева, И.И. Земцовского, Д.В. Кандыбы, К.В. Квитки, Д.В. Колесова, Е.А. Минаева, Ф.А. Рубцова, В.М. Щурова, З.В. Эвальд.
Семантический смысл музыкального фольклора представлен в работах Г. Гадамера, Э. Гуссерля и др. Относительность показа объективных и всеобщих оснований концептов «рациональность», «знание», «истина», «реальность», а также морально-нравственных категорий, ментальности в фольклоре освещается в трудах Л. Леви-Брюля, Л. Февра, X. Штейнталя, в работах E.H. Ищенко, В.П. Римского, Ю.С. Степанова, М.В. Черникова. Роль музыкального фольклора в аспекте функционирования социокультурного института обозначена в исследованиях В. Тернера, A.B. Бабаевой, В.О. Ключевского, В.М. Розина. Истоки структурного осмысления фольклорного наследия обнаруживаем у Фукидида, К.Д. Кавелина.
Проблемы национального своеобразия фольклора в синтезе исторического и культурологического подходов разрабатывались отечественными философами, религиозными мыслителями, историками и социологами: H.A. Бердяевым, Н.Я. Данилевским, И.А. Ильиным, И.В. Киреевским, А.Ф. Лосевым, В.В. Розановым, П.А. Флоренским, С.Л. Франком, П.А. Сорокиным и др. Поиском черт национального своеобразия в фольклоре занимались «евразийцы»: Л.Н. Гумилёв, Н.С. Трубецкой. Осмысление процессов социокультурной динамики и преемственности в музыкальном фольклоре (в контексте данной работы) стало возможным благодаря «цивилизационной» концепции А. Тойнби, а также на основе разработок А.Я. Флиера и др. Отдельные аспекты анализа семантики музыкального фольклора присутствуют в работах В. Гошовского, Б.Б. Ефименковой, JI.B. Кулаковского, A.B. Рудневой, В.В. Цуккермана, В.М. Щурова. Особое место в изучении регионального музыкального фольклора занимают работы белгородских этнографов и фольклористов О.И. Алексеевой, М.С. Жирова, О.Я. Жировой, И.Н. Карачарова, В.А. Котели, И.И. Веретенникова и др., представляющие специфику народной художественной культуры края, в том числе - музыкального фольклора.
Нельзя не отметить, что в атмосфере интегративности культурологической науки профессиональная актуализация музыкального фольклора до сих пор осуществляется в рамках рассмотрения его как творческого процесса, благодаря чему востребованность нового методологического аппарата, способного обеспечить комплексный культурологический анализ фольклора, очевидна.
Таким образом, проблема исследования обоснована возросшим интересом к традиционным ценностям культуры, недостаточной изученностью и востребованностью гуманитарного, гуманистического потенциала музыкального фольклора, наделенного такими чертами, как универсальность, экстравагантность, экстраординарность, вероятность, уникальность.
Объектом исследования является музыкальный фольклор в своей креативной полифункциональности.
Предмет исследования - процесс формирования и бытования музыкального фольклора и ценностная трансляция его в современное социокультурное пространство.
Цель работы - философско-культурологическое осмысление феномена музыкального фольклора в контексте его генезиса, эволюции и форм бытования.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью диссертационного исследования решались следующие задачи:
1) выявить теоретико-методологические основы исследования проблем музыкального фольклора в контексте его ретроспективного анализа;
2) раскрыть регулятивно-адаптивный аспект феномена музыкального фольклора как базиса общечеловеческих, этнических, национальных констант;
3) определить коммуникативные средства музыкального фольклора, обосновать механизмы его трансляции в современный социум;
4) охарактеризовать музыкальный фольклор в структуре культурогенеза региона, определив основные тенденции его развития;
5) выделить аспекты «времени», способствующие постижению «целостности» содержания музыкального фольклора, границ его реальности;
6) осуществить комплексный семиотический анализ музыкального фольклора.
Теоретико-методологической основой исследования стали технологии, позволившие обосновать концепцию понимания феномена музыкального фольклора в социокультурном контексте:
- системный подход, обусловивший представление музыкального фольклора как формы существования и движения реального мира в его упорядоченности;
- исторический метод, демонстрирующий человека в единстве его биологических, социальных и культурных параметров;
- функциональный метод, обнаруживший направленность гуманитарной энергии на познание, оценивание, преобразование объектов субъектами деятельности в процессе их взаимодействия;
- структурный метод, проявивший системные связи в пространственно-временном бытии музыкального фольклора;
- феноменологический подход, послуживший установлению линии демаркации реальных и потенциальных (креативных) возможностей музыкального фольклора в современном социокультурном пространстве.
Основа исследования характеризуется единством философско-культурологического подхода, системно-универсального, сравнительноисторического, структурно-функционального и эмпирического принципов, обусловленных принципом междисциплинарного синтеза.
Эмпирическую базу исследования составили полевые экспедиционные материалы автора, фонды фольклорного кабинета кафедры народного хора Белгородского государственного института культуры и искусств, фактологический материал учёных, этнографов и собирателей Белгородчины.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- обобщены теоретико-методологические основы ретроспективного анализа феномена музыкального фольклора как социально-культурного феномена;
- вскрыто «изначальное» смысловое содержание музыкального фольклора в эволюции «пред.»» - «собственно.» - «пост.» и развитии форм человеческой деятельности, а также в аспекте его полифункциональности (регулятивно-адаптивные, общечеловеческие, этнические, национальные роли; коммуникативные и т.п.);
- осуществлен на основе аутентичных образцов музыкального фольклора его анализ в рамках культурогенеза региона и определены основные тенденции его сохранения, трансляции и развития;
- аргументирована вневременная значимость музыкального фольклора, обусловленная актуальностью его содержания;
- выявлена полисемантичность музыкального фольклора в контексте его антропологической и онтологической направленности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Культурологическая методология позволяет сформировать ценностно-смысловой и социо-технологический взгляд на музыкальный фольклор. Являясь антропологическим и социальным, наделённым бесконечным креативным и инкультурационным потенциалом феноменом музыкальный фольклор постепенно освобождается от зависимости «внешних» факторов: экономических, политических, идеологических, социальных, что лишает его вторичности и придает особый социокультурный статус.
2. Музыкальный фольклор поступательно формирует социокультурное и символическое пространство, ценностные общечеловеческие, этнические, национальные константы благодаря уникальным регулятивно-адаптивным и коммуникативным факторам жизнеобеспечения гуманитарного фундамента.
3. Музыкальный фольклор, анализ которого в масштабе культурогенеза региона, особой региональной этносоциальной культурной системы, аккумулирует и воспроизводит социально-стереотипизированный комплекс его духовных ценностей, опыт народа, этапы его истории, что мотивирует цельный смысловой неповторимый этнокультурный «узор» сущности каждого из его образцов.
4. Вневременная актуальность музыкального фольклора обусловлена содержательным триединством его профанного, социокультурного и ментального модусов.
5. Музыкальный фольклор, сформировавшийся под влиянием принципа «позитивности знания», механизма «долговременности памяти», первоначально детерминированный совокупностью исторических, социально-бытовых, природных и культурных факторов, в итоге сконцентрировал в себе реальный онтологический, антропологический потенциал, проявившийся в полисемантичности.
Теоретическая и научно-практическая значимость диссертационного исследования определяется самим подходом к анализу проблемы, построенному на обобщении историко-философских, культурологических, этнографических, искусствоведческих материалов. В работе осуществлена попытка всестороннего рассмотрения феномена в контексте определения наиболее эффективного пути его реконструкции и трансляции в современный социум. Результаты и выводы исследования способствуют пониманию процессов саморегуляции и самовоспроизводства музыкального фольклора, выступающего органичной частью духовной жизни народа; это делает возможным использование данной работы в реализации практических культурно-образовательных, художественно-эстетических и воспитательных проектов и программ различного уровня.
Материалы работы нашли применение в содержании лекционных дисциплин «Русское народное музыкальное творчество», «Расшифровка записей народной музыки», «Областные певческие стили», в разработке курсов по выбору профессионального этнохудожественного образования особой модели «детский музыкально-эстетический центр - школа - колледж - вуз». Полученные результаты могут быть использованы в процессе преподавания философии, культурологии, регионоведения, истории мировой и отечественной культуры, а также в дальнейшей научно-исследовательской работе автора.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе научно-исследовательской, учебной и научно-творческой деятельности автора в рамках лаборатории «Музыкальный фольклор Белгородчины» кафедры народного хора БГИКИ, преподавания специальных дисциплин («Расшифровка записей народной музыки», «Фольклорный ансамбль», «Фольклорно-этнографическая экспедиция»).
Основные положения исследования нашли отражение в выступлениях на научных конференциях различных уровней (гг. Курск, Белгород, 2000-2005 гг.). Результаты работы докладывались на Всероссийской научно-практической конференции «Народная культура российской провинции» (Курск, 2002); международной научной конференции «Человек, культура и общество в контексте глобализации» (Москва, 2005), I, II, III Международных молодёжных Иоасафовских чтениях (Белгород, 2002-2005); межрегиональных и межвузовских научно-практических конференциях («Патриотизм как концепт формирования человека и мира»; «Язык, фольклор, культура: проблемы взаимодействия» (Белгород, 2005); Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Философия поверх барьеров: планетарное мышление и глобализация XXI века» (Белгород, 2006). Часть материалов исследования подготовлена в рамках внутривузовского гранта и
Инкультурационная динамика музыкального фольклора Белгородчины: философско-культурологический аспект» (2005).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии, включающей 309 наименований.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Феномен музыкального фольклора"
Результаты исследования показали, что трактовка феномена «музыкальный фольклор» подвижна и основана не только на философско-культурологическом осмыслении, но и на концепциях музыкальной культуры, которые складывались в различные периоды её формирования. Кроме того, музыкальный фольклор - это элемент определённой музыкальной культуры. Он может выходить за пределы этой культуры под влиянием самых различных социокультурных процессов. Это объясняет такие качества музыкального фольклора как неоднородность, широта, всеохватность и др. Именно они служат связующим звеном между различными элементами музыкального фольклора и этапами его развития.
Несомненно, что исследовательское поле музыкального фольклора становится особо притягательным в синтезе фольклористических подходов с методологией смежных дисциплин. С этой точки зрения использование историко-семиотических методов в сочетании со структурно-фольклористическими позволяет рассматривать музыкальный фольклор как «окристаллизовавшиеся звуковые отложения». Отсюда фольклорные песни -«символы различных жизненных явлений и чувствований» и, вместе с тем, -факты человеческого сознания, воображения и чувства. Они обладают значением в единстве понимания фольклорного материала в многообразии знакового, смыслового и прагматического (актуализированного) уровней. В то же время, они могут рассматриваться как средства адаптирования человеческих коллективов к окружающей среде.
С этих позиций проблема феномена музыкального фольклора является перспективной и обладает значительным эвристическим потенциалом, так как его содержательное пространство изначально связано с процессами социализации. Человек включается в культуру общества с момента усвоения принятых ценностей и норм. Индивид получает некую «программу» жизнедеятельности, которая содержит в себе в концентрированной форме весь предыдущий исторический опыт, прорисовывающийся в его поведении. Этим обусловливаются механизмы этнической идентификации, что совпадает с мнением Гумилёва Л.Н., который определяющим динамическим признаком этноса выдвигает стереотипы поведения, обладающие способностью объединять разные планы реальности в едином целом на основе символического поведения. Символы (в понимании их как «стереотипизированные явления») кристаллизуются в рамках определённой культуры вокруг смысловых «стержней», предопределяемых социально-экономической практикой и живым психологическим содержанием, в «комплексности» представлений, имеющих выраженный архетипический характер.
Музыкальный фольклор отражает данные закономерности преломления действительности в манифестации «сверхфункции» -коммуникативности, обусловливающей тотальную мобильность всех его элементов. Социо-защитную (регуляти вно-адаптивную) в нём роль играют типологически заданные, «охранительные» пределы мобильности -традиции. При этом типология берётся весьма широко - от элементов мелодики до «кроссжанровых» в музыкально-этнографических комплексах. Все компоненты структуры музыкального фольклора: интонационные, вербальные, мимесисные - обладают информационностью, знаковостью. Общетеоретический круг проблем, с этим взаимосвязанный, способствует получению необходимой информации, что методологически осуществляется на основе сравнительных и сопоставительных операций образцов различной степени однородности: жанровой, региональной и т.п.
Исходя из этого, приоритетным в семантическом рассмотрении фольклорных текстов (в широком их понимании) становится анализ «исторической части души»: в эволюции от цельности смысловой системы доклассового общества, где константой выступало стадиальное по характеру отождествление космоса и общества, к дифференцированности мировоззрения на отдельные идеологии в современном мире. Целью интерпретации фольклорного текста при этом становится показ как общих истоков гуманитарного наследия, так и историко-стадиальных особенностей традиционной культуры: во-первых, «архаики в понимании первобытного слоя религий», то есть тех представлений, которые сформировались в период индоевропейской общности; во-вторых, древней славянской песенности - календарно-обрядовой, со временем трансформировавшейся в элементы праздника и сопровождающих его игр; в-третьих, «нового уровня исторического опыта русского народа» -Православия. Без него была бы другая культура, а, значит, и духовная судьба России. В понимании обусловленности процессов расщепления мифологического образа и его трансформации, в связи с возникновением и развитием исторического сознания, предстаёт соотнесённость образно-символической сферы с жанрами «фольклора по происхождению» или «фольклора по бытованию». В них эволюционный образно-тематический процесс отражает динамику обрядово-практической и поэтической функций в историко-стадиальных пластах песенности, в показе процесса превращения общечеловеческих ценностей в конкретные и узнаваемые в этнокультурном наследии.
В заключении следует сказать, что исследования подобного типа, способствуя активизации деятельности в сфере музыкального фольклора, дают возможность узнать о тех гуманитарно-гуманистических потенциях, которые необходимо максимально использовать для духовного и нравственного совершенствования, для того, чтобы узнать и признать широкие горизонты более глубинного и мудрого внутреннего «Я», чтобы интегрировать в свою жизнь могучие и богатейшие силы музыкального фольклора.
Заключение
Подводя итоги исследования, необходимо подчеркнуть, что целостность российского культурологического пространства скрепляется не только политическими реформами и преобразованиями, но и органичным функционированием в нём изначальных, генетически ему присущих инкультурационных механизмов, взаимосвязанных с социальными фактами и явлениями. Они суть источники и детерминанты исторически развивающейся культуры, формирующие её ядро из общечеловеческих и этнических ценностей. Способы их воспроизводства и освоения носят исторически обусловленный рационально-деятельностный поведенческий характер и связаны с областью формирования смыслов. Структурируясь по функционально-генетическому принципу, они заложили те семиотические ресурсы, которые позволили человеку передавать знания через систему знаков: прогностических, прикладных искусств, управления, счисления, воспитания (обряды и игры), языка, знаков неприкладных искусств (музыка, танец, изобразительное искусство). Данная совокупность знаковых систем, сложившаяся в «первоначальном» обществе, отражает процесс его становления в обусловленности ими умственной, эмоциональной и нравственной жизни и, в то же время, привлекает предметный интерес к фольклору - «колыбели» социализации человека. Особо следует остановиться на функционировании до-письменных знаковых ансамблей -«совокупности знаков разных систем, действующих совместно», дополняющих друг друга. В этом отношении музыкальный фольклор, объясняющий отношение человека к миру, есть одновременно ансамбль знаковых систем.
Музыкальный фольклор являет собой культурологическую парадигму, в которой переплетаются общественное и индивидуальное, духовное и материальное, теоретическое и практическое. В то же время феномен музыкального фольклора предстаёт как явление глубинного пласта культурологического генезиса.
Список научной литературыСараева, Любовь Павловна, диссертация по теме "Теория и история культуры"
1. Аверинцев, С.С. Морфология культуры Освальда Шпенглера/ С.С. Аверинцев // Вопросы литературы. 1968. - № 1.
2. Агапкина, Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл / Т.А. Агапкина. М., 2002. - 816 с.
3. Алексеев, Э.Е. Нотная запись народной музыки: теория и практика / Э.Е. Алексеев. 1-е изд. - М.: Сов. композитор, 1990. - 168 с.
4. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. СПб.: Питер, 2002. - 288 с. - (серия Мастера психологии).
5. Аникин, В.П. Русский фольклор: Учебное пособие / В.П. Аникин. -М.: Высш. шк., 1987. 285 с.
6. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество: Учебное пособие / В.П.Аникин. М.: Высш. шк., 2001. - 726 с.
7. Аникин, В.П. Теория фольклора. Курс лекций / В.П. Аникин. 2-е изд., доп. - М.: КДУ, 2004. - 432 с.
8. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.З. - М.: Мысль, 1971 (АН СССР. Ин-т философии. Философ, наследие). - 760 с. с илл.
9. Антонюк, В.Г. Феноменукраинской вокальной школы в контексте этнокультурологических проблем / В.Г. Антонюк. Автореф. дисс. доктора культурологии. - М., 2000. - 39 с.
10. Антонян, Ю.М. Миф и вечность / Ю.М. Антонян. М.: Логос, 2001. -464 е.: ил.
11. И. Аркадьев, М.А. Креативное время, «археписьмо» и опыт Ничто / М.А. Аркадьев // Философско-литературный журнал «Логос». 1995. - № 6.
12. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1 и 2 / Ред., вступ. статья, с.3-18, и коммент. Е.М.Орловой. Изд.2-е. Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1971. - 376 с.
13. Асафьев, Б.В. О хоровом искусстве: Сб. статей / Сост. и коммент. А. Павлова-Арбенина. Л.: Музыка, 1980. - 216 с.
14. Асмолов, А.Г. Психология личности: Учебник / А.Г. Асмолов. М.: Изд-во МГУ, 1990.-367 с.
15. Афанасьев, А.Н. Древо жизни: Избранные статьи / Подготовка текста и комментарии Ю.М.Медведева, вступ. ст. Б.П. Кирдана. М.: Современник, 1982. - 464 с.
16. Бакач, Н.Б. Культурная парадигма как объект социально-философского анализа / Н.Б. Бакач. Дисс. канд. философ, наук. -Волгоград, 1998.- 130 с.
17. Балакина, Т.И. История отечественной культуры / Т.И. Балакина. -4.1. -М.: Новая школа, 1994.-80 с.
18. Баландин, А.И. Мифологическая школа в русской фольклористике / А.И. Баландин. М.: Наука, 1988. - 222 с.
19. Бахтин, М.М. Собрание сочинений / М.М. Бахтин. Т.5. Работы 1940-х - начала 1960-х годов. - М.: Русские словари, 1997. - 731 с.
20. Белик, A.A. Культурология. Антропологические теории культур / A.A. Белик. М.: Российский гос. гум. университет, 1998. - 238 с.
21. Белый, А. Символизм как миропонимание / Сост., вступ. ст. и прим. Л.А. Сугай. М.: Республика, 1994. - 528 с. - (Мыслители XX века).
22. Бердяев, H.A. Духи русской революции // Литературная учеба, 1990, №2.-192 с. — СЛ23.
23. Богатырёв, П.Г. Вопросы теории народного искусства / П.Г. Богатырев. М.: Изд-во Искусство, 1971. - 544 с.
24. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович / Под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Изд-во Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 1995. - 352 с.
25. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «НОРИНТ», 2001. - 1456 е.: ил.
26. Бранский В.П. Искусство и философия / В.П. Бранский. -Калининград, 1999. 704 с.
27. Бромлей, Ю.В. Этнос и этнография / Ю.В. Бромлей. М.: Наука, 1973.
28. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. М.: Прогресс, 1990. - 804 с.
29. Вернер, И. К происхождению и распространению антов и склавенов. -CA.-1972.-№4.
30. Веселовский, А.Н. Историческая поэтикам / А.Н. Веселовский. М.: Высшая школа, 1989. - 406 с.
31. Виноградова, Л.Н. Фольклорный факт в этнографическом контексте / Л.Н. Виноградова // Фольклор: Песенное наследие. М.: Наука, 1991. -216с.
32. Власова, М. Русские суеверия: Энциклопедический словарь/ М. Власова. СПб.: Азбука, 1998. - 672 с.
33. Волков, Ю.Г. Энциклопедический словарь / Ю.Г. Волков, B.C. Поликарпов. М.: Гардарики, 1999. - 520 с.
34. Волкова, П.С. Эмотивность как средство интерпретации смысла художественного текста / П.С. Волкова. Дисс. канд. филол. наук. -Волгоград, 1997. 162 с.
35. Володина, К.В. Памятники культового искусства как духовная ценность секулярного общества (на примере русской православной иконы) / К.В. Володина. Дисс. канд. философ, наук. М., 1998. -158 с.
36. Восточные славяне. Антропология и этническая история. 2-е изд. -М.: Научный мир, 2002. 342 с.
37. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. Ростов н/Д: Феникс, 1998.-480 с.
38. Вянок беларусюх народных песень / Зашс У.Рагов1ча. Мн.: Навука 1 тэхшка, 1988. - 432 е.: ш.
39. Гадамер, Г. Истина и метод / Г. Гадамер. М.: Прогресс, 1988. - 632 с.
40. Гаспаров, М.Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика / М.Л. Гаспаров. Изд. 2-ое, доп. М.: Фортуна Лимитед, 2000.-352 с.
41. Гервер, Л.Л. Музыка и музыкальная мифология в творчестве русских поэтов (первые десятилетия) / Л.Л. Гервер. М.: Индрик, 2001. - 248 с.
42. Гердер Й. Г. Идеи к философии истории человечества / Пер. и прим. А. В. Михайлова. М.: «Наука», 1977. - 703 с.
43. Гершунский, Б.С. Философия образования / Б.С. Гершунский. М.: Московский психолого-социальный институт, ФЛИНТА, 1998. - 432 с.
44. Гилберт, Райл. Понятие сознания / Гилберт Райл. Перевод с англ. -М.: Идея Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. - 408 с.
45. Головина, Р.В. Антропонимы в русской народной лирической песне. / Р.В. Головина. Автореф. дисс. канд. филол. наук. Орёл, 2001. -С. 17.
46. Гомоюнов, С.Г. От истории синергетики к синергетике истории // Общественные науки и современность. -1994. № 2.
47. Гофман, А., Левкович, В. Обычай как форма социальной регуляции // Советская этнография. 1973. - №1.
48. Гумилёв, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. М.: Рольф, 2001.-560 е.: илл.
49. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. М., 1990. - 395 с.
50. Гусев, В.Е. Эстетика фольклора / В.Е. Гусев. Л.: Наука, 1967. - 319 с.
51. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов / Н.Р. Гусева. М.: ФАИР - ПРЕСС, 2002. - 336 е.: илл.
52. Гуськов, Д.А. Дискурс анализ в социологии научного знания: история и перспективы / Д.А. Гуськов. Автореф. дис. канд. социолог, наук. - Харьков, 1993 (в пер. с укр.). - 165 с.
53. Даль, В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа / В.И. Даль. СПб.: Литера, 1996. - 477 с.
54. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. М.: Книга, 1991.-573 с.
55. Дёмин, В. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси / В. Демин. М.: Вече, 1997. - 560 с.
56. Добровольский, Б.М. Об эстетической оценке песен русских рабочих, как музыкально-поэтического комплекса / Устная поэзия рабочих России. М. - Л.: АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом, 1965.-90 с.
57. Домострой / Сост., вст. ст., пер. и коммент. В.В.Колесова; подгот. текстов В.В. Рождественской, В.В. Колесова и М.В. Пименовой; худож. А.Г. Тюрин. М.: Советский композитор, 1990. - 304 е.: ил.
58. Ерёменко, К.А. Музыка от ледникового периода до века электроники / К.А. Еременко. Книга первая. М.: Советский композитор, 1991. -320 с.
59. Ерёменко, К.А. Музыка от ледникового периода до века электроники / К.А. Еремина. Книга вторая. М.: Советский композитор, 1991. -281 с.
60. Ерёмина В.И. Ритуал и фольклор / В.И. Еремина. Д.: Наука, 1991. -207 с.
61. Ефименкова, Б.Б. Ритмика русских традиционных песен:
62. Учебное пособие по курсу «Народное музыкальное творчество» Б.Б. Ефименкова. М.: РАМ им. Гнесиных, 1993.- 154 с.
63. Жиленкова, И.И. Региональная топонимика (ойконимия Белгородской области): Учебное пособие по спец. курсу/ И.И. Жиленкова. Белгород: изд-во БелГУ, 2001. - 42 с.
64. Жиров, М.С. Народная художественная культура Белгородчины. -Белгород, 2000. 265 с.
65. Жиров, М.С. Региональная система сохранения и развития традиций народной художественной культуры: Учеб. пособие / М.С. Жиров. -Белгород: Изд-во БелГу, 2003. 312 с.
66. Жиров, М.С. Традиции народной художественной культуры Прохоровского района: Учебно-методическое пособие. Белгород, 2001.- 154 c.-C.l 11.
67. Забылин, М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия / М. Забылин. М.: Русская книга, 1996. - 496 с.
68. Зарипов, Р.Я. Некоторые заметки об историческом самосознании // Философия. Общество. 2000.-№ 3.
69. Земцовский, И. Мелодика календарных песен / И. Земцовский. JL: Музыка, 1975.-222 с.
70. Земцовский, И. Народная музыка и современность / И. И. Земцовский // Современность и фольклор. Статьи и материалы. Сост. В. Е. Гусев, А. А. Горковенко. Отв. ред. В. Е. Гусев. Москва: «Музыка», 1977.-348 с.
71. Земцовский, И. О системном исследовании фольклорных жанров в свете марксистко-ленинской методологии / И. Земцовский // Проблемы музыкальной науки. Сборник статей. Вып. 1. М.: Советский композитор, 1972. - 394 с.
72. Зинченко, В.Г. Методы изучения литературы. Системный подход: Учебное пособие / Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. М.: Флинта: Наука, 2002. - 200 с.
73. Зотова, И.П. Белгородский народный костюм / И.П. Зотова. -Белгород: Истоки, 2005. 95 с.
74. Зрелищно-игровые формы народной культуры: Сборник научных статей. Серия Фольклор и фольклористика. JL: Наука, 1990. - 218 с.
75. Зубарева, J1.A. История развития музыки: Учебное пособие для студентов педвузов РФ / J1.A. Зубарева. Второе издание. Белгород: Везелица, 2001.-278 с.
76. Иванов, А.Н. Фёдор Тиран в эпике казаков-некрасовцев / А.Н. Иванов // Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Сб. науч. тр. Вып. 4. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1994. - 196 с.
77. Игнатов, В.И. Русские исторические песни / В.И. Игнатов: Хрестоматия. М.: Высшая школа, 1970. - 256 с.
78. Ильин, И.А. О национальном воспитании // И.А. Ильин. Путь к очевидности.-М.: Республика, 1993.-430 с.
79. Ильяева, И.А. Синергия социального духа / Ильяева, И.А., Белозёрова И.А., Кожемякин Е.А., Шаповалова И.С. / Под общей редакцией доктора филос. наук, проф. Ильяевой И.А. Белгород, 2000.-144 с.
80. Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Перевод с польского
81. A.Ермилова и Б.Фёдорова. Редакция А.Я.Кушева. Предисл.
82. B.Разумного (с.5-20). М.: Изд. иностр.лит., 1962. - 572 с. с нот.илл.
83. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия / Гл. ред. Б.В.Иогансон. Т.4. - М.: Советская энциклопедия, 1978. - 668 е.: илл.
84. Исторические песни / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С.Н. Азбелев. М.: Русская книга, 2001. - 528 е.: илл. - (Б-ка русского фольклора. - Т.7).
85. Исторические песни XIX века. Издание подготовили Л.В. Домановский; О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1973. - 283 с.
86. Исторические песни XVIII в. / Издание подготовили О.Б.Алексеева и Л.И.Емельянов. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1971. - 355 с.
87. История и культурология: Учебное пособие для студентов вузов / Н.В. Шишова, Т.В. Акулич, М.И.Бойко и др.; Под ред. Н.В.Шишовой. М.: Логос, 2000. - 456 е.: ил.
88. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.З / Ред.- сост.Е.Долинская. М.: Музыка, 2001. - 656 е., нот.
89. История философии: Учебник для вузов / В.Ильин. СПб.: Питер, 2003. - 732 е.: ил. - (Серия Учебник для вузов).
90. История философии: Энциклопедия: Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. - 1376 с.
91. Каган, М. С. Человеческая деятельность / М.: 1974.
92. Каган, М.С. Системный подход и гуманитарное знание: Избранные статьи / М.С. Каган. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. - 384 с.
93. Каган, М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. Части I, II, III. -JT.: «Искусство», Ленинградское отделение, 1972 г. 304 с.
94. Кандыба, Д.В. Тайны человеческой психики / Д.В. Кандыба. Т. 1. СПб.: Каро, Вита, 1996. - 206 с.
95. Карачаров, И.Н. Русская народная музыкальная культура бассейна реки Псел (Белгородско-Курское пограничье) / И.Н. Карачаров, Автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 2004. - 22 с.
96. Каргин, A.C. Народная художественная культура: Курс лекций для студентов высших и средних учебных заведений культуры и искусств / A.C. Каргин. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997. - 288 с.
97. Каргин, A.C., Хренов, H.A. Фольклор и кризис общества / Каргин
98. A.C., Хренов H.A. М.: Государственный центр русского фольклора, 1993.-164 с.
99. Карнаухов, В.А. Мотивационно-смысловые образования в структуре направленности личности: Учебное пособие / Карнаухов В.А. -Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. 71 с.
100. Кассирер Эрнст. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер. М.: Гардарика, 1998. - 784 с. (Лики культуры).
101. Киреевский, И.В. О необходимости и возможности новых начал для философии / И.В. Киреевский // Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979.-439 с.
102. Кичигин, В.П. Народная культура Юга России: Белгородская область
103. B.П. Кичигин // Опыт систематизации этнофольклорного материала. Белгород, 2000. - 407 с.
104. Климова, С. М. Феноменология святости и страстности в русской философии культуры / С.М. Климова. СПб.: Алетейя, 2004. - 329 с.
105. Ключевский, В.О. Сочинения. В 9 т. Т.VI. Специальные курсы / Под ред. B.JI. Янина; Послесл. Р.А.Киреевой; Коммент составили В.Г. Зимина, Р.А.Киреева. - М.: Мысль, 1989. - 476 с.
106. Князев, E.H. Синергетический вызов культуре / E.H. Князев // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. -М.: Прогресс традиция, 2000. - 249 с.
107. Князева, E.H. Международный московский синергетический форум // Вопросы философии. -1996. -№ 11.
108. Когай, Е.А. Экология культуры: предметное поле исследования // Социально-гуманитарные знания. 2002. - № 5.
109. Колесников, A.A. Особенности переосмысления библейского архетипа Жертвы в романах Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Автореф. дисс. канд. филолог, наук.- Орёл, 2001.-24 с.
110. Колесникова, И.А. Природа гуманитарного знания и его миссия в современном обществе // Социально-гуманитарные знания. 2001. -№3.
111. Колесницкая, И.М. О некоторых древнейших формах народных песен. (Песня в сказке и родственные ей песенные виды) // Русский фольклор. Из истории русской народной поэзии. Л.: Наука, 1971. -Т.12.-396 с.
112. Колесов, Д. В. Эволюция психологии и природа наркотизма / Д.В. Колесов. М.: Педагогика, 1991. - 311 с.
113. Колпакова, Н.П. Песни и люди. О русской песне / Н.П. Колпакова. -Л.: Наука, 1977.- 134 с.
114. Колпакова, Н.П. К вопросу о жанровом соотношении бытовых народных песен у восточных славян / Н.П. Колпакова // Русский фольклор. Народная поэзия славян. М. - Л.: Наука, 1963. - Т.8. -196 с.
115. Колпакова, Н.П. Лирика русской свадьбы / Н.П. Колпакова. Л.: Наука, 1973.-184 с.
116. Колпакова, Н.П. Опыт классификации традиционной крестьянской бытовой песни / Н.П. Колпакова / Русский фольклор. Материалы и исследования. М.: Наука, 1960. - Т.5. - 382 с.
117. Колпакова, Н.П. Русская народная бытовая песня / Н.П. Колпакова. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 284 с.
118. Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии / Б.И. Кононенко. М.: ООО «Издательство «Вече 2000», ООО «Издательство ACT», 2003. - 512 с.
119. Короткова, М.В. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях: Практ. пособие для учителей / М.В. Короткова, М.Т. Студеникин. -М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 192 с.
120. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях её / Н.И. Костомаров. В 4-х т. Т. 1 / Вступ. статья А.Ф.Смирнова; Составление, комментарии, указатель A.M. Кузнецова. - М.: Риполклассик, 2001. - 592 с.
121. Котельников, Г.А. Теоретическая и прикладная синергетика / Г.А. Котельников. Белгород: БелГТАСМ; Крестьянское дело, 2000. -162 с.
122. Котляр, Н. Древний Киев в новейших изысканиях / Н. Котляр, П. Толочко // Общественные науки. 1982. - № 2 (Академия наук СССР).
123. Котлярова, E.H. Относительные прилагательные русского языка в семантико-деривациональном аспектах: Монография / E.H. Котлярова, C.B. Крюкова, Г.М. Шипицына. Белгород: Изд-во БелГУ, 2003.-252 с.
124. Котовская, М.П. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии / М.П. Котовская / Отв. ред. Е.П. Челышев. М.: «Наука», 1982. - 256.
125. Коул, М. Культура и мышление. Психологический очерк / М. Коул, С. Скрибнер. Пер. с англ. канд. психол. наук П.Тульвисте; Под. ред. и с предисл. д.чл. АПН СССР А.Р.Лурия. М.: Прогресс, 1977. - 261 с.
126. Кошарная, С.А. Миф и язык: опыт лингвокультурологической реконструкции мифологической картины мира / С.А. Кошарная. -Белгород: Издательство Белгородского университета, 2002. 288 с.
127. Кошмина, И.В. Русская духовная музыка / И.В. Кошмина: Пособие для студ. муз.-пед. училищ и вузов: В 2 кн. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Кн.1: История. Стиль. Жанры. - 224 е.: ноты.
128. Краткая философская энциклопедия: М.: Издательская группа «Прогресс» - «Энциклопедия», 1994. - 576 с.
129. Кукушкин, B.C. Этнопедагогика и этнопсихология / B.C. Кукушкин, Л.Д. Столяренко. Ростов/нДону: Феникс, 2000. - 448 с.
130. Кулабухова, М.А. Древнеславянская мифология: Учебное пособие / М.А. Кулабухова. Белгород, БелГИК, 2002. - 168 с.
131. Кулаковский, Л. Песня. Её язык, структура, судьбы (на материале русской и украинской народной, советской массовой песни) / Л. Кулаковский.-М.: Советский композитор, 1962.-341 с.
132. Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания (научно-методический материал по философии, культурологи, истории). 4.IV. - Белгород, 1999. - 61 с.
133. Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания // Научно-методический материал по философии, культурологи, истории. 4.VI. - Белгород, 2001. - 141 с.
134. Культурология. XX век: Энциклопедия. Т.1. - СПб.: Университетская книга; ООО Алетейя, 1998. - 447 с.
135. Культурология. XX век: Энциклопедия. Т.2. - СПб.: Университетская книга; ООО Алетейя, 1998.-447 с.
136. Культурология: Учеб.для студ. техн. вузов / Н.Г.Багдасарьян, А.В.Литвинцева, И.Е.Чучайкина и др.; Под ред. Н.Г.Багдасарьяна. -5-е изд., испр. и доп. М.: Высш. школа, 2004. - 705 с.
137. Курганский, С.И. Ценностные основы современного культурного процесса / С.И. Курганский. Автореф. дисс. канд социол. наук. -Белгород, 1995. 46 с.
138. Куталев, Д. Астрология как историко-культурный феномен / Д. Куталев. Дисс. канд. философ, наук. Москва, 2001. - 145 с.
139. Лащенко, Н.Д. Философско-педагогические взгляды Е.И. Рерих: Монография / Н.Д. Лащенко. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2003.-128 с.
140. Лебедев, С.Д. Мифотворчество как социокультурный фактор функционирования современного технического знания / С.Д. Лебедев. Дисс. канд. социол. наук. БГТАСМ, Белгород, 1996. -156 с.
141. Ленин, В.И. Философские тетради / Полное собрание сочинений. Т. 29. М.: Издательство Политической литературы, 1977. - 782 с.
142. Листопадов, A.M., Арефин, С.Я. Песни донских казаков, собранные в 1902-1903 гг. / A.M. Листопадов, С.Я. Арефьев. Вып. 1. Изд. Войска Донского. М., нотопеч. П. Юргенсона, 1911. - 152 с. с ил.; 1 л. карт.
143. Лихачёв, Д.С. Прошлое будущему: Статьи и очерки / Д.С. Лихачев.- Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. 575 е.: ил. - (Наука. Мировоззрение. Жизнь).
144. Лосев, А. Музыка как предмет логики / А. Лосев. София: Иван Вазов, 1996.-266 с.
145. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев. М.: Политиздат, 1991. - 525 с. - (Мыслители XX века).
146. Лотман, Ю.М. A.C. Пушкин / Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство, 1995.- 847 с.
147. Лотман, Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Проблемы канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки / Ю.М. Лотман. М.: 1973. - 634 с.
148. Лотман, Ю.М. О поэтах и поэзии / Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство, 2001.-848 с.
149. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство, 2000.- 704 с.
150. Лотман, Ю.М. Феномен культуры // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. Вып. X. Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. 463 / Ю.М. Лотман. Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1978. - 230 с.
151. Лукин, В.А.Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа: Учеб. для филол. спец. вузов / В.А. Лукин. М.: Издательство Ось-89,1999. - 186 с.
152. Львов, H.A., Прач, И. Собрание народных русских песен с их голосами / H.A. Львов, И. Прач. М.: Музгиз, 1955. - 350 с.
153. Мазель, Л.А., Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки методика анализа малых форм / Л.А. Мазель, В.А. Цуккерман. М., 1967. - 702 с.
154. Максимов, C.B. Крылатые слова и выражения русского народа / C.B. Максимов. М.: Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2001. - 512 с.
155. Малые формы фольклора: Сборник статей памяти Г.Л. Пермякова. Сост. Т.Н. Свешникова. М.: Изд. Фирма Восточная литература РАН, 1995.- 384 с. (исследования по фольклору и мифологии Востока).
156. Марков, Б.В. Знаки бытия / Б.В. Марков. СПб.: Наука, 2001. - 567 с.
157. Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. Т. 12. - М.: Гос. изд. полит, литературы, 1958. - 880 с.
158. Маслова, В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. М.: Изд. центр Академия, 2001. -208 с.
159. Материалы кафедры народного хора БелГИК.
160. Мелетинский, Е.М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов / Е.М. Мелетинский // Вопросы философии. -1991. -№ 10.
161. Минаев, Е.А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства / Е.А. Минаев. Автореф. дисс. докт. искусствоведения. М., 2000. - 51 с.
162. Миронов, Б.Н. Отношение к труду в дореволюционной России // Социологические исследования. 2001. - № 10.
163. Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1990. - 672 с.
164. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский 4-е изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.-736 с.
165. Мудрик, A.B. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластёнина. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2002. - 200 с.
166. Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В.Келдыш. Т. 5. - М.: Сов. энцикл., 1981.- 1056 с.
167. Музыкальная энциклопедия. Т.2. - М.: Сов. энциклопедия, Сов. композитор, 1974. - 959 с.
168. Музыкальная эстетика Германии XIX века // Памятники муз.-эстет. мысли. В 2-х тт. Т. 1. - М.: Музыка, 1981. - 414 с.
169. Музыкальное исполнительство и педагогика: История и современность: Сб. статей / Сост. Т. Гайдамович. -М.: Музыка, 1991. 240 е., нот.
170. Н. Бердяев о русской философии / Сост., вступ. ст. и прим. Б.В.Емельянова, А.И.Новикова. 4.2. - Свердловск: изд-во Урал, унта, 1991.-240 с.
171. Н.А.Бердяев: pro et contra. Кн. 1 / Сост., вступ. ст. и прим. А.А. Ермичева СПб.: РХГИ, 1994. - 573 с.
172. Набоко, М.В. Былинная песня об Александре Македонском // Сохранение и возрождение традиций. Сб. науч. трудов. Вып.1. М.: Госуд. респ. центр рус. ф-ра, 1994. - 196 с.
173. Налепин, А. Иллюзия «жирного царства» // Литературная учеба, 1990, №2. -192 с. -С.96.
174. Народная культура в современных условиях: Учеб. пособие / М-во культуры РФ.; Отв. ред. Н.Г. Михайлова. М.: Рос. ин-т культурологии , 2000. - 219 с.
175. Народная песня Белгородского края: Хрестоматия. Белгород: Изд-во Шаповалова, 1996. - 192 с.
176. Народные песни сёл Купино и Большое Городище Шебекинского района Белгородской области. Белгород: «Везелица», 1995. - 132 с. -С.101.
177. Некрасов, С.И. Явления разума и духа: коэволюционный подход: Монография / С.И. Некрасов. Владимир: Издательский дом Круг, 2001.-300 с.
178. Некрасова, H.A. Феномен духовности: бытие и ценность: Монография / H.A. Некрасова. Белгород: изд-во БелГУ, 2003. - 232 с.
179. Немировский, А.И. Мифы и легенды Древнего Востока / А.И. Немировский. -М.: Просвещение, 1994. 368 с.
180. Никитина, Л.Д. История русской музыки: Популярные лекции для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.Д. Никитина. М.: Издательский центр Академия, 1999. - 272 с.
181. Новейший философский словарь. 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Интерпрессервис, Книжный Дом, 2001. - 1280 с.
182. Новое педагогическое мышление / Под ред. A.B. Петровского. М.: Педагогика, 1989.-280 с.
183. Нойманн Эрих. Происхождение и развитие сознания / Пер. с англ. -М.: Рефлбук; К.: Ваклер, 1998. 464 с. (Серия Созвездия мудрости).
184. Обряды и обрядовый фольклор. Т.1. Серия Фольклорные сокровища московской земли. - М.: Наследие, 1997. - 432 с.
185. Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. М.: Наука, 1994.-275 с.
186. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. Т. 7. Народы и культуры / Пер. с англ. - М.: Издательский Дом ИНФРА -М.: Издательство Весь Мир, 2000. - 416 с.
187. Орлова, Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию / Э.А. Орлова. М.: Изд-во МГИК, 1994. - 214 с.
188. Осипова, О.С. Славянское языческое миропонимание (Филос. иссл.) / О.С. Осипова. М.: Моск. гос. ин-т радиотехники, электроники и автоматики (Техн. ун-т), 2000. - 53 с.
189. От Рождества до Крещения. Зимние народные праздники Белгородской области // Экспедиционная тетрадь №5. Белгород, 1998.-45 С.-С.29.
190. От фольклора до джаза. Сборник научных статей / Редакторы-составители: И.М. Шабунова, Т.С.Рудиченко. Ростов н/Д: Издательство Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова, 2002. - 232 с.
191. Панкеев, И. Обычаи и традиции русского народа / И. Панкеев. М.: OJIMA - ПРЕСС, 1999. - 544 с.
192. Пахомов, Е.И. Социокультурные основания и механизмы формирования современной правовой культуры / Е.И. Пахомов.-Дисс. канд. философ, наук. Белгород, 2001. - 149 с.
193. Повесть временных лет / Подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С.Лихачёва; под ред. В.П.Андриановой-Перетц; Рос. акад. наук. -2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1999. - 670 с. - (ЛП: Литературные памятники).
194. Попов, B.C. Русская народная песня в самодеятельном хоре. Методика, опыт / B.C. Попов. М.: Профиздат, 1977. - 214 с.
195. Попова, Т.В. Основы русской народной музыки / Т.В. Попова. М.: Музыка, 1977.-224 с.
196. Попова, T.B. Русское народное музыкальное творчество / Т.В. Попова. Вып.1. - М.: Госуд. муз. изд-во, 1962. - 300 с.
197. Потебня, A.A. Мысль и язык / A.A. Потебня. М.: Лабиринт, 1999. -269 с.
198. Потебня, A.A. Собрание трудов. Символ и миф в народной культуре / A.A. Потебня. М.: Лабиринт, 2000. - 479 с.
199. Поэтика русских народных лирических песен. М.: Изд-во МГУ, 1974.- 167 с.
200. Пригожин, И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. М.: Прогресс, 1986.-431 с.
201. Признаковое пространство культуры / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2002. - 432 с. (Библиотека Института славяновдения РАН).
202. Проблемы истории и теории древнерусской музыки: Сб. статей / Сост. A.C. Белоненко. Л.: Музыка, 1979. - 184 с.
203. Проблемы музыкальной науки. Сб. статей. Вып.1. М.: Всесоюзное издательство Советский композитор, 1972. 395 с.
204. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки / В.Я. Пропп. М.: Лабиринт, 2001.- 192 с.
205. Пропп, В.Я. Поэтика фольклора // Собрание трудов В.Я. Проппа / Сост., предисл. и коммент. А.Н. Мартыновой. М.: Лабиринт, 1998. -352 с.
206. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность: Избр.статьи / В.Я. Пропп; (Сост., ред., предисл. и примеч. Б.Н.Путилова; АН СССР, Ин-т востоковедения). -М.: Наука, 1976. 325 е.: 1 л. портр. -(Исследования по фольклору и мифологии Востока).
207. Пропп, В.Я. Фольклор. Литература. История / В.Я. Пропп / Составление, научная редакция, комментарии, библиографический указатель В.Ф. Шевченко. М.: Лабиринт, 2002. - 464 с. - (собрание трудов).
208. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов / Сост. и отв. ред. Е.А. Кротков. М.: Центр, 2002. - 256 с.
209. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах: Боги, герои, люди / Б.Н. Путилов. СПб.: Азбука, 2000. - 368 с.
210. Пятигорский, A.M. Избранные труды / A.M. Пятигорский. М.: Школа Языки русской культуры, 1996. - 590 с.
211. Радугин, A.A. Социология: Курс лекций /A.A. Радугин, К.А. Радугин.- 3-е изд., перераб. и дополн. М.: Центр, 2000. - 244 е.: ил.
212. Радугин, A.A. Философия: Курс лекций / A.A. Радугин. 2-е изд., перераб. и дополн. - М.: Центр, 1999. - 272 с.
213. Развитие народных традиций в музыкальном исполнительстве, творчестве и педагогике: опыт коллективного исследования: Межвуз. сб. науч. тр. Екатеринбург: Изд-во Уралтрейд, 2000. - 62 с.
214. Разин, Е.А. История военного искусства / Е.А. Разин. Т.1. Военное искусство рабовладельческого периода войны. - М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1955. - 528 с.
215. Разин, Е.А. История военного искусства / Е.А. Разин. Т.2. Военное искусство феодального периода войны. - М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, Москва, 1957. - 627 с.
216. Рекомендации о сохранении фольклора // Международные нормативные акты ЮНЕСКО / Сост. И.Д. Никулин М.: Логос, 1993.- 639 с.
217. Римский, В.П. Миф и религия: К проблеме культурно-исторической специфики архаических религий: Монография / В.П. Римский. -Белгород: Крестьянское дело, 2003. 184 с.
218. Рождественский, Ю.В. Введение в культуроведение / Ю.В. Рождественский. М.: ЧеРо, 1996. - 288 с.
219. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов (общеобразовательный тезаурус): Общество. Семиотика. Экономика. Культура. Образование / Ю.В. Рождественский. М.: Флинта: Наука, 2002. - 112 с.
220. Розин Вадим. Семиотические исследования / Вадим Розин. СПб.: Университетская книга, 2001. - 256 с.
221. Рубцов, Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов: Опыт исследования / Ф.А. Рубцов. JL: Советский композитор, 1962. - 115 с.
222. Руднева, A.B. Русское народное музыкальное творчество: Очерки по теории фольклора / A.B. Руднева. М.: Советский композитор, 1990. -224 с.
223. Русская мысль о музыкальном фольклоре (материалы и документы) / Вст. ст., сост. и коммент. П.А. Вульфиуса. М.: Музыка, 1979. - 161 с.
224. Русская народная поэзия. Лирическая поэзия: Сборник / Сост, подгот. текста, предисл. к разделам и коммент. Ал. Горелова. Л.: Художественная литература, 1984.- 584 е.: илл.
225. Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия / Сост. и подгот. текста К. Чистова и Б. Чистова; Вступ. ст., предисл. к разделам и коммент. К. Чистова. Л.: Художественная литература, 1984.- 528 е.: илл.
226. Рыбаков, Б.А. Язычество древнего славянства / Б.А. Рыбаков. М.: Наука, 1994.-608 с.
227. Рытов, Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные инструменты: Учебно-методическое пособие / Д.А. Рытов. ВЛАДОС, 2001. - 384 е.: ил.: ноты.
228. Свято-Русские Веды. Книга Велеса / Перевод, пояснения А.И. Асова.- М.: ФАИР ПРЕСС, 2002. - 576 с.
229. Семёнова, Мария. Быт и верования древних славян / М. Семёнова.-СПб.: Азбука, 2000.-500 с.
230. Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: Академический проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2001. -702 с.
231. Серяков, M.JI. Голубиная книга священное сказание русского народа / M.J1. Серяков. - М.: Алетейа, 2001. - 664 е.: ил. -(Славянские древности).
232. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис-Лак, 1995.-413 с.
233. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. -М.: Международные отношения, 2002. - 512 с.
234. Сластёнин, В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, E.H. Шиянов; Под ред. В.А. Сластёнина. -М.: Академия, 2002. 576 с.
235. Словарь символов. Надя Жюльен. Иллюстрированный справочник. -2-ое издание. Свердловск: Изд-во Урал П.Т.Д., 2000. - 498 с.
236. Снегирёв, И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды / И.М. Снегирев. Ч. 1. -М.: Сов. Россия, 1990. - 160 с.
237. Собрание народных песен П.В. Киреевского / Записи П.И. Якушкина. Т.2. - Л.: Изд-во Наука, Лен. отд., 1986. - 560 с.
238. Собрание народных песен П.В. Киреевского. Т.1. - Л.: Изд. Наука, Ленин, отд., 1977. - 634 с.
239. Соколов, Ф. В.В. Андреев и его оркестр / Ф. Соколов. Л.: Госмузиздат, 1962 г. - 109 с.
240. Соколова, Т.С. Очерки по русской лингвофольклористике: Монография / Т.С. Соколова. Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. - 188 с.
241. Соловьев, Вл.С. Лекция. Исторические дела философии, произнесенная им в Санкт-Петербургском университете // Вопросы философии. 1988. - № 8.
242. Соломонова H.A. Музыкальная культура народов Дальнего Востока России XIX вв. (Этномузыкологические очерки) / H.A. Соломонова. Автореф. дисс. д-ра искусствоведения. М., 2000. - 24 с.
243. Сорокин, П.А. Заметки социолога. Социологическая публицистика / П.А. Сорокин. СПб.: Алетейя, 2000. - 315 с.
244. Сохор, А. Статьи о советской музыке / А. Сохор. Л.: Ленингр. отд.: Музыка, 1974.-216 с.
245. Ставрографический сборник. Книга I: Сб. статей. М.: Древлехранилище, 2001. - 382 е.: илл.
246. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: Академический Проект, 2001. -990 с.
247. Стивен Прист. Теория сознания / Пер. с англ. Грязнова А.Ф. М.: Идея - Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. - 288 с.
248. Стрельцова, ЕЛО. Народное художественное творчество как объект научного исследования: Опыт историко-эпистемологического изыскания / Е.Ю. Стрельцова. М.: МГУКИ, 2003. - 248 с.
249. Тайлор, Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре / Э.Б. Тайлор / Пер. с англ. Д.А. Коропчевского. Смоленск: Русич, 2000. - 624 с.
250. Тараканов, М.Е.: Человек и Фоносфера. Воспоминания. Статьи /М.Е. Тараканов: Материалы конференции «Фоносфера человек -сообщество». - М. - СПб.: Алетейя, 2003.- 300 с.
251. Творческий процесс и художественное восприятие. Л.: Наука, 1978.- 279 с.
252. Токарев, С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX начала XX века. - М. - Л.: Изд-во Акад.наук СССР, 1957. - 164 с. - (Музей истории религии и атеизма).
253. Толстая, С.М. К проблеме комплексного изучения фольклора (Фольклор: Песенное наследие) / С.М. Толстая. М.: Лабиринт, 2002.- 198 с. -С.41 -65.
254. Топоров, В.Н. О древнеиндийской заговорной традиции / Малые формы фольклора / В.Н. Топоров: Сборник статей памяти Г.Л.
255. Пермякова / Сост. Т.Н. Свешникова. М.: Изд. Фирма «Восточная литература РАН, 1995. - 384 с.
256. Традиции народной художественной культуры Прохоровского района: Учебно-методическое пособие.- Белгород, 2001. 154 с.
257. Традиционная культура Губкинского района // Экспедиционная тетрадь. Вып. 12. Белгород, 2001. - 43 с.:нот. - С.39-40
258. Традиционная культура Шебекинского района // Экспедиционная тетрадь. Вып. 14. Белгород, 2002. - 86 с. - С.52-54.
259. Тресиддер, Дж. Словарь символов / Дж. Тресиддер / Пер. с англ. С. Палька. М.: ФАИР-Пресс, 1999. - 448 с.
260. Трубецкой, Н.С. Об истинном и ложном национализме / Н.С. Трубецкой // Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. - 560 с.
261. Трубецкой, Н.С. Об истинном и ложном национализме / Н.С. Трубецкой // Россия между Европой и Азией. Евразийский соблазн. -М.: Наука, 1993. 367 с. - С.544.
262. Трубников, H.H. Проблема времени в свете философского мировоззрения / H.H. Трубников // Вопросы философии -1998. №2.
263. Уваров, A.C. Христианская символика. Символика древнехристианского периода A.C. Уваров. М.: Изд-во Православный свято-тихоновский Богословский институт, 2001. - 241 с.
264. Умберто, Эко. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко. СПб.: ТОО ТК Петрополис, 1998. - 432 с.
265. Успенский, H.A. Образцы древнерусского певческого искусства. Музыкальный материал с историко-теоретическими коммент. и илл./ H.A. Успенский. Изд. 2-е, доп. - JL: Музыка, 1971. - 669 с.
266. Устно-поэтические легенды Белгородской области: Учебное пособие для студентов филологических факультетов / Сост. В.П. Кичигин. -Белгород: Изд-во Бел ГУ, 2000. -188 с.
267. Февр, J1. Бои за историю / J1. Февр. -М.: Наука, 1991. 630 с.
268. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА, 2000. - 547 с.
269. Флиер, А.Я. Культурогенез в истории культуры / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. -1995. № 3. - С. 137-148.
270. Фольклор: Песенное наследие. М.: Наука, 1991. - 261 с.
271. Фольклорные сокровища московской земли. Т.1. Обряды и обрядовый фольклор. - М.: Наследие, 1997. - 424 с.
272. Фольклорные традиции села Мощёное Яковлевского района. -Белгород, 1998. 88 с. - С.65-66.
273. Франк, C.J1. Реальность и человек / C.JI. Франк / Сост. А.А. Ермичева. СПб.: РХГИ, 1997. - 448 с.
274. Фрезер, Дж. Фольклор в Ветхом завете: Пер. с англ / Дж. Фрезер. 2-е изд., испр. - М.: Политиздат, 1989, - 542 с.
275. Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг / Подготовка текста и общая редакция Н.В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997.-445с.
276. Фролов, Н.Т. О человеке и гуманизме. Работы разных лет / Н.Т. Фролов. М.: Политиздат, 1989. - 549 с.
277. Хайдеггер, М. Разговор на просёлочной дороге / М. Хайдеггер: Сборник: Пер. с нем. / Под ред. А.Л. Доброхотова. М.: Высшая школа, 1991. - 192 с. (Б-ка философа).
278. Харлап, М.Г. Ранние формы искусства / М.Г. Харлап. М.: Искусство, 1972. - 148 с.
279. Харлап, М.Г. Ритм и метр в музыке устной традиции / М.Г. Харлап. -М.: Музыка, 1986.- 102 с.
280. Холопова, В.Н. Мелодика: научно-методический очерк / В.Н. Холопова. М.: Музыка, 1984. - 88 е., нот. (Вопросы истории, теории, методики).
281. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие / В.Н. Холопова. СПб.: Издательство Лань, 2000. - 320 с. - (Мир культуры, истории и философии).
282. Холопова, В.Н. Музыкальный ритм: Очерк / В.Н. Холопова. М.: Музыка, 1980. - 71 е., нот., схем (Вопросы истории, теории и методики).
283. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / В.Н. Холопова. СПб.: Издательство Лань, 2002. - 368 е.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
284. Хрестоматия по истории философии (западная философия): Учеб. пособие для вузов. В 3 ч. Ч. 2. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. -1997.-528 с.
285. Хрестоматия по истории философии (русская философия). В 3 ч. Ч. 3. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - 1997. - 672 с.
286. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир эпоха Просвещения / Редкол.: И.Т.Фролов и др.; сост. П.С. Гуревич. -М.: Политиздат, 1991. - 461 с.
287. Чередниченко, Т. Музыка в истории культуры: Курс лекций / Т. Чередниченко. Вып. 1. - М.: Мособлупрполиграфиздат, 1994. - 218 с.
288. Шанский, Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителя. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. чл.-кор. АН СССР С.Г. Бархударова. - М.: Просвещение, 1971.-542 с.
289. Шатохин, И.Т. Введение в археологию Белгородского края / И.Т. Шатохин. Белгород, 2001. - 64 с.
290. Шинкарук, В. Природа и функция мировоззренческого сознания / Шинкарук В., Иванов В. // Общественные науки 1982. - № 2. (Академия наук СССР).
291. Шкуратов, В. Историческая психология / В. Шкуратов. М.: Смысл, 1997.-505 с.
292. Шпенглер, О. Закат Европы: (Перевод). Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 1993. - 584 с.
293. Шпет, Г.Г. Психология социального бытия / Г.Г. Шпет / Под ред. Т.Д. Марцинковской; Вступ. ст. Т.Д.Марцинковской. М.: Издательство Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 1996.- 492 с.
294. Щуров, В.М. Песни Усёрдской стороны. М.: Композитор, 1995. -360 с.-С.314.
295. Щуров, В.М. Белгородское Приосколье. Вып. 2. Песенный нотный сборник. Белгород, 2004. - 291 с. - С. 216-222.
296. Щуров, В.М. О региональных традициях в русском народном музыкальном творчестве / В.М. Щуров // Музыкальная фольклористика. М., 1986. - 134 с.
297. Щуров, В.М. Стилевые основы русской народной музыки. М.: Московская государственная консерватория, 1998. - 464 е., нот.
298. Элиаш, Н.М. Русские свадебные песни / Н.М. Элиаш. Орел: Орловский государственный педагогический институт, 1966. - 86 с.
299. Энциклопедия русских обычаев / Автор-сост. Юдина Н.А. М.: Вече, 2001.-512 с.
300. Эткинд, Е.Г. Внутренний человек и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII XIX вв. / Е.Г. Эткинд. -М.: Школа Языки русской культуры. 1999. - 448 с.
301. Этнология: Учебное пособие. М.: ЦИНО общества Знание России, 1997.- 142 с.
302. Юнг К.Г. и современный психоанализ. М.: Добросвет, 1997. -196 с.
303. Юнг, К. Избранное / Пер. с нем. Е.Б. Глушак, Г.А. Бутузов, М.А. Собуцкий, О.О. Чистяков; Отв. ред. C.JI. Удовик; худ. обл. М.В. Драко. Мн.: ООО Попурри, 1998. - 448 с.
304. Юнг, К.Г. Божественный ребёнок: Аналитическая психология и воспитание / К.Г. Юнг. М.: Олимп, ООО Издательство ACT-ЛТД, 1997.-400 с.
305. Яблоков, И.Н. Социология религии / И.Н. Яблоков. М.: Мысль, 1979.- 182 с.