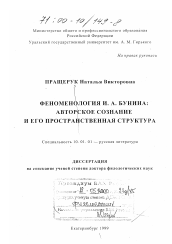автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ 10.01.01
диссертация на тему: Феноменология И. А. Бунина
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора филологических наук Пращерук, Наталья Викторовна
Введение.
Глава 1. «Освобождение» от времени в произведениях
1910-20-х годов.
Глава 2. Пространство жизни в книге «Жизнь Арсеньева».
Глава 3. Язык пространства и философия любви (Книга
Темные аллеи»).
Глава 4. Автор и герой в «ситуации встречи» (книга
Освобождение Толстого»)
Введение диссертации1999 год, автореферат по филологии, Пращерук, Наталья Викторовна
Несмотря на общепризнанность Бунина как художника-классика XX века, блестящего мастера слова, создавшего образцовые художественные произведения, он по-прежнему остается, как справедливо полагает Ю. Мальцев, «одинокой . до сих пор до конца неразгаданной фигурой в нашей литературе» (1), и, я бы даже добавила, — несколько периферийной. В самом деле, Бунин-писатель и поэт — как будто заслонен именами, ставшими «знаками» эпохи. Это, с одной стороны, — Чехов и модернисты начала века, вызывающие активный исследовательский интерес, с другой — Булгаков, Платонов, Набоков, Пастернак, Замятин и др., также не обойденные вниманием отечественного и зарубежного литературоведения.
Природу особого «одиночества» художника в родной ему литературе при том, что, конечно, настоящий писатель и поэт всегда индивидуален, очень верно угадал Ф. Степун. Он писал, что вряд ли возможно у нас найти «таланты, равные Бунину по своей внутренней подлинности и по совершенству своих проявлений» (2). В этом плане Бунин представляется «почти единственным и . в своей единственности всем нам . особенно нужным и ценным мастером» (3'). Отсюда такая характерная бунинская черта как нелюбовь к театральности и театральным эффектам, нелюбовь ко всякому «актерствованию» в жизни и искусстве, прямо проявившаяся, например, в образах «актерствующих» юродивых (Шаша, Юшка, странник Макар), в «Жизни Арсеньева» (в отношении героя к стремлению Лики преуспеть на театральном поприще) или даже в том, что сам Бунин пьес не писал и скептически относился, в частности, к драматургическому наследию горячо любимого им Чехова.
Связывая тайну подлинности с тайной личности, т. е. с «тай3 ной органического единства между человеческой особью и абсолютной истиной» (4), и считая подлинным художником того, для кого «истина — не отвлеченно стоящая над ним идея, а кровь и плоть его духовно-душевно-телесного существа» (5), Ф. Степун видит в бунинской подлинности главный источник той «свободы и самостоятельности, с которыми Бунин прошел и мимо всех эстетических нарочитостей декадентства, и мимо всех политических утробностей общественности.» (6).
Царственная свобода, укорененная в твердом,- инстинктивном знании того, что ему, т. е. его таланту, потребно и что непотребно» (7), сберегла его и потом от столь характерных для эмигрантской литературы «нервности, сентиментальности, развинченности и взвинченности».
И далее, глубоко проникнув в бунинскую индивидуальность, Ф. Степун формулирует перед исследователями творчества художника верную, но едва ли достижимую задачу: «Раскрыть сущность подлинности — значит раскрыть тайну бунинского творчества» (8). Что сделано литературоведением, чтобы приблизиться к ее решению хотя бы отчасти?
С достаточной очевидностью прослеживается тенденция, особенно ярко проявившаяся в-1980-е годы, рассматривать творчество Бунина в ряду других, в качестве создающего контекст, иллюстрирующего те или иные закономерности литературы в XX веке в целом. Эта тенденция характерна для наиболее интересных исследований, посвященных литературе XX столетия — в частности, для исследований В. Келдыша, Е. Мущенко, Л. Колобаевой, Л. Долгополова (9). В работах В. Келдыша и Л. Долгополова Бунин рассматривается в контексте общих процессов развития художественного сознания, изменений метода (10), Е. Мущенко ин- { тересует Бунин-художник с точки зрения жанровых преобразований (11). Нередко художника сопоставляют с другим автором — обычно Чеховым или Толстым. Известны работы В. Гейдеко, А.Лакшина (12) о Бунине и Чехове, докторская диссертация и монография В. Линкова «Концепция мира и человека в творчестве Толстого и Бунина» (13). При этом парадокс заключался в том, что Бунин в подобных сопоставлениях «проигрывал»: ему «не хватало» чеховской глубины и объективности, толстовской глобальности и эпичности и т. п. Плохо «поддается» Бунин и струк-туралистскрму анализу, не случайно он не вызвал интереса у представителей формальной школы и их последователей.
Если же говорить в целом об отечественном буниноведении 1970-1980-х годов, то оно, безусловно, имеет свои традиции и отмечено открытиями в области проблематики и поэтики бунинско-го творчества. Несомненную ценность представляют работы
A. Бабореко, Л. Крутиковой, О. Михайлова, Р. Спивак, К. Муратовой, А. Нинова, О. Сливицкой и др. (14).
В последнее десятилетие отечественное литературоведение — наряду с зарубежными исследователями Д. Вудвордом, Б. Кирхнером, Р. Поджиоли, В. Харкинсом, А. Эбель и др. (15), а также продолжая, развивая или оспаривая идеи, высказанные в русской зарубежной критике в работах Ф. Степуна,
B. Ходасевича, И. Ильина, Г. Струве, Г. Адамовича и др. (16), — активно преодолевало стереотип восприятия Бунина только как великолепного стилиста, мастера художественного слова, но по масштабу и глубине миропонимания, «недотягивающего», например, до Чехова. Напротив, исследовательская .мысль сосредоточилась на вопросах философской «насыщенности» бунинского текста, на связях художника с той или иной философско-эстетической традицией.
Среди таких работ необходимо выделить глубокое и концептуальное исследование Р. С. Спивак, в котором поэтическое творчество Бунина 1910-х годов осмыслено с позиций философского метажанра и включено в контекст процессов «философизации» русской культуры. Интерпретация лирики художника с выделением таких лирических подсистем, как «Животворный Космос», «Грозный Космос», «Кругооборот природы», «Космос Культуры», сочетающая в себе теоретическую выстроенность и новизну с тонкостью наблюдений над текстом, убедительна в своих основных заключениях: «Поэтическая философия Бунина несет в себе идеи и образы разных философских систем (Дж. Бруно, Шеллинга, Гете, Л. Толстого, Библии, Корана, буддизма, Спинозы, отчасти перекликается с В. Соловьевым), но ни к одной из них не сводится и самостоятельна в своем идейно-нравственном содержании» (17).
Большой интерес представляют и работы О. В. Сливицкой о прозе Бунина. Исследовательница рассматривает его как художника космического мироощущения, скорее, по восточному типу и на этой основе выстраивает свою оригинальную концепцию психологизма его позднего творчества (18). О. В. Сливицкая полагает, что, руководствуясь представлением об онтологической первичности космоса по отношению к человеку, Бунин существенно «редуцирует личность» в своем мире, «расшатывая» антропоцен-тристскую модель мироздания, столь характерную для классической русской литературы. Его занимают «внеличностная глубина человека», «фундаментальные эмоции, порожденные пребыванием человека в космосе», а не «психология индивидуальных различий» (19). Отсюда такой обостренный интерес к тем, кто обладает космическим мироощущением. «Печать их особости — в пластичности и высокой проницаемости границ личности. Громадный внеположный мир проникает в интимное ядро личности и, растворяя, безмерно его расширяет. Тогда и возникает «сладостная боль соприкасания душой со всем живущим» (1, 425). Такие люди близки к архаическим слоям бытия . Они имморальны, ибо поток той силы, что несет их, безмерно могущественней слабого человеческого «я» и хрупкой оболочки гуманистической культуры. Из их породы выходят любовники, художники и «выродки» (20). В этой и других работах О. В. Сливицкой, безусловно, очень тонко, глубоко прочувствована и истолкована глубинная, сущностная основа бунинского философизма, хотя, может быть, ею несколько снят все же принципиально важный — и для позднего Бунина тоже — фактор «вхождения» в человеческий мир общекультурного опыта. Нам представляется, что художник, без сомнения, действительно погруженный в космические глубины бытия, в архаические, глубинные структуры личности, тем не менее очень чутко отзывался на «присутствие» в жизни того, о чем написал в «Охранной грамоте» Б. Пастернак: «Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция» (21). И в этой традиции архаическое содержание, нередко особым образом актуализированное и трансформированное запросами современной культуры, «приспосабливалось» именно к ним. В продолжение сказанного, можно предположить, что Бунин мог бы вполне согласиться с таким утверждением философа XX века И. Левина: «.Трансцендентное является каждому в соответствии с его пониманием и представлением. Но последние как раз не даны интуицией, а сообщаются традицией» (22).
Не случайно в одном сборнике с названной работой О. В. Сливицкой, опубликована оригинальная статья Е. Г. Мущенко, написанная на материале ранней прозы о том, что в своем стремлении восстановления связи с вневременным художник опирается, по существу, на один символический сюжет, связанный с первейшими общекультурными оппозициями: жизнь смерть, вечность — миг, небо —- земля, родное — чужое, лес дом, человек — Бог, сказка — реальность и т. п. (23). Анализируя ранние рассказы, исследовательница приходит к важным, перспективным результатам. Она считает, что Бунин-художник уже в конце XIX века предчувствовал идеи, которые стали актуальными особенно сейчас, в конце XX столетия, и могут быть сформулированы — с помощью суждений современных философов И. Левина и М. Мамардашвили — следующим образом: «Мы брошены не просто в мир, а в мир культуры»; «Те основания, которые мы под себя подкладываем, чтобы возникать в качестве людей, разыскиваются через выхождение человека за собственно природные (натуральные) рамки» (24).
Заметное место в ряду работ 1990-х годов о Бунине занимает и кандидатская диссертация Г. Ю. Карпенко «Творчество Бунина в контексте религиозно-философских и антропологических идей конца XIX — начала XX века (концепция человека)» (25). Автор справедливо полагает,' что постичь художественное явление в «ореоле» культурно-исторических и символических смыслов, увидеть органическую связь уникального содержания отдельного литературного творчества со всеобщим полем культуры — это не только одна из важнейших задач современной науки о литературе, но и потребность человеческого духа (26). Г. Ю. Карпенко рассматривает творчество художника на широком «поле» религиозно-метафизических, антропологических, научно-позитивистских идей и умонастроений эпохи, делая акцент на «ветхозаветности» бунинского мироощущения и на особого рода «перекличках» его идейно-эстетических взглядов с антрополого-позитивистскими представлениями порубежья.
В. В. Заманская в своем методологически перспективном исследовании убедительно связывает Бунина с проблемой экзистенциального сознания в русской литературе первой трети XX века, тем самым включая его в более поздний и, на наш взгляд, более органичный для художника философский контекст (27).
Такие исследования чрезвычайно важны, поскольку открывают масштабность, значительность, проблемно-содержательный потенциал бунинского художественного мышления, его синтетизм, протеизм, универсалистскую природу. Между тем, возникает опасность вступить на «экстенсивный» путь изучения художника — путь выявления и обозначения все новых и новых «составляющих» его мировидения, в определенном смысле, «уводящий» от проблем, связанных с пониманием бунинского специфического типа художественного сознания, с пониманием исходной стратегии, ключевых принципов и «механизмов», с помощью которых осуществляется преобразование идейно-философского содержания в содержание собственно эстетическое, художественное. Бунин, кроме того, что он «универсален» по мирочувствова-нию, — относится к художникам, у которых вопрос об онтологии их миров всегда решается через вопрос о форме. Поэтому возникает потребность в работах, которые именно структурно «обеспечивают» бунинскую универсалистскую онтологию, потребность, отчасти восполненная диссертацией М. С. Штерн «Проза И. А. Бунина 1930-40-х годов. Жанровая система и родовая специфика» (28).
Анализируя яркое, нестандартное жанровое мышление Бунина, автор истолковывает «малую» и «большую» прозу художника указанного периода как целостный феномен, обнаруживающий при таком подходе общие закономерности формы, поразительное «единство многообразия» (29). Оказывается, что творчество Бунина сориентировано на создание открытых или индивидуальных жанровых форм, это творчество, в котором действуют механизмы жанрового кода, в котором процессы жанрообразования во многом вытесняются интертекстуальностью. Не случайно в работе такое значительное внимание уделяется интертекстуальному уровню произведений писателя, «цитатности» его мышления, особенно в главах о «Темных аллеях» и «Жизни Арсеньева». Следовательно, жанровый подход, основывающийся на структурной всеобъемлемости самой категории жанра, может быть, нуждается в некотором уточнении, состоящем в выявлении и описании другой, дополнительной, «опорной» для художественного мышления Бунина структуры, которая бы максимально репрезентировала его оригинальность и уникальность, то, что позволило говорить об «ошеломляющей новизне» бунинских произведений, таких, например, как «Суходол» или «Жизнь Арсеньева».
Думается, для выявления такой структуры может быть полезна монография Ю. Мальцева, в которой он, не вдаваясь в философские конкретности, впервые поставил проблему феноменологического характера творчества Бунина, связывая тем самым художника с современными европейскими умонастроениями и на новом уровне подхватывая степунскую тему его уникальности в русской литературе (30).
В противовес традиционным жанровым дефинициям, он называет книгу «Жизнь Арсеньева» «первым русским феноменологическим романом», поскольку в ней, по его мнению, «жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно в одном едином контексте.» (31). Ю.Мальцев обстоятельно рассматривает феноменологическую природу «Жизни Арсеньева» и ее «проявления» в стиле, в целом ряде повествовательных приемов, тонко отмечает суггестивность, особую магию бунинского слова. Вместе с тем за пределами его внимания остается вопрос о стержневом принципе структуры бунинской книги. Ю. Мальцев справедливо отмечает некорректность Б. Вудворда, который, выявив в «Жизни Арсенье-ва» структуру, строящуюся на вариациях шести музыкальных тем (природа, любовь, смерть, искусство, душа России и биологическая наследственность), «приходит к выводу, что результат неудовлетворителен, потому что этой музыкальности все-таки недостаточно, чтобы держать интерес читателя . и придать книге нужный динамизм» (32). Однако при этом он в целом соглашается с выводами Вудворда о «небрежении структурой» в бунинском произведении, отмечая, правда, что «такой недостаток (если только это признать недостатком) компенсируется у Бунина иными качествами, структурным анализом неуловимыми» (33).
Безусловно, проза художника в репрезентативных ее образцах лишена традиционной структуры, писатель тяготеет к свободным формам. Так, в 1921 году он писал в дневнике о том, что мечтает «сделать что-то новое, давным давно желанное (.), начать книгу, о которой мечтал Флобер, «книгу ни о чем», без всякой внешней связи, где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть.» (34).
Однако не менее, чем потребность освобождения от традиционных структур, для Бунина-художника характерно стремление к выразительности формы, к эстетической завершенности смысла и безупречному, совершенному художественному результату. «Небрежение структурой» (35), скорее всего, означает организацию, структуру особого рода, которая может быть выявлена и истолкована как раз с помощью феноменологической «подсказки». Обратимся для этого к еще одной из последних работ о Бунине.
Вслед за Ю. Мальцевым Л. Колобаева рассматривает проблему феноменологической природы «Жизни Арсеньева» и «Доктора Живаго» как основы типологического сходства этих двух — таких непохожих — произведений (36). Поясняя методологию исследования, она выделяет в качестве ее основного принципа принцип «археологии, ищущей скрытый и утерянный смысл» (37) и на этом строит свое сопоставление. Делясь новыми интересными наблюдениями над художественными мирами того и другого романов, исследовательница — признавая несомненную близость исходных «феноменологических» установок художников, связанных с представлением о неразрывности субъективного и объективного, — все же не ставит вопроса о разном типе бунинской и пас-тернаковской «археологий», который при всем родстве писателей сообщает им не менее показательную непохожесть. Думается, здесь дело в характере «применения» каждым из них к собственному творчеству тех идей, которые тогда «носились в воздухе» и составляли существенную часть общей философско-эстетической и духовной атмосферы тех лет.
Феноменологическая философия Гуссерля оказалась удивительно созвучной русскому сознанию первой трети XX века, подготовленному философией «всеединства» В. Соловьева, «нашла отклик, несврдимый к простому знакомству с очередной немецкой философской школой» (38). Программные работы Гуссерля были впервые переведены в России, а такие русские философы, как Г. Шпет, Н. Лосский, Л. Шестов, И. Ильин, В. Зеньковский, А. Лосев и многие другие явились не столько популяризаторами немецкого феноменолога, сколько адапторами и оригинальными продолжателями его идей (как, впрочем, созвучных идей других, в том числе, и русских философов). Система Гуссерля, выросшая из философии жизни, резко обозначившая общий и кардинальный поворот философского сознания рубежа веков и XX века к иному, отличному от классической философии, пониманию принципов взаимоотношения человека и мира, стала еще и одним из методологических оснований для многих известных философских течений, например, экзистенциализма. О том, насколько Гуссерль был популярен в России, косвенно свидетельствуют шуточные строки, широко ходившие в академических кругах в начале 1920-х годов: «Нет бога, кроме Гуссерля, и Шпет пророк его» (39).
Однако Бунин, в отличие от Пастернака, формировавшегося как художник в условиях системного философского образования и штудирования источников, был восприимчив и необыкновенно чуток скорее к «веяниям», чем к идеям современной культуры и, конечно, никогда специально не разбирался в хитросплетениях феноменологической философии [хотя и недвусмысленно выразил свое феноменологическое кредо в одном из писем конца века: «Мир — зеркало, отражающее то, что смотрит в него. Все зависит от настроения. Много у меня было скверных минут, когда все и вся казалось глупо, пошло и мертво, и это было, вероятно, правда. Но бывало и другое, когда все и вся было хорошо, радостно и осмыслено. И это было правда» (40)]. Поэтому, вероятно, нет необходимости и нам, говоря о феноменологической природе его творчества, глубоко вникать в конкретное содержание этой философии. Главное — обозначить систему общих принципов, которая, на наш взгляд, претворялась сознанием художника в «живую жизнь» его произведений и, преобразованная его уникальным видением мира, как «заглавное интеграционное ядро» (формула Пастернака) системно «насыщала» эту «жизнь» философским содержанием, никоим образом «не мешая» соседствовать, взаимодействовать, пересекаться и «встречаться» с другими философскими и культурными традициями.
Такое обозначение выполняет в нашей работе роль основной методологической посылки, позволяющей «строить» и развертывать стратегию и ход дальнейшего исследования.
Итак, 1) феноменологическая установка предполагает неразрывность субъекта и объекта. Это означает, что «нет объекта без субъекта», т. е. «каждый психический феномен содержит в себе нечто, как объект: в представлении нечто представлено, в высказывании нечто высказано, в любви — любовь, в ненависти — ненависть» (41), предметное бытие, следовательно «имманентно присуще сознанию», оно обретает свой особый смысл благодаря отнесенности к сознанию (42). В «Жизни Арсеньева» такая установка обозначена следующим афоризмом героя: «Нет никакой отдельной от нас природы . каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214).
Эта позиция, определяющая основной принцип взаимоотношения «я» и «не-я», терминологически обеспечивается категорией «жизненный мир» (ЬеЬепзшеИ), вполне «работающей» при анализе бунинских текстов и означающей «пласт опыта, предшествующего субъект-объектному отношению» (43), т. е. «тот мир, в котором живут и которым живут все люди» — «мир первоначальных очевидностей, сфера объективации человеческой субъективности» (44).
2) Реальность «жизненного мира» мыслится и строится как реальность феноменов, т. е. «себя — в себе — самом — показывающих» (Хайдеггер), самих себя обнаруживающих, «идеальных сущностей, обладающих непосредственной достоверностью» (45). Феномен отличается от явления (нечто, дающее знать о чем-то другом) и от видимости (нечто, принимаемое не за то, что оно есть). «Феномен — это не иллюзия, не видимость, не проявление чего-то иного — он сам есть то, что оно есть (.) Если мне «кажется» что мне радостно, это «переживание» действительно присутствует во мне» (46). «Феномены выступают по отношению к сознанию как непосредственно данная реальность — независимо от того, стоят ли за нею самосущие объекты или нет» (47). Очень хорошо почувствовал в свое время бунинский принцип изображения как феноменологическую являемость смысла «вещей и дел человеческих» самой их данностью, непосредственной достоверностью Ф. Степун, назвав Бунина художником, «никогда не говорящим о вещах, но заставляющим вещи говорить с нами» (47).
3) Однако, чтобы «вещи заговорили» сокрытыми в них смыслами, необходимо максимально «приблизиться» к ним, их «коснуться», «прожить» и «пережить», т. е. проделать феноменологическую процедуру (zu den Sachen selbst) «вслушивания», «вня-тия», «усмотрения сущности». При этом внимание и взгляд должны сохранить волнующую непосредственность, быть свежими, «очищенными» от предшествующего опыта, «засоряющего» восприятие стереотипами. И здесь помогает феноменологическая редукция, т. е. «отключение сознания от всего почерпнутого им из природной и социальной действительности» (48): все, что мы знаем о мире, заключается в скобки, а связи с разного рода традициями, идеями, образами мыслятся как «результат «встречи», совершавшейся в процессе феноменологического созерцания» (49).
4) Наконец, чтобы, «пережив», понять «заговорившие» вещи, надо «войти» в их «язык», поскольку именно язык «указывает, показывает, озаряет. Он способ события, бытия, «дом бытия» (50). Эта тема подлинного языка, языка как «лона культуры», хранителя сущностей и самого бытия, объединившая Хайдеггера и Флоренского, была очень близка Бунину-художнику, с детства по-особому «прислушивающемуся» к словам.
Логично предположить, что такой тип художественного сознания порождает и специфический текст — текст как особую целостность, изначально сориентированную на «снятие» классических оппозиций разного рода: «я» и «не-я», личности и мира, жизни и смерти, эпического и лирического, логического и психологического, автора и героя, конкретно-предметного и символического и т. п. Подобный текст, думается, требует также и особого подхода, учитывающего его «онтологическую» интегратив-ность.
В чем же состоит этот подход? Есть ли в творчестве художника некое «поле напряжения», максимально репрезентирующее то, как структурно «обеспечивается» в его произведениях новое, «феноменологическое» знание о мире и человеке?
Отвечая на эти вопросы, мы органично выходим в область главной проблематики бунинских книг. Художнику «посчастливилось» практически сразу обрести свою тему в искусстве. Это тема Памяти и времени. Она придает всему его творчеству целостность и внутреннее единство. В этом смысле Бунин сопоставим с Достоевским, для которого при всем его полифонизме характерен «христоцентризм» (термин В. Зеньковского). Для Бунина, если можно так сказать, характерен «центризм памяти».
Такая последовательность художника, его верность названной теме напрямую соотносится-с феноменологической устремленностью. Время — может быть, более беспощадное, чем пространство, «измерение» объективного, главный «опосредующий», создающий дистанцию между «я» и «не-я» фактор. Поэтому понятно стремление Бунина преодолеть его власть, вырваться из его сковывающей, отделяющей человека от мира «непроницаемости».
В «Тени птицы» художник так передает достигнутое ощущение «освобождения от времени»: «Две-три тысячи лет — это уже простор, «освобождение от времени, от земного тления, начальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий»; «Всякий дальний путь — таинство: он приобщает душу бесконечности времени и пространства. А там — колыбель человечества. И я подойду к выходу из капища истории, — из руин, древнейших в мире, загляну в туманно-голубую бездну Мифа» (51)/
Выход» из истории, драгоценное приобщение к бесконечности достигается усилиями памяти. В этом для Бунина ее безусловное значение и ценность. Память для него не идентична воспоминанию, не сводится к функции сознания и психологическому понятию. Ф. Степун, раскрывая в одной из своих статей о Бунине сущность памяти, как понимал ее художник, приводит замечательные строки Вячеслава Иванова:
Ты, память. Муз родившая, свята — Бессмертия залог, венец сознанья, Нетленного в истлевшем красота.
Тебя зову — но не воспоминанья. И далее он замечает: «Сущность памяти . в спасении образов жизни от власти времени (.) В отличие от воспоминаний, всегда стремящихся «вернуть невозвратное», память никогда не спорит со временем, потому что она над ним властвует. Для нее, в ее последней глубине, не важно, умирает ли нечто во времени или нет, потому что в ней все восстает из мертвых. Возвышаясь над временем, она естественно возвышается и над всеми изменениями его, над прошлым, настоящим, будущим, почему в ней и легко совмещаются несовместимые во времени явления» (52).
Такая трактовка памяти заложена еще в концепциях античности — в учениях Платона, Плотина, Аристотеля, и особенно концептуально — у Августина, который считал: «.есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — это непосредственное созерцание; настоящее будущего — его ожидание» (53). Эти идеи затем развиваются философией XX века, рассматривающей память как философскую категорию, означающую духовную сущность («вечное настоящее»), которая имеет трансцендентную природу. Так, П. Рикер, основоположник современной феноменологическо-экзистенциалистской герменевтики, считает идею о «троичности» настоящего, развиваемую Августином в «Исповеди», гениальным открытием, в русле которого родилась феноменология Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти (54). Кроме того, концепция духовной памяти и механизмов ее развертывания еще раньше отчасти разрабатывалась А. Бергсоном, заметившим в одном из своих сочинений: «В самую подлинную материю вводит нас чистое восприятие, и в реальнейшие недра духа проникаем мы вместе с памятью» (55). В русской философии эта традиция блестяще развита и обогащена трудами П. Флоренского. Так, в «Столпе и утверждении Истины» он написал: «Память есть творческое воссоздание из представлений того, что открывается мистическим опытом в Вечности, или, иначе говоря, создание во Времени символов Вечности»; или: «Память всегда имеет значение трансцендентальное, и в ней мы не можем не видеть нашего надвременного естества» (56).
Сходные идеи, вплоть до перекличек на уровне текста, несет в себе проблематика ряда произведений Бунина. Это некоторые ранние рассказы, «Тень птицы», «Жизнь Арсеньева», «Освобождение Толстого». Забегая вперед, отметим, что в «Тени птицы» герой-повествователь — «здесь и сейчас» — совершает усилием памяти прорыв из фактического, исторического времени в «чистую длительность». В его сознании органично «живут» эпохи, цивилизации, культуры. При этом память героя, подчеркнуто лично-стна, он демонстрирует особую остроту переживаемого «припоминания»: «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! (.) Но исчезают века, тысячелетия, — и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни.» (3, 355).
Хронотоп произведения, имеющий принципиальное значение для Бунина, — очень близок тому, о чем писал П. Флоренский: «Прошедший момент Времени должен быть дан не только как прошедший, но и сейчас, как настоящий, т. е. все Время дано мне, как некое «сейчас», почему сам я смотрящий на все Время, зараз мне данное, — сам я стою над Временем» (57).
Многие исследователи Бунина так или иначе обращались к проблеме памяти и времени в его творчестве, справедливо считая ее центральной, сквозной для художественной концепции писателя (58). Однако ученых интересовал преимущественно содержательный аспект разработки этой проблемы писателем, причем, рассматривался он, в основном, с опорой больше на психологические, чем философские источники (59).
А между тем, если мы говорим о «преодолении времени» в его произведениях, об онтологизации памяти, об особо почувствованном и увиденном статусе жизни и человеческой субъективности, все это предполагает открытия не только в области проблематики, трансформируется структура текста, существенно обновляется его поэтика. По существу, такая авторская позиция означает следующее: во-первых, хронотоп как элемент поэтики, обычно определяемый жанром и «зависимый», обретает, в некотором смысле, «самостоятельность», выдвигаясь на первый план и становясь «главным героем» произведения; во-вторых, — «отмененное время» закономерно оборачивается «выходом» во «вневилизации, культуры. При этом память героя, подчеркнуто лично-стна, он демонстрирует особую остроту переживаемого «припоминания»: «Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! (.) Но исчезают века, тысячелетия, — и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни.» (3, 355).
Хронотоп произведения, имеющий принципиальное значение для Бунина, — очень близок тому, о чем писал П. Флоренский: «Прошедший момент Времени должен быть дан не только как прошедший, но и сейчас, как настоящий, т. е. все Время дано мне, как некое «сейчас», почему сам я смотрящий на все Время, зараз мне данное, — сам я стою над Временем» (57).
Многие исследователи Бунина так или иначе обращались к проблеме памяти и времени в его творчестве, справедливо считая ее центральной, сквозной для художественной концепции писателя (58). Однако ученых интересовал преимущественно содержательный аспект разработки этой проблемы писателем, причем, рассматривался он, в основном, с опорой больше на психологические, чем философские источники (59).
А между тем, если мы говорим о «преодолении времени» в его произведениях, об онтологизации памяти, об особо почувствованном и увиденном статусе жизни и человеческой субъективности, все это предполагает открытия не только в области проблематики, трансформируется структура текста, существенно обновляется его поэтика. По существу, такая авторская позиция означает следующее: во-первых, хронотоп как элемент поэтики, обычно определяемый жанром и «зависимый», обретает, в некотором смысле, «самостоятельность», выдвигаясь на первый план и становясь «главным героем» произведения; во-вторых, — «отмененное время» закономерно оборачивается «выходом» во «вневременное пространство», приводит к «опространствливанию» формы произведений в целом И это при анализе требует дополнительных методологических усилий, что практически не учитывалось исследователями Бунина. А между тем существует традиция в интерпретации авторов, «отменивших» время и мыслящих «пространством», таких, как Джойс, Пруст, Фолкнер и некоторых других. Эта традиция представлена прежде всего классиками — П. Флоренским, М. Бахтиным, американским филологом Д. Фрэнком,
П. Флоренский, конечно, специально не писал о Прусте и Джойсе, но в своей работе «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях», он, как будто бы исходя из традиционного лессинговского деления искусств на пространственные и временные, обращаясь, в основном, к первым, тем не менее нередко «смешивает» примеры из живописи и графики с примерами из литературы, задаваясь вполне резонным вопросом о «проницаемости» границ искусства слова: «.Не распадается ли поэзия на отделы, из которых одни могут быть сближаемы с музыкой, другие с архитектурой, третьи — с живописью, а иные, наконец, имеют сродство со скульптурою» (60).
М. Бахтин, автор классической концепции хронотопа, в 1920-е годы выделял в произведении «пространственную форму героя» и дал «ключи» к ее интерпретации, рассмотрев ее параметры и обозначив такие ее разновидности, как «кругозор» и «окружение»
61). Редуцированный бахтинский термин затем «перекочевал» в концепцию Д. Фрэнка, написавшего методологически значимую работу «Пространственная форма в современной литературе»
62). Корректируя лессинговскую классификацию, он утверждал, что литература XX века «вторгается» в сферу изобразительного искусства, осваивая, казалось бы, не свойственные ей эстетические формы. На примере наиболее «пространственных», с его точки зрения, авторов — Паунда, Элиота, Джойса и особенно Пруста — Фрэнк показывает, что в их произведениях «в результате . совмещения прошлого и настоящего история . становится «вневременной»: она более не воспринимается как объективное каузальное движение во времени . а переживается в качестве такой реальной длительности, в которой различия между прошлым и настоящим стерты . Прошлое и настоящее предстают в пространстве как замкнутое вневременное единство, в котором несмотря на внешние различия между ними, стерто всякое ощущение исторической последовательности самим актом совмещения» (63).
Надо сказать, что «пережив» в 1970-80-е годы «увлечение» хронотопом в целом, а также преимущественным рассмотрением художественного времени как показателем историзма мышления того или иного автора, отечественная гуманитарная наука сейчас все более актуализирует идеи «пространственного» подхода. Об этом свидетельствуют, в частности, авторитетные исследования современных философов, например, работа М. Мамардашвили «Лекции о Прусте: Психологическая топология пути» или книга В. Подороги «Метафизика ландшафта: коммуникативные стратегии в философской культуре Х1Х-ХХ веков», где принципиальность «пространственной» методологии оговорена, как мы видим, уже в названии (64). А в работе «Двойное время», интерпретирующей прустовскую эпопею, В. Подорога, в частности, констатирует: «.бесполезно искать в романах Пруста непрерывность потока сознания, время как таковое; не обретенное время, а «обретенное пространство» является единственным временем, которым овладевает автобиографический анализ.» (65).
Пространство» и «пространственность» стали также «ключом» к интерпретации собственно литературных феноменов в некоторых исследованиях В. Топорова, который выделяет такие миры, где «индивидуальный образ пространства в наибольшей степени определяет основу авторского взгляда на мир («специализированные» модели мира)», выступает в тексте форсированно, «его приметы становятся частыми, даже навязчиво повторяемыми, воспроизводятся ключевые признаки этого образа пространства .сама «пространственность» становится особенно «экспансивной», откладывая свой отпечаток и в тех сферах, которые не являются пространственными по преимуществу или даже вообще» (66). Типологически сходные суждения высказывает С. Хоружий в работе о Джойсе: «На месте исчезнувшего времени . оказывается новое, дополнительное пространственное измерение. Как скажет физик, Джойс изменил топологию вселенной, заменив ось времени еще одной пространственной осью» (67).
В контексте подобных и наших размышлений представляются ценными исследования Ю. В. Шатина, который оригинально трактует проблему художественного пространства в поэзии русского авангарда (68). Он полагает, что в поэзии в целом доминирует " пространство и применительно к ней логичнее было бы использовать термин «топохрон», нежели традиционный «хронотоп» (69). Строится поэтическое пространство по законам геометрической противоречивости-непротиворечивости, описанным в работах П. Флоренского и Б. Раушенбаха. Однако в XX веке этот основной принцип смещается, нарушается, пространство виртуализиру-ется, становится значимым, начинает жить особенной жизнью. Ученый называет такой процесс «феноменологизацией» пространства, трактуя термин в гуссерлевском смысле (70).
Это авторитетное исследование, другие названные работы, а также наблюдения над конкретными художественными текстами помогают нам утвердиться в мысли, что «опространствливание» формы — факт и фактор не только европейской, но и русской литературы первой половины XX века, особенно активно проявившие себя в России именно в поэзии. И то, что проза Бунина создается в логике скорее поэтического мышления, также вполне закономерно и объяснимо.
Бунин-художник представляет достаточно редкий «случай подлинного, абсолютного билингвизма», о котором писал в своих «Заметках о прозе Пастернака» Р. Якобсон и который отмечал, что при этом «от нас не ускользает странная звучность выговора и внутренняя конфигурация этого языка» (71).
Приведем еще два суждения из названной работы, проясняющие для нас феномен «опространствливания» бунинской прозы, почти аналогичный процессам, захватившим русскую поэзию XX века: «Передовые позиции русской литературы нашего века захвачены поэзией, несомненно, поэзия и воспринимается как самая каноническая, неотмеченная манифестация литературы, как ее чистое воплощение»; «проза одного автора или целого направления, ориентированного на поэтическое творчество, в высокой степени специфична — тем, как она подвергается воздействию доминирующего элемента, т. е. элемента поэтического, и тем, как в напряженном и волевом усилии она высвобождается от него» (72). Кстати, Ю. Б. Орлицкий убедительно показывает в своих работах, насколько актуальной и показательной является проблема соотношения и взаимодействия в творчестве Бунина-писателя стиха и прозы, понимаемых им как «два единственно возможных и неизбежно противостоящих в литературе нового времени типа структурной организации художественной речи» (73).
Другими словами, поэтическое, точнее, стиховое мышление воздействовало на прозу Бунина не только вторжением версейных строф, стихотворных цитат, метризации, строфической композиции и т. п. Поэзия помогала художнику еще и «мыслить пространством».
Любопытно, что в исследованиях творчества Бунина, специально не рассматривающих проблему художественного пространства, этот вопрос поэтики так или иначе выходит на первый план, как будто «провоцируемый» самой природой бунинского текста. Так, Р. С. Спивак, подводя итоги своему исследованию замечает в автореферате, что «собственно реалистический механизм бунинского философско-поэтического обобщения средствами ансамбля миметических средств изображения рассматривается в диссертации на материале художественного пространства: анализируются ; способы универсализации и концептуализации художественного / пространства посредством цвета, фиксированности масштаба, разнообразия, протяженности, вместительности пространства, соотношения крупного и общего планов, прямой перспективы, точ-^ ки нахождения наблюдателя, взаимоотношений пространства с человеком» (74). М. С. Штерн, анализируя «Темные аллеи», также обстоятельно останавливается на пространственной организации книги, показывает, что именно символика пространства становит-/ ся одной из репрезентативных форм выражения авторского сознания (75).
Подводя итоги вышесказанному, я думаю, мы вправе говорить о приоритетности языка пространства в мире Бунина. Простран-ственность оказывается способом, формой, результатом феноменологического художественного мышления писателя, онтологической характеристикой его текстов.
Возникает вопрос, что в таком случае понимать под пространством, как избежать излишней смысловой расплывчатости и метафоризации понятия?
Исходя из природы анализируемого нами текста, следует иметь в виду, что перед нами — пространство, трактуемое — в философском и методологическом смыслах — не как «форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах» (76). Пространство — «то, что является общим всем переживаниям, возникающим благодаря органам чувств» (77).
Ясно, что такая характеристика — применительно к художественному миру — требует некоторой корректировки и уточнения. Вместе с тем, она предполагает столь важную для понимания бунинского текста принципиальную неразрывность «я» и «не-я», поскольку «общее» сориентировано в сферу объективного, а «переживание», непосредственно связанное с этим «общим» и трактуемое как «процесс присвоения, совершающийся при встрече с миром», когда «человек весь, целиком участвует в психическом как телесно-душевно-ду.ховная целостность» (78), характеризует субъекта.
Если обратиться к пространству бунинского текста, максимально репрезентирующему■ художественные открытия писателя, то оно, думается, исходя из его феноменологической установки, выстраивается сходным образом. Основную стратегию этого выстраивания можно соотнести с идеями Хайдеггера о том, что, во-~7 I первых, «нет пространства как такового, есть лишь экзистенци- ; ально переживаемое человеком пространство», пространство, от- \ крываемое человеком, «пространство, находящееся внутри жиз- ' ненного процесса» (79); во-вторых, поскольку речь идет «не о субъектно-объектных отношениях, присущих традиционной теории познания. но о наличном бытии — об экзистенции, как о чем-то живом, которому пространство присуще изначально, имманентно», то сам «такой субъект является пространственным» (80); и, наконец, в-третьих, «топология пространства носит, скорее, характер, обратный общепринятому и общеизвестному взгляду, т. е. метрической системе измерения: самое близкое может быть самым далеким, а самое далекое — самым близким» (81).
Если экстраполировать подобное понимание названной категории в сферу литературного творчества писателя, то пространство можно определить следующим образом. Это структурная составляющая бунинского художественного мира, которая становится для этого мира, во-первых, репрезентативной, определяющей и, во-вторых, может выступать в качестве ценностно значимого для героя или автора результата их опыта общения с : реальностью (имеется в виду обретение ими вневременного про- ^ странства культуры, жизни, священного и т. п.).
Кроме того, применительно к бунинскому тексту пространство является интегрирующей категорией, которую можно использовать как методологический «ключ», «инструмент» для его прочтения. Она позволяет органично соединять жанровый подход к произведению, анализ элементов его сюжетно-композиционного строя, предполагающий рассмотрение системы мотивов и лейтмотивов, а также анализ стиля, выводящий уже к конкретным образным формам, к собственно словесному воплощению художественного мышления Бунина.
Отсюда проистекает методика рассмотрения конкретных бу-нинских произведений. Она предполагает прежде всего выявление системы пространственных доминант, «своих» для каждого текста или их объединяющих, системы, которая задастся и строится определенными темами, реализуется посредством мотивов, развертывающихся нередко в целые сюжеты, посредством повторяющихся образов, деталей, особых примет и оформляется с помощью «пространственного словаря». Традиционный подход, связанный с разграничением планов, ракурсов, фактического местоположения субъекта, с выявлением характера перспективы и т. п., т. е. с общепринятой топологией, на мой взгляд, при рассмотрении особо показательных, новаторских произведений художника вряд ли будет «работать», т. к. пространство в них «это как бы мир человека, где нет разрывов, пустых мест, чего-то чуждого и внешнего, наоборот, здесь все связано, все едино, все гомогенно, все внутренне, все целостно» (82). При этом отсутствие «чуждого и внешнего» не исключает переживаний «чужого», а то, что «все внутренне» — не означает погруженности только в субъективное, а лишь указывает на обязательную проявленность «внешнего» в жизненном мире героя.
Необходимо также несколько уточнить термин «переживание» применительно к бунинской гносеологии. При том, что все в мире художника окрашено и насыщено переживанием непосредственного контакта, «встречи» с реальностью разного рода, мы не можем говорить о психологизме в традиционном смысле, поскольку мы не найдем у Бунина ни развертывания душевного состояния, ни столь характерной для русской литературы XIX века рефлексии внутренних монологов. У него, в отличие, например, от Толстого, «опущен сам механизм душевной жизни» (83) и дается «то, что на входе и то, что на выходе» (84). В этом опять же сказывается пространственная стратегия построения художественного текста, поскольку рефлексия, естественно, развертывается во времени, предполагает, в определенной мере, последовательное развитие какого-либо чувства или отношения. Бунинский же текст «не знает» «историй» превращения, «перехода», трансформации «наличности» проживания непосредственного контакта с чем-то, «случайного», единичного и единственного фрагмента жизни в обобщение и результат. Все это («то, что на входе и то, что на выходе») присутствует в тексте одновременно, здесь и сейчас, «одно в другом», «неслиянно и нераздельно».
Художник изначально предполагает в контексте одной встречи с миром два уровня, два типа единения с ним. Это, во-первых, интенсивное переживание, т. е. «самое непосредственное, самое прямое общение с реальностью и реально-сущим через участие в них» (85), и, во-вторых, воплощенность, «оформленность» этого переживания, которое именно своей эстетической завершенностью свидетельствуют о некой обобщенности, о том «символическом знании» реально-сущего и о той его, этого реально-сущего, «символической модели», что связывают уже несколько по-иному как героя, так и автора с миром. Отсюда столь поразительна в бу-нинском тексте «глубина на поверхности вещей».
Под символическим мы понимаем символическое, символ в общекультурном значении как «отличительный знак, образ, воплощающий какую-либо идею» (86), или лучше воспользуемся определением П. Флоренского: «Символ — это нечто, являющее собой то, что не есть он сам, больше его и однако существенно чрез него объявляющееся. символ есть такая сущность, энергия которой сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной в данном отношении сущности, несет таким образом в себе эту последнюю» (87).
Если же — для большего уточнения — принять во внимание предложенную Ю. В. Шатиным типологию символов, чрезвычайно продуктивную для понимания природы и смысла их функционирования в том или ином произведении (т. е. выделение им «феноменального» и «ноуменального» символа), то окажется, что бу-нинская проза «работает» преимущественно символом феноменальным, поскольку сориентирована не на принцип «семиотического тоталитаризма», а на максимальную воплощенность идеи в тексте (88).
Что касается содержания самих «встреч» с реальностью в бу-нинском тексте, то здесь для нас представляется очень полезным в методологическом смысле предпринятое Н. О. Лосским разграничение переживаний. Это, выделение, во-первых, «переживаний транссубъективности», т. е. сориентированных на мир «не-я» и имеющих характер «данности» мне, а, во-вторых, «переживаний субъективности» — «чувствований принадлежности мне» (89). Бунин-художник, в силу своей исходной устремленности, разрушающей привычную субъектно-объектную модель отношений, обращен, скорее, в сферу переживании не собственно «моего», а «данного мне». Поэтому столь характерным качеством его художественного мышления стал универсализм, пластичность, способность артистического «усвоения» и представления в тексте «чужих» традиций и смыслов.
Итак, мы попытались во введении дать обстоятельное теоретическое обоснование выбранной нами теме и аспекту анализа бунинского творчества, определить методологические и методические подходы к исследованию.
Выбор произведений для анализа, хотя и намеренно ограничен, обладает, на наш взгляд, достаточной репрезентативностью. Во-первых, эти тексты, охватывающие, по существу, всю литературную биографию художника и ставшие «вершинными», заключают в себе ценностно-смысловую парадигму его творчества в целом. В них представлена основная концептуальная «база» бу-нинских произведений, сконцентрирована главная проблематика: философия национального и размышления о судьбах мировой культуры, проблемы трагической сопряженности любви и смерти, неразрывности жизни и творчества, преодоления конечности человеческого существования. Во-вторых, все рассмотренные произведения обращены к прошлому, объединены центральной для писателя темой Памяти, все они так или'иначе задействуют «технику» воспоминаний. Поэтому именно эти тексты представляли для нас наибольший интерес как позволяющие максимально предметно обозначить ту направленность и те особенности художественного мышления Бунина, которые подтвердили или опровергли бы основную гипотезу предпринятого исследования.
Актуальность исследования определяется необходимостью поиска и обоснования новых подходов к изучению такого сложного литературного явления, как творчество И. А. Бунина, позволяющих осмыслить его в единстве философской всеохватности и эстетической завершенности, приблизиться к пониманию того, как философская идея претворяется в «живую жизнь» оригинального текста. Актуальность диктуется также потребностью выработки новых методологии и методики анализа и интерпретации художественных произведений, отражающих интегративную природу искусства XX века.
Целью работы является осмысление специфического типа художественного сознания Бунина в его структурно-стилевой во-площенности. Эта цель конкретизируется в следующих задачах: опираясь на философские и литературоведческие источники, на текстовой материал, концептуально определить и описать бунин-ский тип художественного сознания, его исходную смысловую стратегию, что позволило бы понять феномен уникальности этого сознания в русской литературе и одновременной его сопряженности с важнейшими идеями и «веяниями» культурной эпохи; выделить наиболее показательный способ «перевода» содержания сознания в целостность оригинального художественного текста, обосновав тем самым предмет, методологию и методику исследования; на основе предложенного подхода осуществить системно-целостный анализ произведений писателя.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит, во-первых, в содержательном описании и уточнении понятия «феноменологический тип художественного сознания» применительно к литературному явлению; во-вторых, в обосновании и использовании нового методологического подхода к исследованию пррзы И. А. Бунина через категорию пространства, которое понимается феноменологически и трактуется — вследствие его интегративной роли в бунинском тексте — как наиболее адекватный художественному сознанию писателя структурообразующий компонент его произведений.
Достоверность исследования обеспечивается изучением значительного круга прозаических произведений И. А. Бунина всего периода его творчества в их динамической целостности и соотношении с мировидением художника и широким культурно-философским контекстйм эпохи; использование архивных материалов рукописного отделаРГБ , фондов областного государственного литературного музей И. С. Тургенева в г. Орле.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Феноменология И. А. Бунина"
Заключение
1. Фрэнк Д. Пространственная форма в современной литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ веков. С. 212.
2. Соловьев В. Смысл любви. С. 169.
Бунинские произведения цитируются по изданию: Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1967 с указанием тома, страницы в тексте. Выделение цитатного материала осуществлено Н. В. Пращерук (за исключением особо оговоренных в диссертации случаев).
Список научной литературыПращерук, Наталья Викторовна, диссертация по теме "Русская литература"
1. Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. А. С. Мяс-никова. М.: Худож. лит., 1965-1967.
2. Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А. К. Бабореко / Редкол.: Ю. В. Бондарев и др. М.: Худож. лит., 1987-1988.
3. Бунин И. А. Собр. соч.: В 11 т. Берлин: «Петрополис», 1934-1936.
4. Бунин И. А. Собр. соч.: В 5 т. / Вступит, статья Л. Никулина / Подгот. текста и примеч. П. Л. Вячеславова. М.: Правда, 1956.
5. Бунин И. А. Полн. собр. соч.: В 6 т. Спб.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркса, 1915.
6. Бунин Ив. Суходол. Повести и рассказы 1911-1912 гг. М.: Книгоизд-во писат.1912. 318 с.
7. Бунин И. А. Собр. соч.: В 8 т. М.: Московский рабочий , 1993-1994
8. Бунин И. А. — Рощин Н. Я. История одной переписки / Вступ. заметка и публикация Л. Голубевой / Вопр. Литературы.1998. № 2. 303-332 с.
9. Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М.: Республика, 1992. 336 с.
10. Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 3 т. М.: Худ. литература, 1986.
11. Андреев Л. Повести и рассказы: В 2 т. М.: Худож. лит., 1971.
12. Андреев Л. Н. Полн. собр. соч.: В 8 т. Спб.: Изд-во т-ва А. Ф. Маркса, 1913. Т.5. 256 с.
13. Анненский И. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., Ленинград. отд-ние. 672 с.
14. Анненский И. Книга отражений. М.: Наука.1979. 679 с.
15. Бальмонт К. Стихотворения. Переводы. Статьи. М.: «Правда» 1991. 606 с.
16. Белый А. Золото в лазури. М.: Скорпион. 1904. 260 с.
17. Белый А. Петербург. Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. Л.: Наука, 1981. 696 с.
18. Вольный Ив. Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях // Заветы. 1912. № 6, 8, 9. № 6. с.71-102; № 8. с.125-150; № 9. с.46-81.
19. Вересаев В. В. Собр. соч.: В 5 т. М.: Правда, 1961. Т.З. 495 с.
20. Газданов. Г. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие, 1996.
21. Гауптман Г. Драматические сочинения. М.: Б. И., 1900.
22. Гончаров И. В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Изд-во «Правда»., 1981.
23. Горький М. Переписка: В 2 т. М.: Худож. лит., 1986.
24. Горький М. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре // Литерат. обозрение. 1988. №9, 10, 12. №9. С.99-1 12; № 10. С.99-110; № 12. С.85-101.
25. Гиппиус 3. Н. Стихотворения; Живые лица / Вступ. статья, подгот. текста, коммент. Н. Богомолова. М.: Худож. лит„ , 1991. 471 с.
26. Джойс Д. Улисс: роман. / Пер. с англ. В. Хинкиса и С. Хоружего Т.З. М.: Знак, 1994. 608 с.
27. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука., Ленингр. отд-ние, 1972-1988.
28. Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 3 т. М.: «Терра», 1993.
29. Зайцев Б. К. Далекое. М.: Сов. писатель, 1991. 512 с.
30. Замятин Е. Избранное / Вступит, статья О. Н. Михайлова. М.: Изд-во «Правда», 1989. 464 с .
31. Замятин Е. Уездное // Заветы. 1913. № 5. С.46-99.
32. Касаткин Ив. Лесная быль. Рассказы. М.: Книго-изд-во писателей в М., 1916. 218 с.
33. Катаев В. П. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 19811986. Т.6. 535 с.
34. Крестьянские судьбы. Рассказы русских писателей 6070-х годов XIX века. М.: Современник, 1986. 512 с.
35. Кузнецова Г. Грасский дневник. Рассказы. Аливковый сад. М.: Московский рабочий, 1995. 410 с.
36. Куприн А. И. Собр. соч.: В 9 т. -М.: Худож. лит., 19701973. Т.5, 6.
37. Ле-витов А. И. Избранные произведения. М.: Худож. лит., 1988. 480 с.
38. Леонтьев К. Н. Египетский голубь: Роман, повести, воспоминания / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. В. Котельникова. М.: Современник, 1991. 528 с.
39. Максимов С. В. Избранные произведения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1987.
40. Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: «Терра»,1991.
41. Мужель В. В. Собр. соч.: В 11 т. Изд-е 2-е. Спб.: Просвещение, 1911-1912. Т.9, 10, 11.
42. Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Изд-во «Правда»,1990.
43. Набоков В. В. Другие берега /Сборник/ Л., Политехника,1991.
44. Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Экспресс., 1992.
45. Одоевцева И. В. На берегах Невы. М.: Худож. лит.1998. 333 с.
46. Осоргин М. А. Времена: Автобиографические повествования. Романтик. М.: Современник, 1988. 621 с.
47. Пастернак Б. Л. Избранное. В 2-х т. / Вступ. статья Д. С. Лихачева; сост., подгот. текста и коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака. М.: Худож. лит., 1995.
48. Пастернак Б. Л. Собр. соч.: в 5 т. М.: Худож. лит., 1989.
49. Пастернак Б. Л. Избранные произведения. М.: Панорама, 1991. 652 с.
50. Подъячев С. П. Избранные произведения / Вступит, статья А. Короткова. М.: Худож. лит., 1966. 583 с.
51. Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. /Вступит, статья В. Д. Пришвиной. М.: Худож. лит., 1982-1986. Т.1. 830 с.
52. Пришвин М. Никон Староколенный // Лит.-худож. альманахи изд-ва «Шиповник». Спб., 1912. Кн.18. С.203-231.
53. Пруст М. В поисках утраченного времени // СПБ.: Сов. писатель., 1992., 477с.
54. Ремизов А. М. Избранное. М.: Худож. лит., 1978. -510с.
55. Ремизов А. Пятая язва // Лит.-худож. альманахи изд-ва «Шиповник». Спб., 1912. Кн.18. С.109-201.
56. Рильке Р. М. Ворсповеде. Огюст Роден. Письма. М.: Искусство, 1971. 455 с.
57. Рильке Р. М. Новые стихотворения. 4.2. М.: Наука, 1977. 543 с.
58. Розанов В. Опавшие листья. Спб.: Б. И., 1913. Т.1. 526 с.
59. Родионов И. А. Наше преступление (Не бред, а пыль). Из современной народной жизни. Спб.: Б. и.,, 1910. 434 с.
60. Серафимович А. С. Собр. соч.: В 4 т. М.: Изд-во «Правда».1987. Т.1. 416с.
61. Сергеев-Ценский С. Н. Собр. соч.: В 12 т. М.: Изд-во «Правда». 1967. Т.1, 2.
62. Скиталец С. Г. Повести и рассказы. Воспоминания / Сост., подгот. Текста и предислов. А. Трегубова. М.: Моск. рабочий, 1960. 512 с.
63. Сологуб Ф. Мелкий бес. Кемерово: Кн. изд-во, 1958. 274 с.
64. Сургучев И. Д. Губернатор: Повесть, рассказы / Вступит. Статья А. М. Кузницова. М.: Современник, 1987. 477 с.
65. Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 19821986. Т.1,2.
66. Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. лит., 19601965.
67. Только час : Проза русских писательниц конца XIX — начала XX века / Сост., автор вступит, статьи и примеч. В. Уче-нова. М.: Современник. 1988. 592 с.
68. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1961-1968.
69. Успенский Г. И. Собр. соч.: В 9 т. /Под общ. ред. В. П. Друзина. М.: Гослитиздат, 1955-1957. Т.4, 5.
70. Успенский Г. И. Новости, рассказы, и очерки / Подготовка текста и примеч. М. Блинчевской. Вступ. Статья Е. Поку-саева. М.: Гослитиздат, 1957. 655 с.
71. Чапыгин А. Белый скит // Русская мысль. 1913. №4-6. № 4. С.122-158; № 5. С.146-187; № 6. С.149-201.
72. Чапыгин А. Собр. соч.: В 5 т. Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1967-1969.
73. Чехов А. П. Полн. Собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1974-1983.
74. Шаховская 3. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. 319 с.
75. Шмелев И. С. Повести и рассказы / Вступ. Статья и ком-ментар. О. Н Михайлова. М.: Худож. лит., 1983. 445 с.
76. Шишков В. Я. Собр. соч.: В 10 т. М.: Правда, 1974. Т.1.372 с.
77. Зритель А. И. Волхонская барышня; Смена; Карьера Струкова. М.: Гослитиздат, 1959. 824 с.
78. Эр-тель А. И. Письма / Под ред. М. О. Гершензона. М.: Б. и., 1909. 409 с.
79. Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Спб.: Пушкинский фонд, 1993. 276 с.* а
80. Бунин И. А. Собр. соч.: В 11 т. Берлин: Петрополис, 1934. Т.1. (С авторской правкой) // РО РГБ. Ф.429. Оп.1. Д.11.
81. Бунин И. А. Из повести «Суходол» (автограф и машинопись с правкой Бунина) // РО РГБ. Ф.429. Оп.1. Д.9.
82. Письмо Бунина И. А. к Махалову (Разумовскому) С. Д., 14 июля 1912 г. // РО „ргв. Ф.9. Оп.2. Д.133.
83. Письмо Бунина И. А. к Благову Ф. И. // РО РГБ. Ф.259. Д.11. Л.88.
84. Письма Бунина И. А. к Адамовичу Г. // РО РГБ. Ф.429. Оп.4. Д.2.
85. Письма Бунина И. А. к Гиппиус 3. // РО РГБ. Ф.429. Оп.4. Д.17.
86. Письма Бунина И. А. к Мережковскому Д. // РО РГБ. Ф.429. Оп.4. Д.21-23.
87. Письма Бунина И. А. к Тальникову Д. Л. // РО РГБ. Ф.487. Д.35. Л.11.
88. Письма Бунина И. А. к Клестову-Ангарскому Н. С. // РО ' РГБ . Ф.9. Оп.1. Д.26.
89. Тальников Д. Л. Иван Бунин. Воспоминания // РО РГБ. Ф.487. Д.34. Л.8.
90. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 21 декабря 1911 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2810.
91. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 28/14 февраля1912 г. // РО ОЛГМТ. ФЛ4. № 2834.
92. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 29/16 декабря 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2816.
93. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 13/1 февраля 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2833.
94. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 7 февраля/25 января 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2825.
95. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 4 января 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2824.
96. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 25/9 марта 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2849.
97. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 4 марта 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2827.
98. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 30 ноября 1912 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2836.
99. Письмо Бунина И. А. к Бунину Ю. А., 6/18 января 1913 г. // РО ОЛГМТ. Ф.14. № 2843.
100. КРИТИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
101. Абрамович Н. И. А. Бунин как художник // Новая жизнь. 1915.№ 12. С.161-168.
102. Адамович Г. В. Бунин // Знамя. 1989. № 4. С.178-191.
103. Айхельнвальд Ю. Иван Бунин // Силуэты русских писателей. М.: Научное слово, 1910. С.1 13-125.
104. Айхельнвальд Ю. Литературные наброски // Речь. 1912. 6 ноября.
105. Альберт И. Д. Проблемы памяти в системе этико-философских и эстетических взглядов И. Бунина // Вопросы русской литературы. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1993. Вып.1(41). С.113-120.
106. Альберт И. Д. Некоторые вопросы психологии творчества в романе И. Бунина «Жизнь Арсеньева» // Вопросы русской литературы. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1995. Вып.1 (45). С.58-65.
107. Амфитеатров А. Литературные впечатления // Современник. 1911. № 2. С.261-292.
108. Андрианов С. Критические наброски // Вестник Европы. 1912.№ 11. С.343-349.
109. Антонов В. И. А. Бунин во Франции в годы войны // Иностранная литература. 1956. № 9. С.250-255.
110. Атанов Г. М. Проза Бунина и фольклор // Русская литература. 1981. № 3. С. 14-31."
111. Афанасьев В. Н. И. А. Бунин: Очерк творчества. М.: Просвещение, 1966. 384 с.
112. Афонин Л. Н. Рассказы литературовода. Тула: Приок-ское кн. изд-во, 1979. 247 с.
113. Бабореко А. К. И. А. Бунин. Материалы для биографии (С 1870 по 1917). Изд.2-е. М.: Худож. лит., 1983. 351 с.
114. Бабореко А. К. Новое о Бунине // Проблемы реализма. Вологда: Изд-во Вологодск. пед. ин-та, 1980. Вып.7. С.153-172.
115. Бабореко А. Бунин в годы войны // Даугава. 1980. № 10. С.119-122.
116. Бабореко А. О себе, о других: Из наследия И. А. Бунина // Литературная газета. 1984. 1 августа. С.5.
117. Бабореко А. Поэзия и правда Бунина: Дневники, воспоминания и письма современников // Подъем. 1980. № 1. С.132-140.
118. Бабореко А. «Жить здесь приятно.»: Белоруссия в творчестве Бунина // Неман. 1980. № 6. С.152-155.
119. Бабореко А. К. Бунин о Толстом // Проблемы реализма. Вологда: Изд-во Вологодск. пед. ин-та, 1979. Вып.6. С.165-178.
120. Барковская А. К. К вопросу о творческих связях Бунина с Чеховым // Филологический сборник. Вопросы литературоведения. Минск, 1966. С.46-62.
121. Барковская Н. В. Характер и функции пейзажа в прозе И. А. Бунина // XX век. Литература. Стиль. Ек-г:Изд-во Урал, унта, 1999. С.179-184.
122. Бахрах А. Бунин в халате. По памяти, по записям. ВаууШе. 1979.
123. Благасова Г. И. А. Бунин в оценке русской критики 1910-х годов // Подъем. 1981. № 11. С. 133-139.
124. Бунин И. А.: СбГ статей. Воронеж: Известия Воронежского пед. ин-та, 1971. 188 с.
125. Бунинский сборник (Материалы научной конференции, посвященной столетию со дня рождения И. А. Бунина). Орел: Изд-во Орловск. пед. ин-та, 1974. 368 с.
126. Бунин И. А и русская культура XIX-XX веков: Тез. меж-дунар. науч. конф,, посвященной 125-летию со дня рождения писателя (11-14 октября 1995 г.). Воронеж: «Квадрат», 1995. 108 с.
127. Бунин Иван и литературный процесс XX века (до 1917 года). Межвузовск, сб. научн. трудов. -JL: Изд-во Ленингр. пед. ин-та, 1985. 132 с.
128. Бурнакин А. Сомнения и надежды («Ночной разговор») // Новое время. 1912. 9 марта.
129. Вайман С. Трагедия «Легкого дыхания» // Литерат. учеба. 1980. № 5. С.137-146.
130. Вантенков И. П. Бунин и Достоевский // Вестн. Беларус. у н-та. Минск. 1984. № 2. С.12-14.
131. Вантенков И. П. Бунин-повествователь (Рассказы 18901916 гг). Минск: Изд-во Белорус, ун-та, 1974. 159 с.
132. Васильева А. Н. Выготский против Выгодского: (К трактовке рассказа «Легкое дыхание») // Специфика и эволюция функциональных стилей. Пермь, 1979. С.99-111.
133. Васильева А. Н. Некоторые особенности сюжета и композиции в творчестве И. А. Бунина // Тирасп. гос. пед. ин-т. Тирасполь, 1984. 28 с. Деп. в ИНИОН АН СССР. 8 июня 1984 г., № 17042.
134. Войтоловский Л. Новая повесть И. А. Бунина «Деревня» // Киевская мысль. 1910. 27 ноября.
135. Волков А. А. Проза Ивана Бунина. М.: Московский рабочий, 1969. 448 с.
136. Волынская Н. И*. Реализм повести Бунина «Деревня» //Метод и мастерство: Русская литература. Вологда, 1970. С.309-323.
137. Газер И. С. И. Бунин и Глеб Успенский // Вопросы русской литературы. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1966. Вып.1. С.33-39.
138. Газер И. С. Современники о И. А. Бунине (публикация) // Вопросы русской литературы. Львов: Изд-во Львовск. ун-та, 1969. Вып.1(10). С.15-24.
139. Гейдеко В. А. Чехов и Ив. Бунин. М.: Сов. писатель, 1976. 374 с.
140. Крайний А. (Гиппиус 3. Н.). Литературный дневник // Русская мысль. 1911. № 6. С.15-16
141. Голубева Л. И. А. Бунин и Л. Ф. Зуров. История отношений // Вопросы литературы. 1998. № 4. С.372-376.
142. Горелов А. Ф. Три судьбы: Ф. Тючев, А. Сухово-Кобылин, И. Бунин. Л.: Сов. писатель, 1980. 623 с.
143. Горнфельд А. Заметки о современной литературе // Вестник Европы. 1910. № 2. С.406-407.
144. Горьковские чтения 1958-1959. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 452 с.
145. Гуревич Л. Я. Заметки о современной литературе. Старые приемы и новые лозунги // Русская мысль. 1910. № 1. С.62-80.
146. Гуревич Л. Я. Заметки о современной литературе. Без мерил // Русская мысль. 1910. № 5. С.157-172.
147. Гуревич Л. Я. Литература и эстетика: Критические опыты и этюды. М.: Изд-во журн. «Русская мысль». 1912. 318 с.
148. Дерман А. И. А. Бунин // Русская мысль. 1914. № 6. С.52-75.
149. Дерман А. Победа художника (Рассказ «Господин из Сан-Франциско») // Русская мысль. 1916. № 5. С.23-27.
150. Долгополов Л. Личность писателя, герой литературы и литературный процесс: (О русской литературе рубежа XIX и XX веков) // Вопросы литературы. 1974. № 2. С.105-140.
151. Долгополов Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX — начала XX века. Л.: Сов. писатель, 1985. 352 с.
152. Дроздецкая И. В. К типологии форм повествования в прозе И. А. Бунина // Проблемы типологии литературного процесса. Пермь, 1980. С.115-125.
153. Дроздецкая И. В. Художественный замысел и «точка зрения» повествователя в сюжете «Деревни» // Проблема сюжета и жанра художественного произведения. Алма-Ата, 1977. Вып.7. С.33-38.
154. Забелин Н. В. Идейно-художественная проблематика и стиль повести И. Бунина «Деревня». Иркутск, 1965. 56 с.
155. Иванов-Разумник Р. Два юбилея // Заветы. 1912. № 7. С.157-158.
156. Игнатов И. Литературные отголоски («Иоанн Рыдалец») // Русские ведомости. 1913. 6 ноября.
157. Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. М.: Скифы, 1991. 223 с.
158. Ильин И. Родина. Русская философия, православная культура. М.: Б. и., 1992. 159 с.
159. История русской литературы: В 3 т. Т.З: Литература второй половины XIX — начала XX вв. / Под ред. Д. Д. Благого. М.: Наука, 1964. 902 с.
160. История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, Ленингр.отд-ние, 1980-1983.
161. Иссова JI. Н. Жанр стихотворения в прозе у И. С. Тургенева и И. А. Бунина // Литературное краеведение. Известия Воронежского гос. пед. ин-та. Воронеж, 1968. Т.72. С.71-78.
162. Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и релиогиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самарской гуманитарной академии, 1998. 1 14 с.
163. Келдыш В. А. Русский реализм начала хх века. М.: Наука, 1975. 280 с.
164. Кожемякина Л. И. Жанрово-видовое своеобразие рассказов И. А. Бунина 1910-х гг. // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1985. Вып.7. С.87-89.
165. Кожемякина Л. И. Пространственно-временная организация рассказов И. А. Бунина «Эпитафия» и «Новая заря» // Ритм, пространство, время в художественном произведении. Алма-Ата, 1984. С.89-96.
166. Козловский Л. Певец «Суходола» //' Русские ведомости. 1912. 27 октября.
167. Колобаева Л. А. Концепция личности в литературе конца XIX — начала XX века. М.: МГУ, 1990. 330 с.
168. Колобаева Л. От временного к вечному (Феноменологический роман в русской литературе XX века) // Вопросы литературы, 1998. № 3. С.132-144.
169. Колтоновская Е. Бунин как художник-повествователь // Вестник Европы. 1914. -№ 5. С.327-341.
170. Колтоновская Е. И. Бунин. Деревня // Вестник Европы. 1911. № 2. С.395-396.
171. Колтоновская Е. Бунин и старая Россия // Речь. 1915. 30 марта. С.З.
172. Колтоновская Е. А. Критические этюды. Спб.: Просвещение, 1912. 292 с.
173. Кранихфельд В. И. Бунин. Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912-1913 гг. // Современный мир. 1913. № 8. С.167-168.
174. Кранихфельд В. Литературные отклики. И. А. Бунин. // Современный мир. 1912. № 11. С.341-355.
175. Кранихфельд В. Поэт красочных пятен (С. Сергеев-Ценский) // Современный мир. 1910. № 7. С.103-128.
176. Крыжицкий С. Жизнь и творчество И. А. Бунина в эмиграции // Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972. С. 107121.
177. К-ский. О новой повести Бунина // Одесский листок. 1910. 12 марта.
178. Крутикова Л. О собрании сочинений И. А. Бунина // Русская литература. 1959. № 2. С.220-221.
179. Крутикова Л. Проза И. А. Бунина начала хх века (19001902) //Ученые записки ЛГУ. № 355. Серия филол. наук. 1971. Вып.76. С.96-118.
180. Крутикова Л. В. Реалистическая проза 1910-годов (Рассказ и повесть) // Судьбы русского реализма начала XX века / Под ред. К. Д. Муратовой. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. С.164-227.
181. Крутикова Л. В. В мире художественных исканий Бунина (как создавались рассказы 1911-1916 гг.) // Литературное наследство. М.,1973. Т.84. Кн.2. С.90-116.
182. Крутикова Л. В. «Чаша жизни» И. Бунина и споры о смысле человеческого бытия в начале хх века // От Грибоедова до Горького: Из истории русской литературы. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979. С.106-124.
183. Крутикова Л. В. «Деревня» И. Бунина (Человек, народ, Россия) // Иван Бунин и литературный процесс начала XX векадо 1917 года). Межвуз. Сб. науч. трудов. Л.: Изд-во Ленингр. пед. ин-та, 1985. С.3-24.
184. Крутикова Л. Проза Бунина 1907-1914 годов // Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1987-1988. Т.З. С.596-607.
185. Кучеровский Н. История Дурновки и ее»мертвые души» (Повесть И. А. Бунина «Деревня») // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Калуга, 1970. Сб.2. С.107-154.
186. Кучеровский Н. М. Эстетическая концепция жизни в ка-прийских рассказах И. А. Бунина // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Калуга, 1971. Сб.З. С.109-155.
187. Кучеровский Н. М. Споры о русском национальном характере и «Деревня» И. А. Бунина // Русская литература XX века (дооктябрьский период). Калуга, 1973. Сб.4. С.61-97.
188. Кучеровский Н. М. Бунин и его проза (1987-1917). Тула, 1980. 319 с.
189. Лавров В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1958 гг., роман-хроника. М.: Молодая гвардия, 1989. 384 с.
190. Лакшин В. Чехов и Бунин — последняя встреча // Вопросы литературы. 1978. № 10. С. 166-188.
191. Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина. М.: Изд-во МГУ, 1989. 174 с.
192. Литературное обозрение // Вестник Европы. 1910. № 1,2, 3, 5, 6, 1 1.
193. Лихачев Д. С. «Темные аллеи» // Звезда. 1981. № 3. С.182-184.
194. Львов-Рогачевский В. Поэма запустения (И. А. Бунин) // Современный мир. 1910. № 1. С.17-32.
195. Львов-Рогачевский В. Снова накануне. М.: Книгоизд-во писателей в М., 1913. С.19-28.
196. Мальцев Ю. Иван Бунин.1870-1953. М.: «Посев», 1994.423 с.
197. Мирза-Авакян М. Работа И. А. Бунина над темой Востока // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1981. С.216-227.
198. Михайлов О. Проза Бунина // Вопросы литературы. 1957. № 5. С.128-155.
199. АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ
200. Ахундова И. Р. Проблема художественного пространствав творчестве Ф. М. Достоевского (контекст литературы и фольклора): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Ин-т миров, литературы РАН. М., 1998. 23 с.
201. Барковская Н. В. Поэтика символистского романа: Автореф. дис. . доктора филол. наук / Урал. ун-т. Екатеринбург, 1996. 42 с.
202. Бердникова А. Г. О поэтике бунинского очерка начала XX века: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. обл. пед. инт им Н. К. Крупской. М., 1974. 18 с.
203. Бердникова О. А. Концепция творческой личности в прозе И. А. Бунина: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Воронеж, ун-т. Воронеж, 1992. 24 с.
204. Благасова Г. М. Ив. Бунин и М. Горький (некоторые проблемы стиля): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. обл. пед. ин-т им Н. К. Крупской. М., 1975. 20 с.
205. Бунджулова Б. Е. Стилевые особенности прозы И. А. Бунина: Автореф. дис. . канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. М., 1972. 15 с.
206. Вантенков И. П. Структура повествования в рассказах И. А. Бунина (1890-1916): Автореф. дис.канд. филол. наук / Белорус. ун-т им. В. И. Ленина. Минск, 1975. 20 с.
207. Васильева Л. А. Лирическое и эпическое в творчестве И. А. Бунина (Соотношение и взаимодействие): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. ун-т. М., 1971. 21 с.
208. Верещагина А. А. Концепция личности и общества в прозе И. А. Бунина (1913-1916 гг.): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т. М., 1978. 20 с.
209. Гейдеко В. А. Проблематика и поэтика рассказов А. П. Чехова и И. А. Бунина (Сравнительный анализ): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. ун-т. М., 1973. 23 с.
210. Добровольский Ю. Литературно-критические взгляды И. А. Бунина: Автореф. дис. . канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т.лит. им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1985. 16 с.
211. Зайцева Г. С. А. М. Горький и крестьянские писатели: Автореф. дис. . доктора филол. наук / Урал. ун-т. Свердловск, 1988. 33 с.
212. Заманская В. В. Русская литература первой трети XX века: Проблема экзистенциального сознания: Автореф. дис. . доктора филол. наук/ Магнитогорск, пед. ин-т. Екатеринбург, 1997. 34 с.
213. Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина в контексте религиозно-философских и антропологических идей конца XIX — начала XX века (концепция человека): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Ин-т русской литературы. Спб., 1992. 19 с.
214. Килганова Г. В. Ориентализм в прозе И. А. Бунина: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Мое. пед. ун-т. М., 1997. 17 с.
215. Кожемякина Л. И. Сюжетно-композиционная организация рассказов И. А. Бунина 1900-1910-х годов: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Томск, ун-т. Томск, 1983. 20 с.
216. Кубасов А. В. Проблема романтизации рассказов А. П. Чехова: Автореф. дис. . канд. филол. наук / Урал. ун-т. Свердловск, 1988. 18 с.
217. Кучеровский Н. М. Эстетическая концепция жизни в прозе И. А. Бунина (1887-1917): Автореф. дис. . доктора филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т. М., 1973. 35 с.
218. Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина: Автореф. дис. . доктора филол. наук / Моск. ун-т. М., 1989.49 с.
219. Логвинов А. С. Тема деревни в произведениях И. А. Бунина и писателей «Знания»: Автореф. дис. . канд. филол. наук /
220. Моск. гос. пед. ин-т. М., 1977. 16 с.
221. Протанская Е. С. Нравственный смысл жизни в русской литературе конца 19 — начала 20 в. (Чехов, Куприн, Андреев, Бунин, Горький): Автореф. дис. . канд. филос. наук / Ленингр. ун-т. Л.1980. 17 с.
222. Пшеничнюк Т. М. Социальная и эстетическая природа рассказов М. Горького 1922-24 годов: Дис. . канд. филол. наук / Башкирск. н-т. Уфа, 1987. 188 с.
223. Созина Е. К. Творчество M. Н. Альбова в русском литературном процессе: Дис. . канд. филол. наук / Урал. ун-т. Свердловск, 1987. 299 с.
224. Соколова Е. В. О характере реализма Бунина-прозаикадооктябрьского периода: Автореф. дис. канд. филол. наук /
225. Белорус, ун-т им. В. И. Ленина. Минск, 1975. 24 с.
226. Спивак Р. С. Русская философская лирика 1910-х годов (И. Бунин, А. Блок, В. Маяковский): Автореф. дис. . доктора филол. наук / Перм. ун-т. Екатеринбург, 1992. 34 с.
227. Толкачева Л. В. Художественное творчество И. А. Бунина (Проблемы поэтики): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т. М., 1979. 16 с.
228. Усманов Л. Д. Художественные искания в русской литературе конца XIX — начала XX вв. (Литературный процесс и развитие научной мысли): Автореф. дис.доктор,, филол. наук / Ленингр. ун-т. Л., 1977. 37 с.
229. Шишкина Л. И. Творчество писателей-знаньевцев (Изистории реализма XX века): Автореф. дис. . канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). Л., 1977. 18 с.
230. Штерн М. С. Проза И. А. Бунина 1930-1940-х годов. Жанровая система и родовая специфика: Автореф. дис. . доктора филол. наук / Омск. пед. ун-т. Екатеринбург, 1997. 40 с.
231. Эртнер Е. Н. Проблема жанровых модификаций социального романа в русской литературе 90-х годов 19 в. (Роман и очерк): Автореф. дис. . канд. филол. наук / Урал. ун-т. Свердловск, 1988. 18 с.