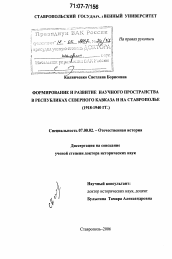автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Формирование и развитие научного пространства в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье
Полный текст автореферата диссертации по теме "Формирование и развитие научного пространства в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье"
На правах рукописи
Калинченко Светлана Борисовна
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И НА СТАВРОПОЛЬЕ (1918-1940 гг.)
Специальность 07.00.02 - Отечественная история
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук
Ставрополь-2006
Диссертация выполнена в Ставропольском государственном университете
Научный консультант: доктор исторических наук, доцент
Булыгина Тамара Александровна
Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
Еремеева Анна Натановна доктор исторических наук, профессор Покотилова Татьяна Евгеньевна
доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Геннадьевич
Ведущая организация: Ростовский государственный университет
Защита состоится 27 декабря 2006 в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.256.03 в Ставропольском государственном университете по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ставропольского государственного университета.
Автореферат разослан Л '/ ноября 2006 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор исторических наук, профессор
И. А. Краснова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации обусловлена рядом обстоятельств. В современную эпоху проблемы науки и образования, их настоящего и будущего стали весьма актуальными во всем мире. Базой развития нынешней цивилизации являются фундаментальные научные исследования, высокий общеобразовательный уровень населения. Наука и образование всегда были исходным пунктом смены представлений об окружающем мире и положении в нем человека и важными преобразующими факторами, влияющими на все сферы общественной жизни.
В мировом сообществе начала XXI в. невозможно представить себе реально независимую государственную политику, не подкрепленную соответствующим уровнем развития научного сектора. Наиболее значимые сферы социальной жизнедеятельности, экономический потенциал и материальное благополучие широких слоев населения, стабильное развитие любого государства непосредственно связаны со степенью формирования и деятельности научно-образовательной системы.
На современном этапе развития России наука становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, что делает эти сферы жизни общества одним из важных факторов национальной безопасности страны. Комплекс современных проблем российского государства, связанных с реформированием сферы науки и образования, требует обращения к опыту прошлого, когда была создана одна из лучших в мире научно-образовательных систем. Россия, сделавшая за предыдущее столетие невиданный скачок в накоплении национального научного богатства, столкнулась в начале третьего тысячелетия с мощной дезинтеграцией отечественных научных структур и угрозой резкого падения престижа науки в стране. Один из выдающихся организаторов российской научно-образовательной системы Ю.А. Жданов среди факторов нестабильности современного мира называет и неграмотность населения, и низкий уровень общенаучных знаний 1.
Представляется своевременным и обращение к истории науки на региональном уровне. Успех национальной науки в значительной степени зависит от развитости научно-организационной инфраструктуры не только в столицах, но и провинции. Это обстоятельство усиливается тем, что история науки Северного Кавказа, избранного как территориальный объект изучения, способствует выработке стратегии стабилизации в этом полиэтничном, поликонфессиональном регионе. В условиях сосуществования традиционных и современных социокультурных институтов северокавказского общества исследование научной системы региона особенно актуально. Научная деятель-
1 Жданов, Ю. А. Региональные проблемы в сфере науки, культуры, образования // Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1996. № 2. С. 34.
ность академических и отраслевых НИИ в совокупности с научным потенциалом высшей школы являются одним из важных факторов консолидации общества и сохранения единого социокультурного пространства страны. В совокупности с другими факторами наука призвана обеспечить равноправие культур и различных конфессий, а также преодоление этнонациональной напряженности и социальных конфликтов, ограничения социального неравенства.
Потребность в комплексном исследовании развития науки на Северном Кавказе вытекает из того, что в довольно обширной современной историко-научной литературе, освещающей различные вопросы социальной истории советской науки, пока еще редки попытки целостного, всестороннего их изучения в широких хронологических и региональных рамках. В то же время для ученых-историков характерно рассмотрение узких сфер научной деятельности без отражения многообразия работы научных коллективов.
Современная историческая наука отличается развитием новых исследовательских практик. Среди них - новая культурная, новая интеллектуальная история, новая локальная история. Рассмотрение истории эволюции науки и ее организации на Северном Кавказе в этих исследовательских полях представляется весьма своевременным.
Таким образом, актуальность представленного исследования определяется, с одной стороны, слабой изученностью современных методологических позиций вопросов становления, развития и функционирования научных учреждений Северного Кавказа, в которых отразились основные тенденции и противоречия научного строительства СССР в тот период. С другой стороны, актуальность темы связана с потребностями современного социального развития как в России, так и в мире. Поэтому комплексное изучение данной темы является важной историко-научной и социально-культурной задачей.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 по 1940 гг., т. к. это время было эпохой становления качественно новой системы науки как в стране в целом, так в частности и в изучаемом регионе. В этот период окончательно оформились и утвердились в общегосударственном масштабе и на региональном уровне принципы и формы организации и деятельности научных структур; подготовки научных кадров. Также выявились основные характеристики взаимоотношений власти и науки.
Данная хронология позволяет увидеть связь научной жизни с важными социокультурными, политическими и экономическими процессами в стране, начиная с Гражданской войны и НЭПа и заканчивая предвоенным пятилетием, в региональном контексте. Несмотря на внутренние особенности развития науки, эти процессы в значительной степени определяли особенности и приоритеты научной политики в советском обществе. Незначительное отступление от указанной хронологии в дореволюционный период, предпринятое в первом параграфе второй главы диссертации, необходимо для выявления истоков развития науки на Северном Кавказе с помощью сравни-
тельного анализа. С этой целью в диссертации представлен материал, характеризующий место Северного Кавказа в научном пространстве России до установления Советской власти в регионе, что позволило выявить условия к предпосылки создания научных учреждений, организации ученых сообществ и других специфических институтов науки в последующий период.
Территориальные рамки исследования определены границами современных административных единиц Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии. В 1918-1919 гг. на территории Терской области была образована Терская народная республика. После окончания Гражданской войны в соответствии с решениями состоявшихся в ноябре 1920 г. съездов народов Дагестана и Терека были образованы Дагестанская и Горская советские социалистические республики.
Однако в 1921 г. начинаются центробежные процессы, приведшие к созданию на базе Горской ССР Кабардино-Балкарской (1921), Чеченской (1922) автономных областей и выделению г. Грозного с приданием ему прав губернии (1922). В 1924 г. процесс размежевания Горской республики завершился образованием Ингушской и Северо-Осетинской автономных областей и выделением Сунженского округа и г. Владикавказа в самостоятельные административно-территориальные единицы с вступлением всех новых образований в состав Северо-Кавказского края. В 1931 г. в состав этого края вошла и Дагестанская АССР. В 1929 г. Грозный вместе с Сунженским (казачьим) округом вошли в состав Чеченской области. В 1934 г. к ним присоединилась Ингушетия, в результате образовалась Чечено-Ингушская АО, Владикавказ, в свою очередь, в 1933 г. был присоединен к Северо-Осетинской АО. В 1934 г. Северо-Кавказский край разделился на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края (центр — Пятигорск). В 1936 г., после повышения конституционного статуса трех автономий до уровня автономных республик, они вместе с Дагестанской АССР выводятся из состава Северо-Кавказского края (с марта 1937 г. Орджоникидзевского). Центр края в декабре 1936 г. переносится в г. Ставрополь (Ворошиловск). Таким образом, административные преобразования 20—30-х годов позволяют объединить в рамках исследования указанные выше территории Северного Кавказа. Автор не касался истории науки на Кубани и Дону, которая, как свидетельствует историографический раздел диссертации, достаточно полно изучена отечественной исторической наукой. Кроме того, формирование и развитие науки в Краснодраском крае и Ростовской области представляет собой особое научное пространство, структурные элементы которого отличались определенной завершенностью к началу исследуемого периода по сравнению с национальными автономиями и Ставропольем. Выбор территории Северо-Кавказских республик помогает выявить специфику процессов создания национального научного пространства Северного Кавказа. Сравнительный анализ истории науки в указанных республиках и истории науки Ставрополья, крайне слабо изученной историками, также способствует решению этой задачи.
Степень научной изученности проблемы. При отсутствии комплексных исследований по истории становления и развития научного пространства Северного Кавказа (1918-1940 гг.) отдельные аспекты этой проблемы затрагивались в работах регионального и общероссийского уровня. Рассматривая анализ структурных элементов научного пространства, следует отметить научные исследования общероссийского уровня, связанные с историей становления науки, организацией научных учреждений, подготовкой научных кадров как составляющей части общегосударственной и региональной политики. Подробно обзор историографических тенденций по этим вопросам раскрывается во втором параграфе первой главы диссертации. Следует только отметить, что в этом обзоре автор использовала проблемно-хронологический принцип. Вместе с тем территориальные особенности темы потребовали разделить всю изученную литературу на две группы — общероссийскую и региональную. При этом особое место занимает социально-политический контекст историографической парадигмы изучаемой проблемы в каждом хронологическом периоде. Наконец, междисциплинарный характер объекта исследования привлек внимание к работам философов, социологов, культурологов и науковедов, в которых в той или иной степени освещались вопросы данного исследования.
В целом анализ истории изучения научного пространства в России и на Северном Кавказе показал, что самостоятельное исследование научного пространства Северного Кавказа как целостного явления отсутствует. Представленные работы носят фрагментарный характер, отсутствует периодизация становления и развития науки региона. Незначительное внимание уделено процессу организации вузовской науки, эволюции научных интересов местного научного сообщества, становлению и деятельности научно-исследовательских институтов и других научных учреждений региона.
Цель диссертации — выявить основные тенденции процесса становления научного пространства Северного Кавказа как регионального инварианта российской научной традиции в единстве ее генетических, национальных и специфических местных характеристик и проявлений на начальном этапе функционирования советской социально-политической системы.
В процессе исследования обозначенной проблемы диссертант считал необходимым уделить больше внимания локальному преломлению общих для советской науки черт в региональном пространстве, изучению внутренних процессов становления и деятельности научно-образовательных учреждений Северного Кавказа.
Данная цель определила основные задачи исследования:
- изучить предпосылки и специфические условия формирования элементов научного пространства на Северном Кавказе;
— раскрыть сущность советской государственной политики в сфере науки и ее изменения на отдельных этапах периода с 1918 по 1940 гг.;
— сформулировать основные характеристики процесса организации научных структур в регионе в советский период и его эволюцию в регионе в контексте государственной политики;
— показать общие тенденции и специфику формирования научных учреждений Северного Кавказа различного профиля, а также вузовской науки;
— осветить цели кадровой политики в сфере науки, и пути и методы их реализации в исследуемом регионе на различных исторических этапах;
— проследить качественные и количественные изменения в кадровом составе научных работников, а также воздействие социально-политических процессов на эту динамику;
— рассмотреть основные направления деятельности научных учреждений, а также практику внедрения новых принципов и форм организации научного труда применительно к особенностям региона;
— выявить характер эволюции научно-мировоззренческих взглядов как в целом в локальном научном сообществе, так и у отдельных его представителей.
Объектом исследования является научное пространство, включающее такие элементы, как высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, научные музеи, научные библиотеки, научные общества, их научно-просветительскую и издательскую деятельность, а также субъекты научной деятельности — научных работников Северного Кавказа.
Под понятием «научное пространство», мы понимаем организованные на определенной территории научные учреждения, объединенные едиными принципами государственной политики, экономическими, информационными, генетическими связями, представляющими звенья и структуры сферы науки.
Предметом исследования выступает процесс формирования и развития научного пространства региона в указанный период, особенности организации и характера научной работы высших учебных заведений и научных учреждений, специфика кадровой политики в научной сфере Северного Кавказа, эволюция интеллектуального потенциала регионального научного сообщества и развитие его материально-технической базы в пределах избранного исторического периода.
Методологическая и теоретическая основы исследования. В работе использованы общие принципы исторического анализа в рамках ранее сложившихся познавательных традиций. К ним можно отнести такие общенаучные и социально-исторические методы, как хронологический, статистический, системно-функциональный, компаративный и др. Вместе с тем в контексте современной познавательной парадигмы, отличающейся методологическим плюрализмом, были задействованы отдельные подходы «новой исторической науки» — междисциплинарность, новая интеллектуальная история, «новая локальная история», элементы микроанализа социального контекста истории науки в регионе. Междисциплинарность объекта исследова-
ния продиктовала широкое использование методического инструментария смежных гуманитарных наук - социологии, культурологии, антропологии, политологии и проч.
Разрабатывая теоретические основания своего исследования, автор исходил из определения науки как социального института, о чем более подробно говорится в первом параграфе первой главы диссертации.
Псточпнковая база исследования. Исследование строится на различных по виду и информационной насыщенности источниках как архивных, так и опубликованных. Основой исследования стали архивные материалы. Среди них выделяется группа документов, отражающих основные направления партийно-государственной политики центральных органов власти, в частности, материалы организационно-распределительного и агитационно-пропагандистского отделов ЦК, сосредоточенные в фонде № 17 ЦК КПСС Российского Государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), решения Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР (ВКВТО), Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР (ВКВШ), Главного управления профессионального образования (Главпрофобр), Наркомата просвещения РСФСР, Главнауки Наркомпроса РСФСР, сосредоточенные в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).
Реализация политики в области науки в регионе отражена в материалах Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), областных партийных организаций (РГАСПИ), а также государственных архивах республик Северной Осетии — Алании (ЦГА PCO - А), Дагестана (ЦГА РД), Кабардино-Балкарии (ЦГА КБР), Ростовской области (ГАРО) и Ставропольского края (ГАСК). Наряду с этим в местных архивах и фондах Главнауки и Наркомпроса содержится большой пласт источников, содержащих информацию о конкретных вопросах организации и функционирования научных учреждений Северного Кавказа и местных научных сообществ. Важным для данного исследования является материал личных архивов отдельных ученых Северного Кавказа, как, например, материалы Л.П. Семенова, Б.А. Алборова и др. в ГА PCO — А. Изучено также научное наследие местных ученых, хранящееся в Отделе Рукописных фондов Северо-Осетинского института гуманитарно-социальных исследований ВНЦ РАН (СОИГСИ). В местных архивах находятся также источники по истории отдельных научных учреждений и вузов. Привлечен также материал об отдельных научных работниках из архивов и музеев вузов.
Таким образом, выявленные архивные источники могут быть разделены на несколько групп. Во-первых, постановления центральных и местных партийных и советских органов, отраслевых органов управления по вопросам высшей школы и науки. Во-вторых, данные о динамике научно-педагогических кадров, списки преподавателей, научных работников, штатные формуляры. В-третьих, отчеты научно-исследовательских институтов и вузов в вышестоящие организации, содержащие большой фактический мате-
риал обо всех сторонах деятельности научных заведений. В-четвертых, статистические данные о количестве аспирантов, их социальном, партийном составе, национальной принадлежности. В-пятых, материалы, отражающие направления и содержание научных исследований, издательскую деятельность. В целом были изучены содержащиеся в фондах отчеты научных учреждений, обществ, вузов; результаты их проверок; материалы различных совещаний; организация научно-исследовательской работы, усиление ее связи с потребностями производства; обновление руководящего состава; меры по улучшению их материально-бытовых условий. Они позволили выяснить основные тенденции, общие проблемы и трудности в развитии и деятельности научных учреждений, вузов, положении работников науки и высшей школы, а также результативность мер, предпринимавшихся для их разрешения. Использованы сведения о финансировании и результатах научно-исследовательской работы в вузах и НИИ, ее связи с производством, о работе аспирантуры.
Значительный массив источников составляют опубликованные документы. Использованные в диссертации опубликованные источники по своему происхождению и содержанию представлены несколькими группами. К первой группе относятся документы и материалы высших органов партийно-советской власти и управления по вопросам высшей школы и науки, культурных преобразований, восстановления ускоренного развития народного хозяйства. Сюда относятся резолюции партийных съездов, конференций, пленумов ЦК, директивы к составлению пятилетних планов, Декреты и постановления Совнаркомов РСФСР и СССР, опубликованные в официальных периодических изданиях РКП(б) — ВКП(б), советского правительства и их последующих переизданиях, а также в издававшихся в разное время сборниках документов 2. Они отражают основные направления партийно-государственной политики в сфере науки. В них формулировались долговременные цели и ближайшие задачи, давались конкретные указания, намечались практические мероприятия по развитию науки и высшей школы в масштабах общегосударственных преобразований.
Вторую группу опубликованных источников составили документы и материалы высших партийных, советских и административных органов, непосредственно осуществляющих руководство и организацию науки и высшей школы в стране. Они помогают более основательно понять механизм управления наукой и образованием, цели и результаты перестройки научных учреждений, процесс их сближения с практикой социалистического строительства, реорганизацию подготовки научных кадров, содержание иде-
2 Справочник партийного работника. Вып. 1-УШ.М., 1920-1934; Известия ЦК РКП(б). М., 1920-1929 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. М., 1918-1922 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1922-1940 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 2-7. М., 1983-1985 Декреты Советской власти. Т. III. М.,1964; Т. IX. М., 1978; Т. XI. М„ 1983.
ологической работы с научными работниками. Постановления по этим вопросам, по результатам докладов и проверок научных учреждений, материалы инструктивно-методического и информационно-справочного характера публиковались в официальных изданиях РКП(б) — ВКП(б), Нарком-проса, ВСНХ, сборниках документов, выходивших в 20-30-е годы, в документальных сборниках по истории организации советской науки, изданных в б 0-70-е гг. XX века3.
В партийных документах главное внимание уделялось задачам кадровой политики, советизации и политизации руководящего состава научных учреждений и вузов, ускорению их реорганизации, идеологическим аспектам, подготовке новых кадров для науки и высшей школы. Директивы ведомственных научно-административных органов охватывали конкретную деятельность научных учреждений и практические пути их развития.
Для исследования поставленной проблемы на региональном уровне большое значение имеют изданные сборники документов по культурному строительству всех национальных областей Северного Кавказа, изданные в 70—80-е гг. XX века 4. В рамках материалов по практике культурной революции в регионе освещены и вопросы развития науки и высшего образования. Они раскрывают отдельные процессы научной деятельности в специальных научных учреждениях и вузах с момента их образования до начала 40-х годов XX века.
Богатый фактический материал, отражающий научную деятельность, кадровый состав высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов содержится в издаваемых сборниках научных трудов, научных известиях и бюллетенях 5. Они дают представление об основных направлениях научной работы научных сотрудников, освещают научную повседневность, содержат биографические сведения об ученых.
Интересные данные для исследования истории научных учреждений и сведения о научных работниках общегосударственного и регионального уров-
' Бюллетень Наркомпроса. М., 1920-1930; Еженедельник Наркомпроса. М., 1918-1930; Директивы Наркомпроса по вопросам просвещения. М.-Л., 1931; Организация советской науки в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.): сб. док. Л., 1968; Организация советской н^ки в 1926-1932 гг : сб. док. Л., 1974 и др.
Культурное строительство в Дагестанской АССР 1918— 1941 гг. : сб. док. Т. I. М., 1980; Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918-1941 гг.). Т. I. Нальчик, 1980; Культурное строительство в Северной Осетии (1917-1941 гг) : сб. док. и материалов. Т. I. Орджоникидзе, 1974; Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920-1941 гг.): сб. док. и материалов. Грозный, 1979.
'Труды государственного Бальнеологического института г. Пятигорска ТТ. 1-ХХИ. Пятигорск, 1923-1941; Известия осетинского Научно-исследовательского института краеведения. Вып. 1-4. Владикавказ, 1925-1933; Известия Чечено-Ингушского НИИ Т. I. Грозный, 1936; Известия СевероКавказского педагогического института. Т. 2-10. Владикавказ, 1924-1935; Труды Северо-Кавказского государственного металлургического института. Вып. 1-4, Дзауджикау, 1939; Известия Горского Сельскохозяйственного института Вып. 1-6, Владикавказ, 1926-1932; Труды ставропольского сельскохозяйственного института. 1921-1923; Труды Ворошиловского государственного педагогического института. Т. 1, Пятигорск, 1939 и др.
ней содержатся в справочных и статистических изданиях 6. Они помогают конкретизировать представления о сети и структуре высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов как в целом по стране, так и в регионе на протяжении всего исследуемого периода, проанализировать численный, социальный, партийный состав профессорско-преподавательских кадров и аспирантов. В то же время, при использовании такого рода источников, необходимо учитывать, что многие из них, особенно в первые годы научного строительства, были разноречивы и неполны. Организационная слабость вузов и НИИ, частые перестройки, отсутствие хорошо поставленного учета наложили отпечаток на содержание статистических данных тех лет.
Одним из важных источников для данного исследования является периодическая печать, и, прежде всего, издававшиеся в 20—30-е годы журналы — общесоюзные научные, научно-общественные и научно-идеологические. Среди них центральные — «Научный работник», «Социалистическая реконструкция и наука», «Фронт науки и техники», «Народное просвещение», «Курортное дело», а также региональные — «Известия Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б), «Северо-Кавказский край», «Революция и горец». В этих изданиях отражены не только особенности официальной политики, но и тенденции общественного сознания в отношении к науке, социокультурный контекст и повседневность 20—30-х годов XX века, в которых существовало местное научное сообщество. На страницах журналов прослеживаются особенности становления и развития высшей школы и научно-исследовательских институтов Северного Кавказа. Особенностью этих источников является отражение общественной психологии того времени, т. к. авторы статей были непосредственными участниками процесса организации и деятельности высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.
В исследовании привлекалась также местная газетная периодика: «Власть труда», «Власть Советов», «Горская правда», «Дагестанская правда» и другие. Периодическая печать чутко отражала изменения, происходившие в стране, процессы политизации и идеологизации научных учреждений. Являясь официальными изданиями органов партийной и государственной власти, они формировали общественное мнение по вопросам культуры, науки, образования в стране и регионе.
Особую группу опубликованных источников составляют работы ученых 20—30-х годов XX в. Эти научные тексты помогают воссоздать содержание
6 Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края. Ростов-н/Д, 1927; Статистический справочник по Северо-Кавказскому краю. Ростов-н/Д, 1925; Районы Северного Кавказа. Пятигорск, 1935; Просвещение на Северном Кавказе в цифрах. Ростов-н/Д, 1929; Северо-Кавказский край: цифры и диаграммы. Ростов-н/Д, 1926; Справочник по автономным областям, районам, городам Северо-Кавказского края. Ростов-н/Д, 1932; Чечено-Ингушская АССР за 40 лет : стат. сб. Грозный, 1960; 50 лет Кабардино-Балкарской АССР. Народное хозяйство ДАССР за 60 лет. Нальчик, 1971; Народное образование, наука и культура СССР. М., 1977 и др.
научной деятельности, вычленить научные приоритеты в тот или иной исторический период, понять специфику научного письма в идеологизированном обществе 7.
Определенную информацию содержат всевозможные юбилейные сборники, посвященные истории отдельных вузов и НИИ 8. Несмотря на парадный характер, в них содержатся уникальные материалы, которые можно характеризовать как источники устной истории. Это интервью и устные воспоминания старейших работников.
Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые на широком круге источников выявляются основные исторические характеристики научного пространства Северного Кавказа в советский период в стадии его формирования.
В комплексе показана специфика процесса реализации на Северном Кавказе основных направлений государственной политики в сфере науки в период 1918-1940 годов, роль региональных административных структур и общественных организаций в строительстве научного комплекса.
Одновременно впервые сформулированы основные характеристики эволюции содержания научного процесса Северного Кавказа в период утверждения советской социально-политической системы на основе анализа деятельности местных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.
Вскрыта связь истории организации северокавказского научного пространства с содержанием собственно научной деятельности, методами и результатами научных исследований конкретных ученых.
Комплексный анализ научного пространства Северного Кавказа предложен в контексте как общероссийского, так и локального социокультурного, экономического, политического развития. В частности, показано влияние культурной специфики народов Северного Кавказа на модификацию в регионе общегосударственных форм подготовки научных работников и на изменения кадровой политики в сфере науки.
Впервые рассмотрены в комплексе особенности формирования научного пространства Северного Кавказа через историю его главных составляющих элементов — вузов и НИИ, предложена авторская периодизация становления и развития учреждений отраслевой и вузовской науки в довоенный
'Гайлис, Я. Р. Основные вехи научной работы на Северном Кавказе. Ростов-н/Д, 1930; Бейлин, А. Подготовка кадров в СССР за 15 лет. М.—Л., 1932; Вельмин, В. П. Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов. Обзор деятельности 1927 г. Ростов-н/Д, 1928; Краткий обзор исследовательской деятельности Горского сельскохозяйственного института. Владикавказ, 1925; Семенов, Л. П. Государственный научный музей г. Владикавказа при Северо-Кавказском институте краеведения. Владикавказ, 1925; Воскресенский, А. И. Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края. Ростов-н/Д, 1927; Тамбиев, И. Карачай прежде и теперь. Ростов-н/Д, 1931; 10 лет Советской Чечни. Ростов-н/Д, 1933.
" Десять лет научных работ в Дагестане (1918-1928). Махачкала-Пятигорск, 1928; 80 лет служения отечественной науке. Отв. ред. А.Г. Кучиев / СОИГСИ. Владикавказ, 2005 и др.
период, включая формирование интеллектуального и кадрового потенциала, а также финансовую и материально-техническую базы.
Антропологический принцип позволил проследить эволюцию научно-мировоззренческих взглядов научных работников как интеллектуальной элиты Северного Кавказа в рамках системы социально-селективного отбора и подготовки научных кадров в регионе. При этом были выявлены основные вехи и особенности создания этой системы.
Научная новизна диссертации обусловлена также характером использованных источников, среди которых большое количество архивных и других материалов впервые вводится в научный оборот.
Таким образом, диссертация представляет собой первое в отечественной исторической науке комплексное исследование вопросов социальной истории науки в региональном варианте.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Формирование научного пространства Северного Кавказа на рубеже XIX—XX веков проходило в специфических социокультурных условиях, связанных с низким уровнем грамотности местного населения, удаленностью от крупных научных центров страны; приоритетным влиянием столичной академической гуманитарной науки; отсутствием системы научных учреждений в регионе; зачаточным состоянием местного научного сообщества.
2. Становление и развитие науки на Северном Кавказе находилось под влиянием процесса российской модернизации начала XX века. Однако в силу ряда обстоятельств — выраженной полиэтничности и неравномерности социально-экономического развития локальных обществ Северного Кавказа, поздней включенности региона в российское социокультурное и экономическое пространство, слабости урбанизационных процессов, модернизаци-онные процессы здесь запаздывали, что сказывалось и на темпах структурирования научного пространства региона.
3. Цивилизационный разрыв, выразившийся в событиях Российской революции 1917 г. и Гражданской войны, изменил вектор развития страны в целом и Северного Кавказа в частности. Начавшийся еще до революции процесс формирования научного пространства ускорился и одновременно наполнился новым содержанием, которое определялось, с одной стороны, характером политики большевистской власти, а с другой — революционным романтизмом.
В начале 20-х годов при крайней скудости материальных средств наблюдался организационный бум в создании вузов и научных учреждений региона. Это движение, инициируемое местной властью и поддержанное СевероКавказской общественностью, было с энтузиазмом поддержано представителями местного дореволюционного научного сообщества и столичными учеными, оказавшимися на Северном Кавказе в годы революции и Гражданской войны. В это же время начинают создаваться предпосылки и основы научного сообщества национальных республик.
В целом 20-е годы стали переходным временем, когда только закладывались основы общегосударственной научной политики и складывались отдельные элементы советской модели регионального научного пространства, и одновременно продолжали действовать научные традиции, заложенные местным научным сообществом, которому и в те годы принадлежала инициатива создания отдельных научных учреждений.
4. Структурирование элементов научного пространства исследуемого региона приобрело систематический, целенаправленный характер к началу 30-х годов. Именно тогда этот процесс стал инициироваться исключительно государством по представлению местной власти, а не «снизу», научным сообществом. Этому способствовала, во-первых, окончательная централизация и бюрократизация системы государственного управления, в том числе наукой и образованием, а во-вторых, форсированная советская модернизация, материализованная в индустриализации и коллективизации.
В регионе за 10 лет были институализированы основные структурные элементы локального научного пространства: высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, лаборатории, научные библиотеки и т. д. Они носили иерархический характер организации и имели различные уровни структурирования и подчинения - подразделения АН СССР, всесоюзные исследовательские институты, вузы, научные библиотеки и отраслевые научные учреждения.
5. Все научные учреждения и вузы были подчинены общим требованиям государственной политики. Эта политика включала в себя безусловное подчинение научного творчества идейно-политическим установкам власти, зависимость научных исследований от хозяйственных нужд страны и региона, общественную активность и просветительскую работу ученых.
Советизация науки, наряду с созданием единого научного пространства Северного Кавказа как части общегосударственной науки, сопровождалась рядом общих для страны тенденций. К ним можно отнести свертывание краеведческих исследований, частую смену управленческих и научных кадров в процессе политических репрессий, практическую направленность результатов научной работы в соответствии с требованиями советских экономических преобразований. Централизация и политизация науки приводила к тому, что в ряде случаев игнорировались особенности региона. Так, сельскохозяйственная наука Ставрополья длительное время была занята разработками такой неперспективной для региона отрасли, как хлопководство.
Идеологический диктат власти существенно повлиял на мировоззренческие позиции научного сообщества, ограничивая познавательные возможности науки, что особенно пагубно сказалось на разработке гуманитарной проблематики. Тем не менее внутренний потенциал науки, особенно в таких отраслях, как медицина, сельское хозяйство, курортология не был атрофирован. Более того, поддержка государством прикладных исследований позволила региональной отраслевой науке достичь значительных результатов.
Огосударствление науки привело к тому, что вертикальные связи ученых Северного Кавказа с Центром были более прочными, нежели сотрудничество между локальными научными сообществами, входившими в общее научное пространство региона.
6. Вместе с тем научное пространство Северного Кавказа в исследуемый период обладало значительной спецификой. Особенностью данного регионального варианта процесса формирования научного пространства было то, что центрами развития научной мысли являлись высшие учебные заведения. Они концентрировали в себе материальную базу для научных исследований, интеллектуальную элиту региона.
Аграрный характер социально-экономического развития Северного Кавказа обусловил преимущественное развитие сельскохозяйственной науки на Ставрополье, которая не ограничивалась локальными рамками, но была востребована на всесоюзном уровне. В этом отношении можно говорить о преемственности научных традиций, несмотря на репрессии и смену научных поколений, которая определялась не только временными, но и политическими причинами.
Наличие на территории Ставрополья и республик Северного Кавказа уникальных природных зон обусловило дальнейшее развитие курортологии, которая опиралась на бальнеологический опыт дореволюционных исследователей.
В большей степени дискретность научных традиций в 30-е годы характерна для краеведения, которое к началу 40-х годов выродилось в инструмент пропаганды.
7. Специфика научного пространства Северного Кавказа отразилась и в слабом влиянии проводившейся в те годы политики коренизации на подготовку кадров в сфере естествознания и технических наук из числа представителей титульных национальностей Северо-Кавказских республик, что определялось объективными причинами и национальными традициями. Локальное научное сообщество также отличалось пестрым национальным составом, с численным преимуществом представителей некоренной национальности.
В целом здесь научное сообщество гуманитариев развивалось более интенсивно, нежели сообщество ученых-естественников.
Спецификой работы научных сотрудников в республиках Северного Кавказа было совмещение деятельности в вузах и НИИ национальных областей. Кроме того, к научным исследованиям привлекался широкий круг специалистов-практиков различных отраслей народного хозяйства. Их объединял объект научных исследований — природное, геологическое, культурное пространство Северокавказского региона.
Практическая значимость диссертационной работы определяется возможным применением ее выводов в ходе осуществления в регионе национального проекта РФ в области образования и науки. Материалы и выводы
работы могут быть использованы в учебных курсах «История науки», «История России», «История народов Северного Кавказа», при написании исторических очерков и монографических исследований по истории указанного региона, очерков по истории отдельных вузов, методических пособий, а также в лекционной деятельности.
Апробация результатов работы. Основные положения и выводы работы нашли отражение в двух монографиях и трех статьях в периодических изданиях, рекомендованных ВАКом для публикации материалов докторской диссертации, а также в 37 статьях и тезисах международных, всероссийских и зональных конференций. Выводы исследования использованы научными сотрудниками Cornell University (США).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Структура диссертации определена проблемно-хронологическим принципом, детерминированным, в свою очередь, степенью изученности отдельных аспектов темы, целью и задачами, а также наличием необходимых для исследования источников. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источников и литературы, приложения.
Во введении обосновывается актуальность, научная новизна, практическая значимость темы, определены объект, предмет, цель исследования и его задачи, обозначены хронологические и территориальные рамки, дается информация о возможностях практического применения результатов исследования и апробации работы.
Первая глава, «Теоретико-методологические и историографические подходы к исследованию проблемы становления научного пространства Северного Кавказа», состоящая из двух параграфов, содержит объяснение теоретических основ и понятийно-терминологического аппарата исследования, а также подробный историографический обзор истории науки в исследуемый период.
Отмечается, что с конца XIX века в мировом науковедении отчетливо обозначились два подхода к вопросу о соотношении науки и социума, который в конечном итоге определяет роль науки в обществе. Это так называемый экстернализм (признание определяющих для науки внешних, социальных воздействий) и интернализм (позиция, согласно которой развитие науки обусловлено действием внутренних когнитивных закономерностей, а социум играет роль не контекста, а фона).
В рамках интернализма делается плодотворная попытка выявить и проанализировать внутренние механизмы науки и элементы ее самоорганизации. Однако стремление вывести науку за пределы социальной системы не подтверждаются реальной историей науки. Напротив, радикальные экстер-налисты, рассматривая науку как одну из общественных структур, не уделяя
должного внимания внутренним особенностям научной деятельности, лишают ее права на относительную автономию.
Следуя призыву Ф. Броделя не фокусироваться на единственной концепции, а «суммировать» их, автор стремился использовать элементы различных теоретических подходов к данной проблеме. Надо признать, что в современной историографии преобладает подход «сбалансированного взаимодействия исследовательских методик»9. Сегодня, как правило, нет сторонников «чистых» экстерналистов или интерналистов. Споры переместились из области поисков или отрицания взаимосвязей между наукой и обществом в поле исследований механизма этих связей. Широко распространенным становится изучение процесса интериоризации экстернальных факторов, что определило интенсивное развитие социальной истории науки и интеллектуальной истории.
Именно в этом направлении работает одна из ведущих отечественных ученых в области новой интеллектуальной истории Л.П. Репина, которая замечает, что нет «единственно правильной» методологии, и обращает внимание на необходимость взаимообогащения подходов в поисках наиболее полных ответов 10. Исследование науки в рамках социальной истории представляется одним их наиболее перспективных направлений современной исторической науки. При этом мы принимаем определение социальной истории, данное X. Риттером в «Словаре исторических понятий» (Нью-Йорк, 1986): «Социальная история — это форма исторического исследования, в центре внимания которой находятся социальные группы, их взаимоотношения, их роли в экономических и культурных структурах и процессах. Она часто характеризуется использованием теории общественных наук и количественных методов» 11.
Надо отметить, что подобное толкование интерпретировалась в советской историографии согласно идеологическим установкам партийной власти как классовый подход к истории общества. Сегодня в отечественной науке социальный подход восстанавливает свою респектабельность в качестве комплекса макро- и микроисторических исследовательских практик, основанных на основе междисциплинарного выбора методического инструментария.
Таким образом, предметом социальной истории науки являются тенденции в развитии науки, определяемые одновременно внутренними, познавательными потребностями научной деятельности, соотнесенными с различными социальными сферами — экономикой, идеологией, политикой, культурой и т. п. В конечном итоге социальная история изучает характер связей науки и общества, социокультурный контекст научного сообщества.
' Булдаков, В. П. Октябрь и XX век: теории и источники // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1999. С. 18.
10 Репина, Л. П. Новая историческая наука и социальная история. М., 1998. С. 8.
11 Цит. по: Репина, Л. П. Новая историческая наука и социальная история. С. 6.
Для данного исследования истории научного пространства Северного Кавказа в эпоху функционирования советской социально-политической системы плодотворным является взгляд на науку как социальный институт. С этой точки зрения наука включает в себя не только систему новых знаний и собственно научную деятельность, но и систему отношений в науке, инсти-туционализацию научного сообщества и организацию научного пространства в социуме. Наука как социальный институт имеет собственную разветвленную структуру и использует как когнитивные, так и организационные, моральные ресурсы. Как социальный институт наука включает в себя следующие компоненты: совокупность знаний и их носителей; наличие специфических познавательных целей и задач; выполнение определенных функций; выработку форм контроля и оценки научных достижений; существование определенных санкций 12. Социальная история науки предполагает изучение социокультурного контекста научного пространства, характер отношений науки и общества, науки и власти. Это тем более важно, что наука как социальный институт в советском обществе подверглась тотальному огосударствлению, когда власть предъявила претензии влиять на внутреннюю природу науки.
В основе сущности социального подхода лежит отношение к науке как особой форме деятельности, виду духовного производства. Этим социальный подход отличается от традиционного представления о науке как системе знаний. «Недостаток» последнего состоит в том, что при таком подходе упускается социальная сторона явления. Сейчас преодолено размежевание двух подходов, хотя специалисты, принадлежащие к разным дисциплинарным областям, сохраняют свои приоритеты.
Рассматривая региональную составляющую развития науки, следует учитывать ряд факторов, определяющих структуру, функции, пространственное размещение научной системы общества. Так, М.Д. Розин выделяет такую черту становления и развития региональной науки, как политико-административная составляющая 13. Речь идет об особенностях политического устройства данного государства, специфике его административного деления, характере государственного управления отдельными территориями. Демо-экономическая составляющая включает особенности системы расселения, уровень развития городской системы и размещения производительных сил в регионе, наличие здесь крупных социокультурных и экономических центров. Природно-интегральная составляющая формирования регионального научного пространства подразумевает учет агроклиматических условий, местных природных ресурсов, ландшафтных характеристик. К этно-культурно-психологическим предпосылкам функционирования региональной науки относятся особенности психологии местных этносов, система их
12 Лешкевич, Т. Г. Философия науки. М., 2005. С. 234.
11 Розин, М. Д. Научный комплекс Северного Кавказа Ростов-н/Д, 2000. С. 16.
мировоззренческих установок, конфессиональная специфика, культурные традиции и т. д.
Различаясь по своему характеру, данные особенности только в совокупности и взаимообусловленности определяют основные параметры научной системы. Одновременно сама наука оказывает активное воздействие на социальную жизнь локального сообщества региона.
Наука — это и специфический процесс получения нового знания, и результат этого процесса, представляющие целостную систему, основанную на определенных принципах. В то же время наука в социуме выступает как культурный феномен. Именно анализ истории науки в системе культуры позволяет выяснить, каким образом осуществляется взаимодействие между наукой и обществом.
Подходы, разрабатываемые НОЦ СГУ «Новая локальная история», позволяют включить местное научное сообщество в социокультурный контекст локальных сообществ Северного Кавказа. В то же время, с этих позиций, ученые региона выступают как специфическое локальное сообщество, обладающее своими неповторимыми особенностями и одновременно открытое как местному, так и общероссийскому обществу и являющееся частью общенационального научного пространства.
Исторически складывалось так, что исследовательская, государственная и педагогическая деятельность в изучаемом регионе первоначально составляли единое целое, причем первая находилась в подчиненном положении. Исследовательская работа была познавательной потребностью пытливых людей, т. к. государство оплачивало государственную службу, а не исследовательский труд. В начальный период советской истории такой государственной службой стало преподавание.
Началом, объединяющим оба вида деятельности, служил субъект действия — ученый, обладавший глубокими знаниями и для обучения студентов, и для расширения самой системы знаний. Таким образом, наука и высшая школа органически всегда связаны между собой и зависимы друг от друга. Это обстоятельство позволяет рассматривать науку и высшую школу в единстве.
Ключевой категорией данной работы, ее объектом является научное пространство. В нашем случае это пространство представляет собой организованные на определенной территории специальные научные учреждения, вузы, научные библиотеки, музеи, опытно-экпериментальное производство, система управления наукой и ядро этого пространства — сообщество ученых, обеспечивающих функционирование данных элементов. Все эти звенья объединены едиными принципами государственной политики, организационными, экономическими, информационными, генетическими связями и характеризуются, с одной стороны, локальной спецификой, а с другой — обращенностью к единому научному пространству общества. На микроуровне научное пространство представлено в рамках одного научного учреждения вуза или НИИ. ^
Совокупность различных исследовательских задач, которые включают и общие характеристики политики советского государства в сфере науки в конкретное историческое время, и систему организации и материального обеспечения научной деятельности, и кадровый комплекс, и основные направления и состояние научных исследований, и мировоззренческий аспект научного сообщества, потребовали использовать совокупность методов различных научных дисциплин. Междисциплинарный подход к анализу заявленной проблемы предполагал четко ограниченные профессиональные границы, которыми является исторический анализ научного пространства на основе изучения комплекса исторических источников.
Для понимания предмета данного исследования необходимо было четко определить понятие организационных форм науки в Советском Союзе, в рамках которых формировался региональный инвариант научного пространства. В советской историографии выделялись три группы научных учреждений, составляющих организационную структуру советской науки и соответствующих характеру проводимых исследований и ведомственной подчиненности:
1. Научные учреждения Академии наук (научные центры, филиалы, обсерватории, станции и т. д.).
2. Научные учреждения высшей школы (кафедры, лаборатории, институты, центры и т. д.).
3. Научные учреждения и организации в промышленности и других отраслях хозяйства (отраслевые НИИ, конструкторские бюро, научно-производственные объединения и т. д.) 14.
Следует признать целесообразность такого подхода к определению основных организационных форм науки, которые были единообразными во всех регионах в силу централизации управления советской наукой его иерархичности. Следует отметить, однако, что в начале 20-х годов, когда по инерции продолжали действовать научные традиции, а инициатива «снизу» в организации научных форм еще не потеряла свою силу, как общероссийское, так и региональное пространство было разнообразнее и включало в себя различные научные общества и др.
Во втором параграфе рассмотрены основные тенденции изучения истории советской науки. Основные проблемы отечественной историографии данной диссертации освещены внутри двух крупных хронологических периодов — советский (1917 - конец 1980-х гг.) и постсоветский (с начала 90-х по настоящее время). Выделены также история изучения советской науки в зарубежной историографии и отдельная группа работ смежных гуманитарных дисциплин, посвященная вопросам науки и научной деятельности. Кроме того, учитывая региональный аспект диссертации, историографический анализ дан па двух уровнях — общероссийском и региональном.
14 Беляев, Е. А., Пышкова, Н. С. Формирование сети научных учреждений СССР. М., 1979. С. 18.
В целом все работы можно сгруппировать по следующим предметам исследования: организация и управление наукой, научными учреждениями; подготовка научных кадров; методологические основания научного творчества ученых. В диссертации сделана попытка проанализировать самую разнообразную литературу, содержащую материал указанной проблематики.
Работы, вышедшие в 20—30-е годы XX века, являлись просветительскими, пропагандистскими, информационными, справочными изданиями 13. В 30-е годы вышло значительное число исследований в рамках проблем истории культурной революции и культурного строительства. В них нашли отражение достижения советской культуры, науки, образования в республиках Северного Кавказа за первые десятилетия Советской власти 16. Начиная с 30-х годов количество публикаций по вопросам культурного строительства в регионе значительно сократилось. Преобладающим видом изданий стали юбилейные сборники 17. Различные по характеру и структуре, они были подчинены одной задаче подведению итогов экономического, политического и культурного развития автономных образований Северного Кавказа. В целом литература 20—30-х годов характеризовалась накоплением исторического материала, который стал источниковой основой для дальнейших исследований.
Для литературы 30—40-х годов характерна унификация подходов к изучению культуры, науки, образования с позиций идеологических стандартов, а также комментаторский стиль научных текстов 18.
Более интенсивная разработка проблемы началась в 50-х годах XX века. Появились монографии, исследующие деятельность коммунистической партии по проведению культурной революции и руководству наукой, науч-
15 Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР. М., 1930; Научные кадры РСФСР. М., 1930; Бейлин, А. Е. Подготовка кадров СССР за 15 лет / под. ред. И. А. Краваля, М.-Л., 1932; Он же. Кадры специалистов в СССР. Их формирование и рост. - М., 1935; Вельмин, В. П. СевероКавказская ассоциация научно-исследовательских институтов (История возникновения и обзор деятельности). Ростов-н/Д, 1927; Он же. Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов. Обзор деятельности в 1927 гг. Ростов-н/Д, 1928; Он же. Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов //Научный работник, 1927, № 5-6. С. 50-58; Воскресенский, А. И,, Сретенский, Н. Н. Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края. Ростов-н/Д, 1927; Гайлис, Я. Р. Основные вехи научной работы на Северном Кавказе. Тезисы доклада. Ростов-н/Д, 1930.
16 Воробьев, С., Сахаров, Д. Кабарда и Еалкария. Посвящается 15-летней годовщине октября. Ростов-н/Д, 1932; Тамбиев, И. Карачай прежде и теперь. Ростов-н/Д, 1931; Кравцов, И. От царской колонии социалистической Черкессии. Ростов-н/Д, 1934; Гусалов, Н. 15 лет социалистического строительства в Северо-Осетинской автономной области. Орджоникидзе, 1935; Дагестан к 15-й годовщине Октября. Махачкала, 1932; Павлов, Д. М., Тахо-Годи, А. А. Десять лет научных работ в Дагестане (1918-1928). Махачкала-Пятигорск, 1928 и др.
" 20 лет автономии ДАССР. Махачкала, 1931; 10 лет Советской Чечни. Ростов-н/Д, 1933; 20 лет Чечено-Ингушской АССР. Грозный, 1939; 20 лет автономии Северной Осетии. Экономическое и культурное развитие Северной Осетии за время Советской власти. Дзауджикау, 1944 и др.
18 Ратнек, К. 20 лет Горского сельскохозяйственного института // Социалистическая Осетия. 1938. 21 декабря; Наниев, В. Юбилей педагогического института // Социалистическая Осетия, 1940. 10 июля; Кулов, С. Д. 25 лет Северо-Осетинскому государственному пединституту (1920-1945 гг.) // Ученые записки Сев.-Осетин, госпединститута. 1948. Т. 17. С. 3-12.
ными учреждениями, высшей школой 19. Первые специальные монографические исследования по истории культурного строительства народов Северного Кавказа появились на рубеже 50—60-х годов. Проблемно-хронологический подход к изучению культурно-исторических процессов стал традиционным для всего последующего периода историографии. В литературе этого периода была проведена систематизация материала по основным направлениям культурного строительства.
Важным шагом на пути дальнейшего изучения проблемы стало издание историй народов Северного Кавказа, в которых вопросы науки и высшей школы исследовались в общеисторическом контексте, в структурной взаимосвязи с социально-экономическими и политическими процессами 20.
Именно в этот период местные ученые перешли к более детальному изучению отдельных исторических этапов развития науки в контексте культурного строительства 21.
В дальнейшем научное сообщество также не стало предметом самостоятельного исследования, однако контекст культурно-исторических процессов, в том числе и истории науки в регионе был расширен. Духовная жизнь общества стала как одна из составных частей всей общественной жизни, успешное функционирование которой невозможно без материальной поддержки государства 22.
На протяжении 60-80-х годов проблема партийно-государственной политики в сфере науки освещалась во многих научных статьях, обобщающих
" Чуткерашвили, Е. В. Развитие высшего образования в СССР. М., 1961; Он же. Кадры для науки. М., 1968; Елютин, В. В. Высшая школа СССР за 50 лет. М., 1967; Галкин, К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров СССР. М., 1958; Абилов, А. А. Борьба коммунистической партии за осуществление культурной революции в Дагестане. Махачкала, 1957; Он же. Очерки
советской культуры народов Дагестана. Махачкала, 1958; Каймаразов, Г. Ш. Великая Октябрьская социалистическая революция и культурное строительство в Дагестане. Махачкала, 1959; Цуци-ев, Б. А. Экономическое и культурное развитие Северной Осетии за годы советской власти. Орджо-ннкидзе, 1959; Дедегкаев, С. Т. Культурное строительство в Северной Осетии. Орджоникидзе, 1964; Бербеков, X. М. Советская автономия Кабарды и Балкарии. Нальчик, 1961. 211 Очерки истории Дагестана. В 2 т. Т. 2. / ред. кол. Г. А. Данялов и др. Махачкала, 1957; История Кабарды с древнейших времен до наших дней / ред. кол. Н. А. Смирнов и др. М., 1957; Бербеков, X. М. Очерки истории советской Кабардино-Балкарии / под. ред. М. П. Кима. М., 1958; История Северо-Осетинской АССР. Советский период. Орджоникидзе, 1966; Очерки истории Чечено-Ингушской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2 т. Т. 2. 1917-1970 гг. / ред. кол. М. С. Тотоев и др. Грозный, 1972; Очерки истории Карачаево-Черкесии. В 2 т. / отв. ред. P. X. Джа-нибекова. Черкесск, 1972.
21 Джанаев, А. К. Северная Осетия в период восстановления народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) // Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1960. Т. 22. Вып. 4. С. 32-66; Черджиев, X. С. Решающие успехи культурной революции в Северной Осетии (1933-1941 гг.) // Там же. С. 109-121; Рехвиашвили, И. И. Культурное строительство в Горской Республике (1920-1924 гг.) // Оттиск из Ученых записок СОГПИ. Орджоникидзе, 1967. Т. 28. Вып. 2.
!! Умаханов, М.-С. И., Алиев Г.-К. Ш. Советы депутатов трудящихся в борьбе за подъем экономики и культуры народов Дагестана. Махачкала, 1960; Казмахов, И. М. Роль государственного бюджета в развитии экономики и культуры Кабардино-Балкарской АСССР. Нальчик, 1968; Тарчоков К. X. Роль Технико-экономического прогресса в подъеме культурного уровня трудящихся. Нальчик, 1972; Арутюнов, А. А. Местные советы и культура села на современном этапе. Грозный, 1975.
коллективных трудах, монографических и диссертационных исследованиях 23. Впервые ученые стали говорить о трудностях и ошибках процесса становления советской науки, хотя эти проблемы, как правило, объяснялись объективными сложностями становления и роста советского общества. Акцент делался на их успешном преодолении благодаря правильному руководству В.И. Ленина, партии большевиков, а также преимуществам социалистического строя и растущей государственной поддержке ученых. При этом, однако, многие болезненные процессы в сфере науки в 20—30-е гг., вызванные радикальными политическими и социальными переменами, губительное воздействие моноидеологии, острые столкновения между властью и учеными игнорировались, смягчались либо преподносились упрощенно 24. В них односторонне освещались достижения советской высшей школы, в том числе и научной деятельности.
Из обширной историографии проблемы наибольшую ценность представляют работы, относящиеся к первым годам послереволюционных преобразований, поскольку в них дается более достоверная, хотя и далеко не полная картина взаимоотношений между правящей партией, советским государством и наукой, ее деятелями. На наш взгляд, плодотворными были попытки Б.М. Кедрова, Ю.С. Мелещенко и C.B. Шухардина, А.Д. Педосова обобщить идеи и представления первых советских государственных деятелей о развитии науки и научно-технического прогресса 25. В работах E.H. Городецкого и Э.Б. Генкиной затрагивалась законотворческая и организаторская деятельность Ленина по руководству научным строительством в годы советской власти и преобразований в науке. Некоторые направления научного строительства в 1917-1924 гг. раскрывались в очерках С.И. Мокшина 26.
История организации и развития науки в изучаемом регионе начиная с 60-х годов также получила новый импульс, особенно в контексте восстановления научного статуса краеведения. Успешно разрабатывались проблемы
и КПСС и научно-технический прогресс: указатель советской литературы, изданной в 1918-1974 гг. Свердловск, 1975; Развитие советской науки за 50 лет : указатель юбилейной литературы. М., 1972; КПСС и научно-технической прогресс : список литературы, изданной в 1975-1980 гг. Свердловск, 1982; Чанбарисов, Ш. X. Формирование советской университетской системы (1917-1938 гг): дисс. ... д-ра ист. наук. Уфа, 1973; Сопьянниченко, II. С. Партийное руководство высшей школой в 19361941 гг ; дисс. ... канд. ист. наук. М., 1978 и др.
24 Ленин и наука. М., 1960; Ленин и современная наука. 1870-1970. В 2 кн. М., 1970; Октябрь и научно-технический прогресс. М., 1977; Октябрь и наука (1917-1977): сб. статей. М., 1977; Советская наука: итоги и перспективы. М., 1982; Украинцев, В. А. КПСС- организатор революционного преобразования высшей школы и решения проблемы подготовки квалифицированных кадров. М., 1965; Сафразьян, Н. Л. Борьба КПСС за строительство советской высшей школы (1921-1927 гг.). М., 1977; Беляев, Е. А. КПСС и организация науки в СССР. М., 1982 и др.
25 Мелещенко, Ю. С., Шухардин, С. В. В.И. Ленин и научно-технический прогресс. Л., 1969; Педосов, А. Д. Партия большевиков и технический прогресс. М., 1969; Кедров, Б. М. Ленин, наука, социальный прогресс. М., 1982.
26 Городецкий, Е. Н. Рождение Советского государства. 1917-1918 гг. М., 1965; Генкина, Э. Б. Государственная деятельность В.И. Ленина. 1921-1923 гг. М„ 1969; Мокшин, С. И. Семь шагов по земле. Очерки становления и развития советской науки. 1917-1924 гг. М., 1972.
духовной жизни 20—30-х годов учеными Кабардино-Балкарии. В монографиях М.Х. Герандокова, Х.И. Хутуева, наряду с охватом всех важнейших культурно-исторических процессов в Кабардино-Балкарии на большом фактическом материале рассматривались такие малоизученные вопросы, как научно-просветительская работа, подготовка научных кадров, становление вузов и научных учреждений 27.
Вопросы подготовки научных кадров в Чечено-Ингушетии в 20-30-е годы достаточно подробно освещены в исследовании 3. К. Джамбулатовой 28 в контексте формирования национальной интеллигенции. В основном в работе показана роль науки в культурном строительстве наряду с искусством и образованием. В связи с этим обширный статистический и архивный материал, использованный в монографии, был привлечен лишь в качестве иллюстративного материала. Несмотря на субъективную, приукрашенную оценку состояния научных кадров Чечено-Ингушетии, при отсутствии других подобных исследований книга З.К. Джамбулатовой по-прежнему наиболее полно освещает этот вопрос.
Историография этого периода в рамках исследований по истории культуры в Дагестане представлена целой группой работ29. Так, в книгах Г.Ш. Кай-маразова и А.Д. Даниялова, наряду с изучением традиционной культуры, затрагиваются вопросы в исследовании достижений народов Дагестана в области просвещения и науки. Исследования М.Д. Адухова и М.М. Джамбула-това были специально посвящена вопросам становления и развития науки в республике. В частности Джамбулатовым достаточно полно освещена история сельскохозяйственного института. В монографии прослеживается история организации института, характеристика кадров научной интеллигенции.
Вопросы научного строительства в Северной Осетии в 20-30-е годы затрагивались в монографии Б.С. Кулова 30. Однако эта проблема рассматривалась как часть анализа главных направлений культурного строительства, особенностей и своеобразия его осуществления в условиях Северной Осетии. В исследовании показано влияние процесса становления национального самосознания народа на формирование научного пространства республики.
Некоторым образом вопросы истории взаимоотношений власти и ученых в 20-30-е гг. XX в. затронуты в литературе по истории советской интеллигенции. Быстро развиваясь в 1960-80-е гг. в количественном, тематическом и
27 Герандоков, М. X. Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1917-1940 гг.). Нальчик, 1975.
2" Джамбулатова, 3. К. Культурное строительство в советской Чечено-Ингушетии (1920-1940 гг.). Грозный, 1974.
" Каймаразов, Г. Ш. Очерки истории и культуры народов Дагестана (Со времени присоединения к России до наших дней). М., 1971; Даниялов, Г. Д. Строительство социализма в Дагестане (19181937 гг.). М., 1988; Адухов, М. Д. Краткий очерк развития дагестанской советской науки. Махачка-
ла, 1975; Джамбулатов, М. М. Дом кадров - Вузгородок-Сельхозинститут. Махачкала, 1973. 10 Кулов, Б. С. К высотам культуры. Орджоникидзе, 1979.
качественном отношении, историография советской интеллигенции одновременно задавала общий вектор изучения данной проблемы и во многом определяла его методологию. В работах С.А. Федюкина, B.C. Волкова, М.Е. Главацкого, Ф.Н. Заузолкова, В.Л. Соскина и других историков раскрывалась политика и дифференцированная тактика РКП(б) - ВКП(б) по отношению к различным группам интеллигенции, деятельность партийно-государственных органов и общественных организаций по созданию новой, советской интеллигенции на общесоюзном и региональном конкретно-историческом материале и на примере отдельных профессиональных групп, среди которых особое место занимала научная интеллигенция 31. Особо выделялась проблема привлечения старых специалистов, в том числе ученых, к хозяйственному и социально-культурному строительству, вопрос о формах и методах их перевоспитания. Вопросы состава, общественного положения, профессиональной организации и деятельности научной интеллигенции, ее идейно-политического облика стали предметом исследования Б.Д. Лебина, В.А. Ульяновской, Л.В. Ивановой 32.
В рамках изучения истории советской интеллигенции рассматривала различные стороны истории советского научного сообщества и региональная историография начиная с конца 1950-х годов. Первые публикации такого рода принадлежат Д.А. Дзагурову и С.Т. Дедегкаеву. В небольшой работе Д.А. Дзагурова проанализирована роль основанного в 1925 году СевероОсетинского научно-исследовательского института 33. Более обстоятельно была изучена история становления отечественной интеллигенции в Северной Осетии С.Т. Дедегкаевым 34.
В 60-70-е годы были опубликованы монографические исследования по целому ряду проблем, связанных с историей формирования национальных отрядов интеллигенции, в число которой входили и научные работники 35. Наиболее обстоятельно изучались основные этапы становления, отдельные
31 Федюкин, С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. М., 1972; Заузолков, Ф. Н. Коммунистическая партия - организатор создания научной и производственно-технической интеллигенции СССР. М., 1973; Гловацкий, М. Е. КПСС и формирование технической интеллигенции на Урале (1926-1937 гг.). Свердловск, 1973; Соскин, В. Л. Ленин, революция, интеллигенция. Новосибирск, 1973; Советская интеллигенция: краткий очерк истории (1917-1965 гг.). М., 1977.
32 Лебин, Б. Д. В.И. Ленин и научная интеллигенция. М.-Л., 1966; Он же. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров. М.-Л., 1966; Ульяновская, В. А. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917-1937. М., 1966; Иванова, Л. В. Формирование советской научной интеллигенции (1917-1927 гг.). М., 1980.
33 Дзагуров, Д. А. Роль СОНИИ в экономическом и культурном развитии СОАССР II Оттиск XX тома Известий СОНИИ. Орджоникидзе, 1957.
34 Дедегкаев, С. Т. Борьба Коммунистической партии за создание советской национальной интеллигенции Северной Осетии //Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1957. Т. 19. С. 76-100.
35 Эфендинев, А.-К. И. Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.). Махачкала, 1960; Хачиров, А. К. О формировании осетинской интеллигенции. Орджоникидзе, 1964; Бекижев, М. М. Формирование социалистической интеллигенции у народов Северного Кавказа (1917-1941 гг.). Черкесск, 1978.
направления деятельности интеллигенции по экономическому и культурному строительству в регионе. Обобщающим исследованием по истории формирования и развития национальных отрядов интеллигенции в республиках Северного Кавказа является монография Г.Ш. Каймаразова 36. Рассматривая широкий круг вопросов: привлечение старых специалистов к хозяйственному строительству, подготовку кадров в период восстановления народного хозяйства, развертывание и совершенствование процесса подготовки национальной интеллигенции, Г. Ш. Каймаразов подробно исследует закономерности и особенности этих процессов в национальных образованиях региона.
Исследователи отмечали, что к концу 30-х годов в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии была в основном решена проблема создания национальных отрядов интеллигенции. Однако Э.А. Шеуджен в своем исследовании справедливо подчеркивал, что за такой короткий срок многогранная и сложная задача создания кадров, в том числе и научных, в национальных районах Северного Кавказа могла быть решена весьма приблизительно и только по основным направлениям 37.
Одним из направлений в историографии научного строительства в регионе явилась история становления высших учебных и научных учреждений в национальных образованиях Северного Кавказа. Как правило, издания по этой тематике были приурочены к юбилейным датам или же в них подводились итоги работы научных и учебных учреждений за определенный промежуток времени 38. В этот период времени исследователи обращают внимание на написание истории отдельных вузов 39.
Статья Г.И. Цибирова, в которой обобщается опыт работы научно-педагогических учреждений Северной Осетии в исследуемый период, удачно восполняет пробел в исследованиях по вопросам подготовки научных кадров 40. Значительное внимание в статье уделено проблемам, с которыми столкнулись на начальном этапе становления первые вузы Северной Осетии: Политехнический институт и Терский институт народного образования. В ста-
-1(1 Каймаразов, Г. Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном Кавказе (По материалам Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР). М.,1988.
31 Шеуджен, Э. А. Советская историография национально-культурного строительства на Северном Кавказе. Г'остов-н/Д, 1988.
-1В Дядькин, В. К 25-летию существования Северо-Осетинского государственного педагогического института имени К.Л. Хетагурова// Вопросы истории. 1946. № 10. С. 144—145; Кулов, С. Д. 25 лет Северо-Осетинекому пединституту (1920-1945 гг.) // Ученые записки Северо-Осетинского гос. пединститута. 1948. Т. 17. С. 3-12; Чибиров, X. Т. 45 лет СОГПИ имени К.Л. Хетагурова// Ученые записки Сев.-Осетин гос. пединститута. 1967. Т. 27. С. 3-10.
Авилов, А. А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина: исторический очерк. Махачкала, 1973; Магидов, А. М. Дагестанский педагогический. Махачкала, 1981. Занги-ев, Д. Б. Кузница специалистов цветной металлургии (К истории создания СКГИМ) // Известия СОНИИ. Орджоникидзе, 1970. Т. 28. С. 197-124.
40 Цибиров, Г. И, Развитие науки и научных учреждений в Северной Осетии в переходный период // Северная Осетия; история и современность / ред. кол. А.Г. Кучиев и др. Орджоникидзе, 1989.
тье отмечаются основные события в жизни этих вузов, анализируются меры по совершенствованию научных исследований, учебного процесса и подготовки кадров для народного хозяйства. Статья Г.И. Цибирова является первой попыткой обобщения опыта по созданию в Северной Осетии кадров интеллигенции черев высшие учебные заведения.
Научная деятельность высших учебных заведений получила отражение в отдельных статьях исследователей 41. Они носили достаточно узкую направленность и не отражали объективного процесса развития науки.
История изучения научно-исследовательских институтов была представлена отдельными статьями, посвященными юбилейным датам образования научных учреждений или деятельности выдающихся ученых 42.
Большую роль в развитии научно-исследовательской работы региона сыграл Северо-Кавказский научный центр высшей школы (СКНЦВШ), образованный в 1969 г., председателем совета центра стал ректор Ростовского университета, член-корреспондент АНСССР Ю.А. Жданов. Результаты научных исследований находили отражение в Известиях СКНЦВШ, где анализировались проблемы науки и высшей школы 43. Привлекает внимание статья М.П. Земзина, в которой отражены основные этапы развития вузовской науки Северного Кавказа в течение 20-70-х гг. XX в., преимущественно Дона и Кубани 44. Представляет интерес сборник «Северо-Кавказский научный центр -народному хозяйству». В нем рассматриваются основные направления деятельности многонационального коллектива ученых СКНЦВШ в области социально-экономического и научно-технического прогресса на Северном Кавказе, координации и совершенствования прикладных и фундаментальных исследований в вузах и научных учреждениях региона, расширения вклада вузовской науки в народное хозяйство страны 43.
Начальный этап разработки советской научной политики и научного строительства (1917—1922 гг.) всесторонне рассматривался в монографии М.С. Бастраковой 45. В ней показаны положение и организация науки в начале XX в. и в предоктябрьский период, проекты и попытки ученых по ее ре-
41 Берикетов, X. Г. Историческая наука на Северном Кавказе (1954-1965 гг. ). Нальчик, 1966; Абилов, А. А. Наука служит народу // К высотам социалистической культуры. Махачкала, 1967; Жданов, Ю. А. О Северо Кавказском научном центре высшей школы // Проблемы высшей школы. Воронеж, 1973 и др.
42 Мамбетов, Г. X. Кабардино-Балкарскому научно-исследовательскому институту - 50-лет. Нальчик, 1976; Биюков, М. И.-А., Гочияева С. А., Шаманов, И. М. Карачаево-Черкесскому аучно-исследова-тельскому институту - 50-лет. Черкесск, 1982; Пинчуков, В. М. СНИСХУ - 50 лет // Вестник сельскохозяйственной науки. 1982. № 8; и т. д.
43 Жданов, Ю. А. Региональная организация вузовской науки //Вестник Академии наук СССР. 1976. № 11. С. 37-41; Он же. Вузовский региональный центр науки // Коммунист. 1979. № 14. С. 29-30.
44 Земзин, М. Н. Из истории организации вузовской науки на Северном Кавказе // Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки. 1976. №4. С. 65-70.
45 Жданов, Ю. А. Вузовский региональный центр науки // Северокавказский научный центр -народному хозяйству. Ростов-н/Д, 1985.
46 Бастракова, М. С. Становление советской системы организации науки (1917-1922 гг.). М., 1973.
формированию. Автор подробно освещает создание советской системы организации и управления научной деятельностью, структуру и функции общегосударственных и ведомственно-отраслевых органов по руководству наукой, становление и развитие сети научно-исследовательских учреждений различного типа и профиля. В работе отмечалось, что основополагающим партийно-советским принципом научной политики стало централизованное государственное руководство наукой. Он изначально был заложен не с одобрения ученых, а по воле большевистского руководства и стал «краеугольным камнем» научного строительства.
Вопросы государственного руководства наукой в годы первой пятилетки освещались в монографии В.Д. Есакова 47. В историографии тех лет не принято было подвергать сомнению командно-бюрократические, принудительные методы реорганизации, не ставился вопрос о последствиях жесткого подчинения науки запросам производства, обходилась тема политизации науки и борьбы с «вредительством». Развитие сети учреждений науки за все годы социалистического строительства прослежено Е.А. Беляевым и Н.С. Пышко-вой 8. Начальный советский период в истории Академии наук обобщенно отражен в двухтомном труде Г.Д. Комкова, Б.В. Левшина и Л.К. Семенова. Этому периоду посвящались монографии A.B. Кольцова, в которых подробно анализировались важнейшие аспекты развития Академии наук — государственное управление, развитие сети учреждений, филиалов и баз, изменения в Уставе и персональном составе, финансирование, планирование, роль общественных организаций, основные результаты исследовательской, экспедиционной и издательской деятельности, международные связи 45.
Начавшееся со второй половины 80-х гг. интенсивное изучение ранее запретных тем истории советской науки в основном концентрировалось вокруг проблемы власти и науки, которая довольно быстро трансформировалась в более широкую проблему функционирования науки в условиях тоталитарного государства. Первым результатом ее изучения стало появление в конце 80-х — начале 90-х гг. большого числа публикаций, на новом материале освещавших различные аспекты истории советской науки. Резонанс в научном сообществе вызвала статья сотрудников Ленинградского отделения Института истории естествознания и техники АН Д.А. Александрова и Н.Л. Кре-менцова в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», в которой были обозначены многие назревшие вопросы изучения социальной истории советской науки и содержались некоторые предварительные
"*7 Есаков. В. Д. Советская наука в годы первых пятилеток. Основные направления руководства наукой. М., 1971.
4К Беляев, Е. А., Пышкова, Н. С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР. М., 1979.
Комков, Г. Д., Левшин, Б. В., Семенов, Л. К. Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. В 2 т. М., 1977; Кольцов, А. В. Ленин и становление Академии наук как центра советской науки. Л., 1969; Он же. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926-1932 гг. Л., 1982.
оценки50. Несмотря на спорность отдельных положений и обобщений, статья способствовала разрушению старых историографических штампов и намечала направление дальнейших исследований. В статьях, помещавшихся в исторических, научных, научно-общественных и литературно-общественных журналах, раскрывались малоизвестные и забытые страницы из истории взаимоотношений власти с учеными, истории научных учреждений (в частности, Академии наук), биографий ученых, идеологических и политических репрессий в науке.
В это время обозначилось новое направление - социальная история советской науки, ставшее ведущим в историографии последнего десятилетия и включавшее исследование различных аспектов взаимоотношений между государством и наукой, учеными и властью в условиях тоталитарного режима.
Уже в первой половине 90-х гг. вышли первые работы по этой многоплановой проблеме. В них выявлялись истоки и механизм управляемой науки, последствия политико-бюрократического руководства, широко раскрывался феномен репрессированной науки 51. Постановочный, методологический характер имела вводная статья редактора двух сборников «Репрессированная наука» М.Г. Яро-шевского, в которой показано влияние сталинизма на судьбы отечественной науки. В конце 80-х — начале 90-х гг. наметились три основных направления, так или иначе отражавшие различное отношение исследователей к советской истории, менявшуюся общественно-политическую ориентацию и научную позицию. Условно их можно назвать традиционно-позитивистским, радикально-не-гативистским и объективистским. Первое из них довольно быстро утратило свое прежнее безраздельное положение и оказалось вытесненным на историографическую периферию под усиливавшимся натиском представителей новой, ради-кально-негативистской волны. Однако возраставшая вначале популярность и тем более научная продуктивность этого направления вскоре также стали падать, поскольку слишком очевидной становилась его полемическая заостренность, предвзятость и политическая ангажированность. Выход из вновь возникшего историо-графического кризиса предложили сторонники третьего, объективистского направления, стремящиеся к преодолению крайностей в оценке исторического прошлого и воссозданию реального процесса научного строительства в 20—30-е годы во всей его сложности и противоречивости.
Деятельность высших органов государственной власти по руководству наукой в 20—30-е гг. в традиционной парадигме рассматривалась в исследованиях С.П. Стрекопытова 52. Л.А. Опенкин также рассматривал исключительно позитивный опыт КПСС по разработке и осуществлению научной политики в пер-
я Александров, Д. А., Кремцова, Н. Л. Опыт путеводителя по неизвестной Земле: Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917-1950 гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 4. С. 67-79.
51 Наука и власть. Сб. статей. М., 1990; Репрессированная наука / под. ред. М.Г. Ярошевского. Вып. 1. Л., 1991; Вып. 2. Л., 1994; Философские исследования. Наука и тоталитарная власть. М.,1993.
" Стрекопытов, С. П. Высший совет народного хозяйства и советская наука. 1917-1932 гг. М., 1990; Государственное руководство наукой в СССР (1936-1958. гг.). М., 1991; История научных учреждений в России (вторая половина XIX - XX вв.). М., 2002.
вые годы советской власти. По его мнению, негативное влияние на развитие науки с середины 20-х гг. стали оказывать искажения ленинских принципов в отношениях со старыми специалистами, а также массовые репрессии 53. В политически менее ангажированной монографии Г.А. Лахтина, вышедшей в 1990 г., выявлены многие характерные черты и особенности развития организационно-управленческих структур науки в 1917 — конце 80-х гг., эволюции методов и функций управления. В работе не затрагивались политическая составляющая, игравшая весьма важную роль в управлении наукой, процесс его бюрократизации, вопрос о статусе научных учреждений и работников, влияние репрессий на кадровый потенциал 54. Характерные черты, утвердившегося в 90-е годы радикаль-но-негативистского направления в историографии присущи работе, посвященной проблеме воздействия политики на науку и научную интеллигенцию в 20-30-е гг., которой уделил большое внимание Л.Г. Берлявский 55. Авторская концепция социальной истории отечественной науки от начала XVIII до конца XX вв. изложена в монографии С.И. Романовского, которая содержит ряд интересных наблюдений, нетривиальных суждений и выводов 56.
В последнее десятилетие XX века вышел ряд исследований по проблемам истории отдельных наук в 20-40-е годы. Например, A.C. Сонин в своей работе подробно осветил истоки и этапы многолетней идеологической кампании в отечественной физике, направленной на борьбу с идеализмом, агностицизмом и релятивизмом, роль ее главных участников в основном философов-марксистов 57. Драматические страницы истории отечественной биологии воссозданы в книгах В.Я. Александрова и С.Э. Шноля 58. В работе Э.И. Колчинского подробно рассмотрены взаимоотношения между марксистской философией, ставшей идеологическим орудием новой власти, и биологией в социокультурном контексте послереволюционной эпохи 39.
Критическому анализу в последнее десятилетие стала подвергаться советская историография истории отечественной науки, развитие которой строилось на принципах классовости и партийности исторической науки 60. Следует отметить наметившуюся в ряде постсоветских работ по истории отдель-
5Л Опенкин. Л. А. Сила, не ставшая революционной (Исторический опыт разработки КПСС политики в сфере науки и технического прогресса. 1917-1982 гг.). Ростов-н/Д, 1990.
54 Лахтин, Г. А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990.
55 Берлявский, Л. Г. Отечественная наука и политика (1920—1930-е гг). Ростов-н/Д, 1996. Романовский, С. И. Наука под гнетом российской истории. СПб., 1999.
" Сонин, А. С. «Физический идеализм»: история одной идеологической кампании. М., 1994.
5" Александров, В. Я. Трудные годы советской биологии. СПб., 1992; Шноль, С. Э. Герои и злодеи российской науки. М., 1997.
ю Кочинский, Э. И. В поисках советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в
20-х - начале 30-х гг.). СПб., 1999.
м Советская историография : сб. статей. М., 1996; Историческая наука в России в XX веке. М., 1997; Артизов, А. Н. Критика М.Н. Покровского и его школы (К истории вопроса) // История СССР. 1991. № 1. С. 102-120; Кривошеев, Ю. В., Дворниченко, А. Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х - начале 30-х гг. XX века // Отечественная история. 1993. № 3. С. 143-158; Овсянников, В. И. Историософские поиски на пороге XXI века : научно-аналитический обзор. М., 1997.
ных наук тенденцию концентрировать внимание на ограничительно-запретительных и репрессивных сторонах научной политики, действительно нанесших колоссальный ущерб развитию науки. Односторонне негативистс-кий подход не отражает реального сложного пути, пройденного советской наукой, и не способствует его глубокому переосмыслению.
В 90-х гг. нарастала интенсивность исследований по истории интеллигенции дореволюционного, советского и постсоветского периодов, происходила смена методологических координат, значительно обогатилась источниковая база, существенно обновилась тематика исследований. Оценка советской историографии варьировалась от умеренно критической до резко негативной. Осваивались и использовались новые методологические подходы к изучению истории отечественной интеллигенции. Утверждалась западно-либеральная концепция, возрождалась старосменовеховская традиция, заявили о себе неомарксистское и неославянофильское направления. Активизация исследований выражалась в возраставшем количестве статей, монографий, диссертаций, документальных публикаций, в заметно оживившихся дискуссиях. На исследования большое влияние оказывают другие, также обновляющиеся гуманитарные науки — философия, социология, социальная психология, культурология 61.
A.B. Квакин исследовал идейно-политическую структуру интеллигенции в годы нэпа, дал характеристику ее основных слоев и групп, принципиально не отличающуюся от той, что уже давно утвердилась в исторической литературе 62. В книге В.А. Куманева обобщены многочисленные факты принуждения, насилия и террора власти по отношению к интеллигенции в 30-е годы 63. Оригинальный подход к проблеме представлен в очерках А.Е. Корупаева, посвященных теории и истории интеллигенции в России. Однако содержащийся в них анализ, на наш взгляд, не всегда шубок и часто подменяется заостренной публицистичностью 64.
Проблемам истории отечественной интеллигенции посвящались научные конференции, регулярно проходившие в 90-е гг. и в начале нового века в Екатеринбурге, Иванове, Новосибирске, Петербург. На их основе вышло большое число сборников статей и тезисов докладов, издавались и тематические сборники 6S. Некото-
41 Косарева, Л. Н. Социокультурный генезис науки: философский аспект проблемы. М., 1989; Злобин, Н. Культурные смыслы науки. М., 1997; Квазин, А. В. Наука в зеркале философии. М., 1990; Наука в культуре. М., 1998 и др.
62 Квакин, А. В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период НЭПа
(1921-1927). Саратов, 1991.
ы Куманев, В. А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991. м Корупаев, А. Е. Очерки интеллигенции России. В 2 ч. М., 1995.
" Российская интеллигенция. Страницы истории : межвузов, сб. науч. тр. СПб., 1991; Судьбы российской интеллигенции : мат-лы дискусс. 1923-1925 гг. Новосибирск, 1991; Российская интеллигенция: XX век : тез. докл. и сообщ. науч. конф. Екатеринбург, 23-24 февраля 1994. Екатеринбург, 1994; Интеллигения.Общество.Власть: опыт взаимоотношений (1917- конец 1930-х гг.): сб. науч. тр. Ново-сибисрк, 1995; Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века : тез. докл. и сообщ. науч. конф. Санкт-Петербург, 19-20 марта 1996. СПб., 1996; Интеллигенция России: традиции и новации : тез. докол. межгос. научн-теор. конф. Иваново, 25-27 сентября 1997. Иваново, 1997; Русская интеллигенция: история и судьбы. : сб. науч. ст. Вып. 1. М., 1999; Вып. 2. М, 2000.
рые из публикаций, помимо конкретно-исторического анализа, содержали обобщения и выводы, с определенной коррекцией применимые ко всем группам интеллигенции, в том числе и к научным работникам.
В начале 90-х годов XX в. ситуация в отечественной исторической науке определялась методологическим кризисом, характерным для всего мирового социогуманитарного знания. В России этот кризис усугублялся резкой сменой политической власти. В это время были опубликованы работы, содержащие противоречивые оценки истории развития науки на Северном Кавказе. Это было связано с тем, что новые, закрытые ранее источники приводили в смятение исследователей, которым еще не удалось уйти от стереотипов в анализе прошлого. Продолжались выпускаться издания юбилейного характера, где, наряду с общей характеристикой развития учреждения, давался анализ научно-исследовательской работе, подготовке кадров и т. д. Издавались юбилейные статьи и проспекты, посвященные знаменательным датам деятельности вузов и НИИ региона. Однако данные труды отражали современные достижения научных учреждений и ученых и несли информационно-справочный характер 66. Данный период времени характеризовался появлением ряда диссертационных работ, затрагивающих указанную проблему 67.
С начала XXI в. с новых методологических позиций стали переиздаваться истории Северо-Кавказских республик, в которых отдельные параграфы посвящены развитию науки и общественной мысли регионов 68. Приоритетным становится изучение отдельных аспектов проблемы истории науки и научной интеллигенции в диссертационных исследованиях ученых региона 69.
В постсоветский период в местной историографии, наряду с исследованиями по истории науки в контексте общих работ по истории культурной революции и местной интеллигенции в регионе, появились самостоятельные исследования 70,
Волобусва, А. В. Всесоюзный научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства (к 70-летию со времени организации) // Ставропольский хронограф. Ставрополь, 2002; Флагман исторической науки Дагестана / Институт истории археологии и этнографии ДНЦРАН. Махачкала, 1998 и др.
67 Шаркова, Н. Н. Партийно-государственное руководство становлением и развитием высшей школы в
автономных республиках Северного Кавказа (1918-1941 гг.) ; дис. ... канд. ист. наук. М., 1992; Сулей-манов, М. И. Наука в Дагестане в 20-30-е годы XX в. —: дис. ... канд. ист. наук. Махачкала, 1997 и др. г'" История Северной Осетии XX век. М., 2003; История Дагестана. XX век. М., 2004 и др.
Стрекалова, Е. Н. Техническая интеллигенция Северного Кавказа в 20-30-е годы XX в. ; дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2003; Ушмаева, К. А. Развитие высшего исторического образования на Северном Кавказе (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья); дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2004; Наумова, А. Г. Становление и развитие высшего образования на Кубани: исторический аспект (на примере вузов г. Краснодара) (1918-1970 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2005; Новик, Н. Г. Развитие высшего физико-математического образования на Ставрополье (30-е гг. XX в. - конец 90-х гг. XX в.): дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2005; Кононенко, В. М. Развитие высшего образования па Юге России (20-90-е годы XX века) : дисс. д-ра ист. наук. Ставрополь, 2006 и др.
70 Киселева, Н. В. Добровольные общества как социальный институт первого послереволюционного десятилетия. Ростов-н/Д, 2002; Данилов, А. Г. Интеллигенция Юга России в конце XIX - начале XX в. Ростов-н/Д, 2000; Герандоков, М. X., Герандокова, В. 3. Культурная революция в национальных регионах: мифы и реальность. Нальчик, 2003; Мамсиров, X. Б. Модернизация культур народов Северного Кавказа в 20-е годы XX века (На материалах Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии). Нальчик, 2004 и др.
посвященные истории высшей ¿иколы и науки 71. Данные исследования с новых методологических позиций затрагивают процесс развития науки и научных учреждений, подготовку научных кадров в России и на Северном Кавказе.
Междисциплинарный характер предмета исследования потребовал изучения ряда науковедческих работ, написанных философами, социологами, деятелями науки 72. Новые подходы к организации и деятельности научных учреждений, определению их места в социокультурном пространстве помогают увидеть работы по философии науки 73. С философских позиций осмыслены проблемы науки в культуре и современной цивилизации; эволюция науки; структура научного знания; наука как социальный институт и др.
В зарубежной историографии предметное исследование истории науки в России началось в послевоенное время. Особое влияние на становление указанной проблемы оказали работы Дж. Бернала, Л. Грэхема и др.74 Вопросам создания партийно-государственного контроля науки в первые годы советской власти уделил особое внимание К. Аймермахер. Противостояние власти и ученых в отечественной биологии, олицетворявшееся двумя фигурами -Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко и приведшее, в конечном счете, к запрету научной генетики, подробно показано в книге В.Н. Сойфера 73.
Таким образом, в воссоздании неполитизированной и более объективной истории научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья в один из драматических периодов развития региона сделаны первые шаги, определены отдельные разрозненные сюжеты. Специальной работы по указанной проблеме пока не было, что определило выбор темы исследования.
" Булыгина, Т. А. Общественные науки в СССР 1945-1985 гг. М., 2000; Татур, К. Т. Образовательная система России: высокие исследовательские технологии и проблема качества подготовки специалистов. М., 1999; Ситько, Р. М. Университетское педагогическое образование на Юге России: история и современность. Ростов-н/Д, 2000; Берлявский, Л. Г. Власть и отечественная наука (19171941 гг.) Ростов-н/Д, 2004; Ищенко, В. А., Перковская, Г. А., Топчиева, В. И., Ушмаева, К. А. Историческое образование в России конец XIX - начало XXI в. Ставрополь, 2005; Кононенко, В. М. Высшая школа Юга России (20-90-е годы XX века). Ставрополь, 2005; Еремеева, А. Н. Российские ученые в условиях социально-политических трансформаций XX века. СПб., 2006 и др. 11 Шаповалов, В. А. Высшее образование в системе культуры. Ставрополь, 1996; Он же. Высшее образование: современные модели, перспективы развития. Ставрополь, 1996; Он же. Высшая школа в социокультурном контексте. М„ 1997; Он же. Высшая школа в зеркале социологии. Ярославль, 1997.
" Огурцов, А. П. Социальная история науки: стратегии, направления, проблемы // Принципы историографии естествознания: XX в. / отв. ред. С. Тимофеев. СПб., 2001. С. 34-67; Томпсон, М. Философия науки. М., 2003; Кохановский, В. П., Лешкевич, Т. Г., Матяш, Т. П., Фахти, Т. Б. Основы философии науки. Ростов-н/Д, 2004; Степени, В. С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004; Ильин, В. В. Философия науки. М., 2004 и др.
и Бернал, Дж. Наука в истории общества. М., 1956; Аймермахер, К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932 гг. М, 1998; Graham, LR. Science in Russia and the Soviet Union A Short Histori-Caonbidal. 1993. P. 198; Грэхем, Л. P. Естествознание // Философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М, 1991 и др.
75 Сойфер, В. Н. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. М., 1993.
Во второй главе, «Становление системы высшей школы как центра науки нп Северном Кавказе (1918-1940 гг.)», состоящей из трех параграфов, анализируются геополитические, этнотерриториальные, экономические и другие факторы, повлиявшие на процесс становления научного пространства Северного Кавказа; отмечается специфика процесса формирования и развития вузовского сектора науки в 20—30-е годы XX века.
К 1917 году были определены основные черты подготовительного периода становления научного пространства на Северном Кавказе. Отсутствие общегосударственной политики в сфере науки предопределило преимущественно экстенсивный характер развития всей российской научно-образовательной системы, в том числе и на Северном Кавказе. Этот процесс осложнялся специфическими социально-культурными факторами региона. Слабое развитие местных городов и небольшой срок пребывания в составе Российского государства многих национальных территорий Северного Кавказа (вследствие их позднего вступления) не позволял активно включаться в экономическую и культурную жизнь страны в качестве «полноправной» провинции. Поэтому наиболее развитыми центрами экономической, политической, научно-образовательной, культурной жизни региона выступали города края, Ставрополь, Пятигорск, Владикавказ. Определенную роль играла удаленность от крупных научно-образовательных центров, прежде всего от столиц, по сравнению с другими областями европейской России, которые превосходили Северный Кавказ в «ресурсном» обеспечении. Основными центрами получения образования являлись низшие и средние учебные заведения, гимназии, которые имелись во всех крупных городах региона. Однако отсутствие высших учебных заведений и подготовки специалистов на местах, приводило к кадровой и научной интервенции ученых на Северный Кавказ, который привлекал их богатыми природными ресурсами как место пересечения различных цивилизаций и культур. В результате формировались определенные территориальные научные общества, которые объединяли ученых-профессионалов различных областей знаний и любителей. (Русское бальнеологическое общество в г. Пятигорске, Историко-филологическое общество в г. Владикавказе и др.). Фактически это были первые организационные структуры научного пространства Северного Кавказа. Определяющее влияние на научное становление региона оказали ведущие российские ученые. (В.Ф. Миллер, М.М. Ковалевский, Н.Я. Марр и др.). Они на местах создавали свои научные школы и способствовали грамотному становлению региональной науки и образования. Центральными направлениями исследований явились естественно-научные и гуманитарные проблемы. Это было вызвано отсутствием материальной базы для прикладных изысканий, их слабому финансированию, отсутствием специальной подготовки кадров, неразвитым образовательным пространством Северного Кавказа, низким уровнем грамотности местного населения. Социально-экономические условия дореволюционного периода, определившие сравнительно низкий технологический
уровень промышленного и сельскохозяйственного производства, не только не стимулировали, но нередко тормозили научно-технические исследования. Этим в значительной мере объясняется тот факт, что достижения в области прикладных исследований и разработок, имевшиеся в дореволюционной России являлись результатом энтузиазма талантливых одиночек, одержимых стремлением осуществить свои замыслы, идеи, проекты вопреки тем многочисленным препятствиям, которые они встречали. К советскому периоду назрели основные проблемы в формировании научного пространства Северного Кавказа: создание системы высших учебных заведений в крупных городах региона; организация специальных научно-исследовательских учреждений по изучению естественных богатств края и других направлений; подготовка кадров из числа местного населения. В целом данный процесс соответствовал инкубационному периоду становления науки. Вместе с тем в это время были заложены проблемы научных исследований Северного Кавказа в области археологии, этнографии, истории, филологии и естественных наук, которые получили свое развитие в последующий период.
Формирование научного пространства Северного Кавказа в 1918-1940 гг. являлось отражением общегосударственной политики в сфере науки. Процесс организации научных учреждений в регионе проходил в двух направлениях: форсированная организация сети вузов и региональных научно-исследовательских институтов. Специфика создания научного пространства на Северном Кавказе состояла в том, что организованные высшие учебные заведения становились центральными научными учреждениями в регионе. В вузах сосредотаочивалась интеллектуальная элита региона, на базе лабораторий и кафедр осуществлялись научные исследования, велась подготовка кадров научных работников и т. д. На профильности создаваемых высших учебных заведений отражались природно-климатическое положение и аг-рарно-индустриальная экономика региона, а также общегосударственная политика в вопросах культуры. Поэтому первыми высшими учебными заведениями в регионе были институты сельскохозяйственной и педагогической направленности. Особенностью процесса их образования на Северном Кавказе в первой половине 20-х годов было то, что они создавались по инициативе местных властей и содержались по большей части за их счет. Необычайно быстрый рост количества высших учебных заведений в первые послеоктябрьские годы свидетельствовал не только и не столько о размахе культурно-организаторской деятельйости Советской власти и о порыве к знанию со стороны народных масс, а прежде всего о том, что этот процесс шел стихийно, без учета финансовых, научно-хозяйственных и иных возможностей государства и местных властей. Поэтому проблемы недофинансирования привели к реорганизации вузов. В результате этого процесса в указанном регионе вузовскими центрами науки к концу 20-х годов остались 2 института, располагавшихся во Владикавказе: Горский сельскохозяйственный и Горский педагогический. Такого количества учебных заведений было недостаточно для прове-
дения активной научной работы. Тем не менее в этот период времени была заложена основа материальной базы для проведения научных исследований (библиотека, лаборатории, опытные станции и т. д.), сформирован профессорско-преподавательский состав научных работников, наметились направления в организации научной работы.
С конца 20-х годов в результате сталинской установки на «большой скачок», новая экономическая политика была заменена политикой форсированной индустриализации страны и сплошной коллективизации сельского хозяйства. Этот процесс нашел отражение в развитии Северокавказской науки, особенностью которого стало преобладание вузовского сектора над всеми остальными институциональными формами научного процесса. Этому способствовал поворот государственной политики в сфере науки и образования, сориентированный на развитие вузовской системы. Страна в целом, а регион в особенности нуждались в большом количестве квалифицированных специалистов, которых было необходимо подготовить в кратчайшие сроки. На Северном Кавказе этот период сопровождался открытием технических, медицинских институтов, но преобладающую роль играли сельскохозяйственные вузы. В годы первых пятилеток был создан материально оснащенный вузовский сектор науки региона. На организацию научно-образовательных учреждений и их деятельность в 30-е годы XX века решающее воздействие оказывали условия, цели и методы сложившегося тоталитарного режима, установка на завершение создания социалистического общества. В практике научного строительства это означало усиление развития прикладных и естественных наук, как создающих материальную основу социалистической экономики. К началу сороковых годов завершилось начавшееся сразу после Октября 1917 г. по инициативе «снизу» и поддержанное государством строительство высшей школы как научных учреждений Северного Кавказа. Этот процесс носил непоследовательный и форсированный характер. В результате осуществления национальной политики коммунистической партии, деятельности центральных и местных партийных и советских органов, преодолевая трудности, вставшие перед страной после окончания Гражданской войны, несмотря на недостатки и крупные ошибки, связанные с распространением командно-административных методов управления в сфере образования и науки, в национальных республиках Северного Кавказа и Ставрополье была в основном решена задача создания сети высших учебных заведений как научных учреждений, отвечающих потребностям их дальнейшего развития. В 1940 г. эта сеть включала в себя 5 педагогических, 3 сельскохозяйственных, 2 инженерно-технических и 3 медицинских вуза. К особенностям формирования сети вузов как научных учреждений исследуемого региона можно отнести, во-первых, то, что она была организована в советское время, во-вторых, открытие вузов определялось прежде всего практическими нуждами региона, в-третьих, то, что они должны были готовить высококвалифицированные научные кадры прежде всего для своих республик. В целом в дово-
енный период времени высшие учебные заведения стали центральными научными учреждениями в структуре научного пространства региона. Они сосредоточивали в себе основные функциональные характеристики науки и вместе с тем решали две актуальные задачи для региона: подготовка специалистов для народного хозяйства, обладающих навыками научных исследований. Вместе с тем целенаправленная государственная политика по формированию системы научных учреждений способствовала становлению вузовской науки на Северном Кавказе, где ученый играл ключевую роль.
В третьей главе, «Основные направления научных исследований ученых вузов Северного Кавказа», состоящей из двух параграфов, анализируются эволюция и результаты научной деятельности ученых вузов в развитии региона и страны. Начало 20-х годов было сложным этапом в становлении организации научных исследований на Северном Кавказе. Материальные трудности осложняли, но не остановили процесс собственно научного творчества. Центрами исследовательской работы становились высшие учебные заведения, кафедры институтов. Направления исследований в высшей школе укладывались в рамки преподававшихся дисциплин, поэтому строились они не в соответствии со структурой области знании, а со структурой преподаваемых курсов. Исследовательский процесс был в известной мере детищем учебного и ориентировался на цели последнего, хотя и не прямо (подготовка студентов), а опосредованно (через подготовку преподавателей, создание учебных пособий, развитие преподаваемых предметов). Многие научные изыскания, которые велись в промышленности, сельском хозяйстве, также осуществлялись кадрами профессоров и преподавателей высшей школы. На вузы опирались в своей деятельности различные научные общества и краеведческие организации. Перед учеными стояла грандиозная задача - способствовать ликвидации противоречия между громадными возможностями экономического и культурного развития края, располагавшего богатейшими природными ресурсами, и его фактическим состоянием. Наука в 20-е годы делалась в основном учеными «старой» школы, среди которых было немало энтузиастов и по-настоящему крупных деятелей. Типичным явлением того времени была фактически бесплатная работа в экспедициях и лабораториях в качестве сверхштатных сотрудников. Научные сотрудники вузов, кроме основной работы по подготовке специалистов для различных отраслей хозяйства, используя имеющуюся материальную базу, активно проводили научные исследования. Стремление реализовать творческий потенциал в новых политических и экономических условиях был огромен. На содержании направлений научных исследований в первой половине 20-х годов отражались научные пристрастия ученых. Поэтому можно сказать, что научные исследования этого периода времени характеризовались как самодеятельное творчество ученых, продолжавших научные традиции дореволюционного времени.
Со второй половины 20-х годов взятый руководством страны курс на социалистическую реконструкцию, техническую модернизацию народного
хозяйства и культурную революцию предусматривал радикальную переориентацию науки. Установки на перспективу и ближайшие задачи научных учреждений и научно-исследовательской работы в новых условиях были сформулированы в целом ряде партийных и правительственных постановлений. Их смысл состоял в том, что направления, объемы и интенсивность научной работы должны отвечать масштабам и темпам развернувшегося социалистического строительства. Она должна стать частью общего плана развития народного хозяйства и сама строится на плановой основе. Потребность в планировании научной работы носила во многом объективный характер и обуслаовливалась возрастанием роли науки в общественном прогрессе, необходимостью рационального использования увеличивавшихся государственных ассигнований на развитие науки, координацию исследований, прогнозирование возможных результатов их практического применения. Для аграрной экономики Северного Кавказа, его богатых полезных ископаемых, бальнеологических и других природных ресурсов означало их научное изучение и практическое применение в социалистической реконструкции Северного Кавказа. Поэтому научные исследования ученых вузов чаще всего определялись профильностью специализации деятельности кафедр институтов. Фактически в этот период времени произошел процесс определения научной специализации Северного Кавказа в области сельского хозяйства, промышленности, медицины, гуманитарных проблем. Постепенно Северный Кавказ становился всесоюзным научным центром в области цветной металлургии, животноводства, бальнеологии. Созданные в вузах научные школы и направления имели не только региональное, но и мировое значение. Именно в это время началась деятельность многих научных школ, получивших всероссийскую и мировую известность. В ряду наиболее значимых деятелен естествознания Северного Кавказа можно назвать профессора Горского сельхозинститута, действительного члена Германского и Американского ботанических обществ В.Ф. Раздорского, автора теории строительно-механических принципов конструкции органов растений, получившей мировое признание, профессоров-зоологов и защиты растений этого же вуза, Д.А. Тарноградского и Г.Б. Бугданова, геолога С.А. Гатуева, почвоведа A.M. Панкова, своими исследованиями способствовавших научному и экономическому развитию региона. Среди ученых-гуманитариев следует выделить профессоров филологии: Л.П. Семенова, Б.А. Алборова; историков: Б.В. Скитского, Г.А. Кокиева. Особое место в научно-технических исследованиях региона занимали профессора Северо-Кавказского института цветных металлов, обладавшие мировой известностью В.Я. Мостович, В.Г. Агеенков. В основанной ими Центральной научно-исследовательской лаборатории г. Владикавказа решались вопросы цветной и золотоплатиновой промышленности всей страны. Фактически к довоенному периоду и в стране, и на Северном Кавказе были определены государственные механизмы регулирования и содержания научных исследований. Отраслевое подчинение вузов
способствовало жесткому контролю со стороны государства научной работы ученых вузов в необходимом для государства направлении. Повышенное внимание органов государственной власти к развитию естественнонаучного комплекса в определенной мере распространилось и на область гуманитарных наук в других отраслевых институтах региона. В целом научные исследования, проводимые учеными вузов Северного Кавказа, способствовали решению поставленных перед ними государственных задач по развитию производительных сил региона. Фактически в этот период времени произошел процесс определения научной специализации Северного Кавказа в области сельского хозяйства, промышленности, медицины, гуманитарных проблем.
Четвертая глава исследования, «Научно-исследовательские институты Северного Кавказа —региональные центры академической и отраслевой науки в регионе (20-30-е гг. XX века)» — посвящена процессу формирования и деятельности НИИ, организованных в этот период на Северном Кавказе. Особое внимание уделяется институтам краеведения и сельскохозяйственным НИИ. В период 1920—1941 гг. можно выделить три взаимосвязанных этапа в процессе становления и развития научно-исследовательских институтов, которые отражали эволюцию государственной политики в сфере науки, образования и культуры, изменения его стратегического курса и определили основные приоритеты развития научного пространства Северного Кавказа.
В 1920—1925 гг. закладывались основы общегосударственного управления наукой, его региональная структура. В стране и на Северном Кавказе создавались новые типы научных учреждений — научно-исследовательские институты. Особенностью их организации в тот период было то, что они формировались по инициативе «снизу» — научными обществами, существовавшими в регионе. В числе первых были учреждены Бальнеологический институт в г. Пятигорске и Северо-Кавказский НИИ краеведения в г. Владикавказе. В состав научных сотрудников входили ученые, обладавшие опытом научных исследований и проведением методик, полученных от академической дореволюционной науки. Это был период деятельности фанатов и подвижников науки, которые стремились в новых условиях реализовать свой творческий потенциал на благо Родины, Северного Кавказа. Во взаимоотношениях с государственной властью - это было временем продуктивного делового сотрудничества. 1926-1931 гг. стали для отечественной и северокавказской науки периодом крутого поворота, усиления централизации, бюрократизации и политизации управления наукой, годами перестройки научных учреждений. Открываемые на Северном Кавказе научно-исследовательские институты краеведения в национальных областях Северного Кавказа подчинялись планам социалистического и национально-культурного строительства в регионе. Массовое открытие НИИ краеведческой направленности свидетельствовало о нарождении нового и важного качества науки, отражавше-
го во многом новый тип социальной организации. Особенность национальных НИИ состояла в том, что состав научных работников был представлен не титульными национальностями. Это было ученое сообщество, работавшее на условиях совместительства и в вузах и НИИ национальных областей. Кроме того, к краеведческой работе привлекались не только ученые, но и учителя, врачи, инженеры, т. е. специалисты различных отраслей хозяйственной деятельности. Их объединял предмет научных исследований — природное, геологическое, культурное пространство Северо-Кавказского региона. Специфика национальных НИИ краеведения состояла еще и в том, что кроме научно-исследовательских задач они решали образовательные проблемы. Можно сказать, что в тот период они становились центрами гуманитарных исследований региона. В отличие от столичных и центральных НИИ активной политической борьбы власти и ученых в регионе не было в силу относительной аполитичности и малочисленности научных работников. Взаимовыгодное сотрудничество ученых и власти способствовало не только укреплению НИИ, но и подчинению их органам государства. На организацию научно-исследовательских институтов и их деятельность в 1932—1941 гг. решающее воздействие оказывали условия, цели и методы сложившегося тоталитарного режима, установка на завершение создания социалистического общества. В практике научного строительства это означало усиление развитие прикладных и естественных наук, как создающих материальную основу социалистической экономики.
Особое место в формировании научного пространства Северного Кавказа занимали национальные научно-исследовательские институты краеведения.
В отличие от дореволюционного времени становление и развитие краеведческих учреждений происходило в ускоренном, форсированном режиме. Из 15 образованных в конце 20-х — начале 30-х годов национальных НИИ краеведения в России, 9 располагалось на территории Северного Кавказа. В своей деятельности они охватывали широкий спектр проблем, связанных с изучением материальной и духовной культуры местных народов, вопросами экономического и социального развития своих республик. Новая власть рассматривала краеведение как новую науку, противостоящую «старым» дореволюционным отраслям наук и методам исследования, обладавшую при этом признаками научного, учебного, просветительского учреждения. В первой половине 20-х годов научные исследования сотрудников института касались вопросов этнографии, истории, культуры и были слабо связаны с производственно-хозяйственной деятельностью края.
В 30-х годах вопросам краеведения был придан особый характер в научно-образовательной политике государства. С одной стороны, краеведение рассматривалось как научная основа развития народного хозяйства; с другой - краеведение являлось школой массовой подготовки профессиональных кадров. Особое значение институты краеведения сыграли в разработке
грамматик, терминов и понятий, необходимых бытовой и культурной жизни народов. Среди ученых, принимавших участие в этой деятельности особую роль сыграли профессора Н.Ф. Яковлев, Б.А. Алборов, а также члены терминологической комиссии У.Д. Алиев, А.Н. Дьячков-Тарасов, 3. Мальсагов и другие. Такие институты в то время являлись едва ли не единственными исследовательскими очагами, в которых концентрировались первые национальные научные кадры. Данный момент долгое время не терял своей актуальности для национальных территорий Северного Кавказа, так как проблема укоренения в республиканских центрах научных институтов была тесно связана с формированием местной научной интеллигенции. Увеличение числа вузов и НИИ соответственно масштаба научных исследований в регионе привело к сужению научной проблематики институтов краеведения в национальных областях Северного Кавказа. Они постепенно реорганизовывались в институты истории, языка, культуры.
Деятельность научно-исследовательских институтов в 30-х годах XX века строилась в направлении выполнения культурно-идеологического заказа и контроля со стороны партийных и административных органов. Северо-Кавказские НИИ краеведения окончательно перешли, службу государственной идеологии и политики в области культуры, науки, образования. Под влиянием партийно-государственного контроля и новой идеологии определялась научная деятельность Пятигорского Бальнеологического института. Он стал центром Всесоюзного изучения и практического использования природных ресурсов Кавказских Минеральных Вод для улучшения здоровья трудящихся. Сельскохозяйственная наука рассматривалась государством как сырьевой придаток развития промышленности. Примером этому являлась организация деятельности научно-исследовательских институтов хлопководства новых районов СССР и Всесоюзного научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. Аграрная экономика Северного Кавказа позволяла создавать научно-производственную базу для животноводства и хлопководства активно внедрять научные достижения в народное хозяйство. В 1932-1941 гг. в соответствии с партийными директивами и приказами наркоматов, несмотря на сохранившиеся финансово-материальные и кадровые ограничения, значительно выросли объемы научно-исследовательских работ всех научно-исследовательских институтов. Они были направлены на решение народнохозяйственных проблем второй и третьей пятилеток.
Организованные в довоенный период времени научно-исследовательские институты на Северном Кавказе явились результатом целенаправленной государственной политики по рациональному распределению и использованию природных и интеллектуальных ресурсов в интересах осуществления преобразований в стране. Однако если в масштабах всего государства это была сложившаяся Централизованная система организации науки, то на Северном Кавказе создавалось научное пространство, как часть географического, на котором располагались научные учреждения с конкретными задача-
ми исследований регионального или общесоюзного характера. В целом организация и деятельность научно-исследовательских институтов стимулировали интеллектуальное развитие региона. Впервые за всю историю своего существования каждая административная единица Северного Кавказа, обладала научно-исследовательским учреждением, которое, наряду с вузами становилось центром развития региональной и общегосударственной науки.
Пятая глава, «Государственно-правовое регулирование процесса подготовки научных и научно-педагогических кадров», состоящая из трех параграфов, рассматривает специфику, принципы и практику подготовки новых научных кадров, а также социально-экономическое положение научного работника на фоне общегосударственной практики в решении поставленных проблем. Процесс формирования научных и научно-педагогических кадров в 20-30-е годы на Северном Кавказе имел определенные особенности. В отличие от центральных регионов России, где научные традиции были сформированы еще в дореволюционное время, на Северном Кавказе в указанный период годы они только складывались. К общегосударственным проблемам слабого финансирования, нехватки материальной базы для научных исследований, оборудования, лабораторий, неорганизованности в проведении занятий, неопределенность методики научных исследований, постоянно меняющейся законодательной базе о научных и научно-педагогических работников и т. д. добавлялись региональные трудности. В открывшихся высших учебных заведениях, которые являлись основным источников формирования новой научной интеллигенции, процесс получения первичного образования для студентов и аспирантов проходил фактически одновременно. Будущие научные работники на подготовительных курсах и первом году аспирантуры осваивали тот необходимый минимум знаний, который должны были получить в вузе или практической деятельности. Открытие вузов и НИИ сопровождалось проблемой нехватки как квалифицированного кадрового научно-педагогического потенциала для руководства научной работой, так и подготовленного к учебной и научной деятельности состава студенчества и аспирантов.
Сформированные новой властью способы подготовки научных работников через институт стажерства, практикантства, выдвиженчества к полноценным количественным и качественным изменениям не привели. Основной формой создания новой научной интеллигенции оставалась аспирантура. Форсированный набор в аспиранты из представителей коренных национальностей значительных результатов в подготовке научных кадров из местной среды 20-30-е годы не дал. Слишком большой объем социокультурных инноваций требовалось освоить местным социумам, чтобы в полной мере овладеть новыми технологиями и укоренить ранее отсутствовавшие формы социокультурной практики.
Однако с точки зрения социально-классового подхода и марксистского мировоззрения в политике по подготовке научных кадров из рабочих, крес-
тьян, коммунистов и комсомольцев, националов успехи были значительные. Проведенная в 30-е годы практика «чистки» научных и научно-педагогических кадров в вузах и НИИ постепенно приводила к созданию научной интеллигенции из коммунистов и комсомольцев.
Подводя итог, следует отметить, что проблемы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 20-30-е годы на Северном Кавказе можно объединить в следующие группы:
- государственно-правовые, связанные с идеологическим и законодательным регулированием процесса формирования научных работников в России в целом и на Северном Кавказе в частности;
— материальные, включающие в себя финансирование, материальную базу (лаборатории, оборудование, научную литературу и т. д.) вузов и НИИ, осуществляющих подготовку аспирантов;
— социально-культурные, определяющие уровень и качество знаний аспирантов; профессионализм научных руководителей; национально-культурные особенности населения Северного Кавказа;
- научно-методические, составляющие программное обеспечение изучаемых предметов, формы проведения занятий, организацию самостоятельной работы аспиранта, качественных показателей его научной работы.
Вместе с тем организация подготовки научных кадров на Северном Кавказе являлась частью создавшейся общегосударственной системы и воплощала такие черты, как социально-партийная селекция, унификация и регламентация, партийно-идеологический контроль. В целом в указанный период времени были заложены основы процесса формирования интеллектуальной, научной элиты Северного Кавказа, которые получили свое развитие в последующие годы.
Форсированное увеличение численности научных работников, в 20-30-е годы, социальные чистки, занижение профессиональных и применение политических критериев отбора, аттестации и продвижения исключали здоровую конкуренцию в науке и имели следствием снижение уровня квалификации научных кадров. Во взаимоотношениях власти и ученых, в отличие от столичных и центральных научно-образовательных учреждений, активной политической борьбы между ними в регионе не было в силу относительной аполитичности и малочисленности научных работников. Взаимовыгодное сотрудничество ученых и власти способствовало не только укреплению научно-образовательных учреждений, но и подчинению их органам государства. Этот период стал временем усиления централизации, бюрократизации и политизации управления наукой и высшей школой, активным созданием новых научных учреждений. При всей неоднозначности процесс научного строительства на Северном Кавказе к началу 40-х годов продолжал расти по всем направлениям, хотя качественный рост явно уступал количественному. К 1940 г. численность научных работников в регионе выросла примерно в четыре раза по сравнению с концом 20-х годов. Это означало, что научными
исследованиями стала заниматься новая, воспитанная при ином общественном строе генерация научных работников. Тем не менее кадровая проблема в регионе не была решена полностью.
В заключении формулируются выводы и итоги исследования, а также предложены некоторые практические рекомендации по сохранению и развитию современного научного пространства Северного Кавказа.
В приложении к диссертации содержатся сведения о директорах и ведущих ученых высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также таблицы динамики кадрового состава.
Список научных работ, опубликованных по теме диссертации Монографии
1. Калинченко, С. Б. Вузовская наука Северного Кавказа в условиях социально-политических трансформаций российского общества (1918-1941 гг.) . — Ставрополь, 2006. — 9,3 п. л.
2. Калинченко, С. Б. Из истории науки на Северном Кавказе. Научно-исследовательские институты: становление и деятельность (1918-1941 гг.). — Ставрополь, 2006. - 6,2 п. л.
Научные статьи
3. Калинченко, С. Б. Науковедческая проблематика в исторических исследованиях: вопросы методологии // Научная мысль Кавказа. Приложение. №4.-2006.-С. 5-12.-0,5 п. л.
4. Калинченко, С. Б. История научных организаций Северного Кавказа // Обозреватель — Observer. — № 6 (197). — 2006. — 0,5 п. л.
5. Калинченко, С. Б. Роль Горского института Краеведения в становлении научно-образовательного пространства Северного Кавказа // Научная мысль Кавказа. — № 3. — 2006. — 0,6 п. л.
6. Калинченко, С. Б. Институциональное оформление научных учреждений на Северном Кавказе 1918-1927 гг.-(деп. рук. 21.12.2005 № 59582 Москва, ИНИОНРАН).- 1,5 п. л.
7. Калинченко, С. Б. НИИ национальных республик Северного Кавказа как центры становления научно-образовательного пространства в 20—30-е годы XX в. // ЭКО.Экология. Культура.Образование. — № 19—20. — Ставрополь, 2006.-0,5 п. л.
8. Калинченко, С. Б. Особенности Северного Кавказа в научно-образовательном пространстве России (к истории вопроса) : сб. науч. тр. //Актуальные проблемы социогуманитарного знания. Вып. XV. — Ч. 2. — М.: Век книги — 3, 2006,-0,5 п. л.
9. Калинченко, С. Б. Государственно-правовое регулирование формирования кадров научных работников в 20-е годы XX в. (на примере Северно-
го Кавказа) // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета : сб. науч. тр. Вып. 13. — Ставрополь, 2006.-1 п. л.
10. Калинченко, С. Б. Становление вузовской науки на Северном Кавказе // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета : сб. науч. тр. Вып. 14. — Ставрополь, 2006. - 0,5 п. л.
11. Калинченко, С. Б. Становление научно-исследовательской работы в Ставропольском педагогическом институте в 30-е годы XX в. // Ставропольский Хронограф. Краеведческий сборник. — Ставрополь, 2006. — 0,4 п. л.
12. Калинченко, С. Б. Горскому НИИ краеведения - 80 лет // Ставропольский Хронограф. Краеведческий сборник. - Ставрополь, 2006. - 0,8 п. л.
13. Калинченко, С. Б. Особенности развития естественных наук в республиках Северного Кавказа в 1920-1941 гг. (исторический аспект) // ЭКО.Экология.Культура.Образование. — № 21. - Ставрополь, 2006. - 0,5 п. л.
14. Калинченко, С. Б. Роль научных обществ Северного Кавказа в становлении духовной культуры (исторический аспект) // История и перспективы развития православного просвещения на Северном Кавказе: сб. тр. — Ставрополь, 2006. - 0,4 п. л.
15. Калинченко, С. Б., Шаркова, Н. Н. Влияние партийно-государственных органов на педагогический процесс в высшей школе в 20-30-е годы // Научные труды МГПУ им. В.И. Ленина. Серия: социально-политические науки. — М., 1993.-0,2 п. л.
16. Калинченко, С. Б. Взаимодействие власти и общества в Советской России в 20-е годы // Актуальные проблемы российского законодательства : сб. науч. тр. - Ставрополь, СГУ. - 1998. - 0,8 п. л.
17. Калинченко, С. Б. Человек и смысл его существования в советскую эпоху 20-х гг. // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук : сб. науч. тр. Вып. 3. - Ставрополь, 2000. - 0,5 п. л.
18. Калинченко, С. Б. Актуальные проблемы духовного развития человека // Наука Кубани. Вып. 5. — Краснодар, 2000. — 0,4 п. л.
19. Калинченко, С. Б. Высшее образование на Северном Кавказе как элемент толерантности и культуры мира // ЭКО.Экология.Культура.Образование. -№ 6. - Ставрополь, 2002. — 0,4 п. л.
20. Калинченко, С. Б. Государственная политика в области высшего образования: история и современность // ЭКО.Экология.Культура.Образование. - №14-15. - Ставрополь, 2004. - 0,5 п. л.
21. Калинченко, С. Б. Особенности формирования контингента студентов в республиках Северного Кавказа (к истории вопроса) // Труды СГУ. Вып. 68. Гуманитарные науки. Психология и социология образования. - М., 2004. -0,4 п. л.
Отпечатано в ООО «Бюро Новостей», 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/43
Подписано в печать 20.11.2006 г. Формат 60x84/16. Усл. п. л. 2,5. Гартитура «Times». Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 100 экз.
Оглавление научной работы автор диссертации — доктора исторических наук Калинченко, Светлана Борисовна
Введение.
Глава 1. Теоретико-методологические и историографические подходы к исследованию проблемы становления научного пространства Северного Кавказа.
1.1. Методология и понятийно-терминологический аппарат проблемы.
1.2. Историография истории науки в республиках Северного Кавказа и на
Ставрополье.
Глава 2. Становление системы высшей школы как центра науки на Северном Кавказе (1918-1940 гг.).
2.1. Особенности Северного Кавказа в научном пространстве России (до 1918 г.).
2.2. Деятельность органов власти по организации высших учебных заведений на Северном Кавказе в 20-е годы XX в.
2.3. Становление и развитие системы высшей школы в 30-е годы XX в. в регионе.
Глава 3. Основные направления научных исследований ученых вузов Северного Кавказа.
3.1. Развитие вузовской сельскохозяйственной науки.
3.2. Научно-исследовательская работа ученых педагогических, медицинских, технических вузов Северного Кавказа.
Глава 4. Научно-исследовательские институты Северного Кавказа -региональные центры академической и отраслевой науки в регионе (20-30-е гг. XX века).
4.1. Становление и деятельность государственного Бальнеологического института в г. Пятигорске.
4.2. Образование и основные направления работы Северо-Кавказского научно-исследовательского института краеведения.
4.3. Особенности становления и деятельности научно-исследовательских институтов краеведения в республиках Северного Кавказа.
4.4. Развитие науки в сельскохозяйственных научно-исследовательских институтах.
Глава 5. Государственно-правовое регулирование процесса подготовки научных и научно-педагогических кадров.
5.1. Специфика подготовки научных работников в 20-е годы XX в.
5.2. Принципы и практика подготовки научных кадров в 30-е годы XX в.
5.3. Социально-экономическое положение научных работников.
Введение диссертации2006 год, автореферат по истории, Калинченко, Светлана Борисовна
Актуальность темы диссертации обусловлена рядом обстоятельств. В современную эпоху постиндустриального общества проблемы науки и образования, их настоящего и будущего стали весьма актуальными во всем мире. Базой развития нынешней цивилизации являются фундаментальные научные исследования, высокий общеобразовательный уровень населения. Крупные научные открытия всегда были исходным пунктом смены мировоззрений и представлений об окружающем мире и положении в нем человека. Наука и образование стали могучими преобразующими факторами, влияющими на все сферы общественной жизни.
В мировом сообществе начала XXI века невозможно представить себе реально независимую государственную политику, не подкрепленную соответствующим уровнем развития научно-образовательного сектора. Наиболее значимые сферы социальной жизнедеятельности, экономический потенциал и материальное благополучие широких слоев населения, стабильное развитие любого государства оказываются напрямую связанными со степенью формирования и деятельности научно-образовательной системы.
На современном этапе развития России наука становится все более мощной движущей силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, что делает эти сферы жизни общества, одними из важных факторов национальной безопасности страны. Примером значимости роли науки в решении проблем современного мира является Федеральная целевая программа «Интеграция науки и высшего образования России 2002-2006 гг.», которая направлена на развитие научно- технического и кадрового потенциала России, адаптацию его к рыночной экономике; формирование нового мышления в постиндустриальном обществе. Основными направлениями реализации Программы являются обеспечение взаимодействия организаций науки и высшего образования; развитие новых форм научнообразовательной деятельности; закрепление в сфере науки высшего образования и инновационной деятельности талантливой молодежи; развитие информационных технологий в научном и образовательном процессах на основе единой информационной базы; улучшение ее материально-технической основы.
Комплекс современных проблем российского государства, связанных с реформированием сферы науки и образования, заставляет обратиться к опыту прошлого, когда была создана одна из лучших в мире научно-образовательных систем. Если до 90-х годов XX века это была единая, скоординированная система, в основном регулируемая плановыми методами из единого центра, то тенденции развития современных научных учреждений России скорее характеризуются полицентризмом, определенной структурной избыточностью, что приводит к их ослаблению и неэффективной деятельности. Россия, сделавшая за предыдущее столетие невиданный скачок в преодолении неграмотности и научной отсталости, столкнулась в начале третьего тысячелетия с мощной дезинтеграцией отечественных научных структур и угрозой резкого падения престижа науки в стране. Все эти процессы в определенной степени ведут к дестабилизации экономической, политической, социально-культурной ситуации в стране. Один из выдающихся организаторов российской научно-образовательной системы Ю. А. Жданов к факторам нестабильности современного мира относил экологический кризис, истощение природных ресурсов, низкий уровень общенаучных знаний во всех странах, разрыв между развитием богатых и бедных стран, регионов, социальных групп; национальный экстремизм, распространение насилия, терроризм
Представляется своевременным и обращение к истории науки на региональном уровне. Успех национальной науки в значительной степени зависит от развитости научно-организационной инфраструктуры не только в столицах, но и провинции. Преломление указанных проблем на региональном
1 Жданов Ю.А. Региональные проблемы в сфере науки, культуры, образования // Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1996. № 2. С. 34. уровне, особенно в полиэтнической и поликонфессиональной социальной среде Северного Кавказа, в условиях сосуществования традиционных и современных социокультурных институтов, делает эффективность работы научной системы региона особенно актуальной.
Потенциал науки является одним из важных факторов консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны, равноправия культур и различных конфессий, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов, ограничения социального неравенства. Формирование интегрированных научно-образовательных коллективов способствует решению межрегиональных проблем, созданию наукоемкой продукции.
Современное социальное, политическое и экономическое развитие в стране и регионе носит крайне противоречивый характер, что также отражается на культуре, науке, образовании. Этот процесс связан не только с сокращением финансирования на их развитие. В условиях ослабления общегосударственного начала внимание к указанным сферам резко упало. С другой стороны, в регионах, в условиях роста суверенитетов, укрепилась самостоятельность образовательных и научных учреждений, значительно увеличилось число университетов. Современная тенденция «всеобщей университезации» требует научного осмысления и определения базовых процессов и факторов долгосрочного научного развития страны с учетом многообразия проблем в различных регионах России.
К недостаткам организации научных исследований относятся вопросы ведомственной разобщенности высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и других научных учреждений, которые находятся в ведении нескольких органов государственной власти. Это влечет за собой отсутствие взаимодействия, творческого сотрудничества научных коллективов на региональном и федеральном уровнях. Указанные проблемы заставляют обратиться к опыту прошлого с целью выявления истоков такого положения и изучения положительного опыта решения поставленных проблем в этой сфере.
Потребность в комплексном исследовании развития науки на Северном Кавказе вытекает из того, что в довольно обширной современной историко-научной литературе, освещающей различные вопросы социальной истории советской науки, пока еще редки попытки целостного, всестороннего их изучения в широких хронологических и региональных рамках. В то же время для ученых-историков характерно рассмотрение узких сфер научной деятельности без отражения многообразия работы научных коллективов.
Современная историческая наука отличается развитием новых исследовательских практик. Среди них - новая культурная, новая интеллектуальная история, новая локальная история. Рассмотрение истории эволюции науки и ее организации на Северном Кавказе в этих исследовательских полях представляется весьма своевременным.
Таким образом, актуальность представленного исследования определяется, с одной стороны, слабой изученностью с современных методологических позиций вопросов становления, развития и функционирования научно-образовательных учреждений Северного Кавказа, в которых отразились основные тенденции и противоречия научного строительства СССР в тот период. С другой стороны, актуальность темы связана с потребностями современного социального развития как в России, так и в мире. Комплексное изучение данной темы является важной историко-научной и социально-культурной задачей.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1918 по 1940 гг., так как это время было эпохой становления качественно новой системы образования и науки как в стране в целом, так и в изучаемом регионе особенно. В этот период окончательно оформились и утвердились в общегосударственном масштабе и на региональном уровне принципы и формы организации и деятельности научно-образовательных структур, подготовки научных кадров. В этот период выявились основные характеристики взаимоотношений власти и науки.
Данная хронология позволяет увидеть связь научной жизни с важными социокультурными, политическими и экономическими процессами в стране, начиная с Гражданской войны и НЭПа и заканчивая предвоенным пятилетием, в региональном контексте. Несмотря на внутренние особенности развития науки, эти процессы в значительной степени определяли особенности и приоритеты научно-образовательной политики в советском обществе. Незначительное отступление от указанной хронологии в дореволюционный период, предпринятое в первом параграфе второй главы диссертации, необходимо для выявления истоков развития науки на Северном Кавказе с помощью сравнительного анализа. С этой целью в диссертации представлен материал, характеризующий место Северного Кавказа в научно-образовательном пространстве России до установления советской власти в регионе, что позволило выявить условия и предпосылки создания научно-образовательных учреждений, организации ученых сообществ и других специфических институтов науки в последующий период.
Территориальные рамки исследования определены границами современных административных единиц Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. В 1918-1919 гг. на территории Терской области была образована Терская народная республика. После окончания Гражданской войны в соответствии с решениями состоявшихся в ноябре 1920 г. съездов народов Дагестана и Терека были образованы Дагестанская и Горская советские социалистические республики.
Однако в 1921 г. начинаются центробежные процессы, приведшие к созданию на базе Горской ССР Кабардино-Балкарской (1921), Чеченской (1922) автономных областей и выделением г. Грозного с приданием ему прав губернии (1922). В 1924 г. процесс размежевания Горской республики завершился образованием Ингушской и Северо-Осетинской автономных областей и выделением Сунженского округа и г. Владикавказа в самостоятельные административно-территориальные единицы и вступлением всех новых образований в состав Северо-Кавказского края. В 1931 г. в состав этого края вошла и Дагестанская АССР. В 1929 г. Грозный вместе с Сунженским (казачьим) округом вошли в состав Чеченской области. В 1934 г. к ним присоединилась Ингушетия, в результате образовалась Чечено-Ингушская автономная область, Владикавказ, в свою очередь, в 1933 г. был присоединен к Северо-Осетинской автономной области. В 1934 г. Северо-Кавказский край разделился на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края (центр -Пятигорск). В 1936 г., после повышения конституционного статуса трех автономий до уровня автономных республик, они вместе с Дагестанской АССР выводятся из состава Северо-Кавказского края (с марта 1937 г. Орджоникидзевского). Центр края в декабре 1936 г. переносится в г. Ставрополь (Ворошиловск).
Таким образом, административные преобразования 20-30-х годов XX века позволяют объединить в рамках исследования указанные выше территории Северного Кавказа. Автор не касался истории науки Кубани и Дона, которая достаточно изучена отечественной исторической наукой. Кроме того, формирование и развитие науки в Краснодарском крае и Ростовской области представляют собой особое научное пространство, структурные элементы которого отличались определенной завершенностью в исследуемый период, по сравнению с национальными автономиями и Ставропольем. Выбор территории Северо-Кавказских республик помогает выявить специфику процессов создания национального научного пространства Северного Кавказа. Сравнительный анализ истории науки в указанных республиках и истории науки Ставрополья, крайне слабо изученной историками, также способствует решению этой задачи.
Степень научной изученности проблемы. Подробно обзор историографических тенденций по исследуемой проблеме раскрывается во втором параграфе первой главы диссертации. Следует отметить, что в этом обзоре автор использовал проблемно-хронологический принцип. Анализ литературы по исследуемой проблеме позволил выделить два крупных хронологических периода - советский (1917 - конец 1980-х гг.) и постсоветский (с начала 90-х годов по настоящее время). Выделена также история изучения советской науки в зарубежной историографии. Кроме того, междисциплинарный характер объекта исследования привлек внимание к работам философов, социологов, культурологов и науковедов, в которых в той или иной степени освещались вопросы данной проблемы2.
При отсутствии комплексных исследований по истории формирования и развития научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья (1918-1940 гг.) отдельные аспекты этой проблемы затрагивались в работах регионального и общероссийского уровня.
В целом все работы можно сгруппировать по следующим предметам исследования: организация и управление наукой, научными учреждениями; подготовка научных кадров; методологические основания научного творчества ученых. В диссертации проведена попытка проанализировать разнообразную литературу, содержащую материал указанной проблематики.
Основной тенденцией исторической литературы советского периода явилось рассмотрение указанной проблемы в рамках истории советской культуры и культурной революции. Основа этого процесса была положена литературой 20-30-х гг. XX века. В работах того периода находили отражение
2 Шаповалов В.А. Высшее образование в системе культуры. Ставрополь, 1996; Он же. Высшая школа в социокультурном контексте. М.,1997; Он же Высшая школа в зеркале социологии. Ярославль, 1997; Огурцов А.П. Социальная история науки: стратегии, направления, проблемы // Принципы историографии естествознания: XX в. / отв. ред. С. Тимофеев. СПб., 2001. С. 34-67; Томпсон М. Философия науки. М., 2003; Ильин В.В. Философия науки. М., 2004 и др.
Бернал Дж. Наука в истории общества. М.,1956; Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932 гг. М.,1998; Graham L.R. Science in Russia and the Soviet Union A Short History-Caonbidal. 1993. P. 198; Грэхем Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М., 1991 и др. достижения советской культуры, науки, образования в стране и на Северном Кавказе за первые десятилетия советской власти 3. Литература тех лет носила пропагандистский, информационно-справочный, просветительский характер.
В дальнейшем произошел спад интереса со стороны ученых в исследовании данных проблем. Унификация подходов к изучению культуры, науки, образования с позиций идеологических стандартов являлась характерной чертой литературы конца 30-х - начала 50-х годов XX века4.
Более интенсивная разработка проблемы началась с конца 50-х гг. XX века. Появились монографии, исследующие деятельность коммунистической партии по проведению культурной революции и руководству наукой, научными учреждениями, высшей школой5. В этот период издаются первые авторские исследования регионального уровня.
Проблемно-хронологический подход к изучению культурного процесса стал традиционным для всего последующего периода. На протяжении 60-х -80-х гг. XX в. проблема партийно-государственной политики в сфере науки освещалась во многих научных статьях, обобщающих коллективных трудах, монографических исследованиях общероссийского и регионального уровня 6. В этот период наука, ее структурные элементы становятся предметом
3 Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР. М.,1930; Научные кадры РСФСР. М.,1930; Бейлин А.Е. Подготовка кадров СССР за 15 лет / под. ред. И.А. Краваля. М.-Л., 1932; Он же. Кадры специалистов в СССР. Их формирование и рост. М.,1935; Вельмин В.П. Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов. (История возникновения и обзор деятельности). Ростов-на-Дону, 1927 и др.
4 Ратнек К. 20 лет Горского сельскохозяйственного института // Социалистическая Осетия. 1938. 21 декабря; Наниев В. Юбилей педагогического института // Социалистическая Осетия. 1940.10 июля.; Кулов С.Д. 25 лет Северо-Осетинского государственного пединститута (1920-1945 гг.) // Ученые записки Сев.-Осетин, гос. пединститута. 1948. Т. 17. С. 3-12. и др.
5 Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР. М., 1961; Он же. Кадры для науки. - М.,1968; Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров СССР. М.,1958; Абилов A.A. Борьба коммунистической партии за осуществление культурной революции в Дагестане. Махачкала,1957; Он же. Очерки советской культуры народов Дагестана. Махачкала, 1958; Каймаразов Г.Ш. Великая Октябрьская социалистическая революция и культурное строительство в Дагестане. Махачкала, 1959; Цуциев Б.А. Экономическое и культурное развитие Северной Осетии за годы советской власти. Орджоникидзе, 1959 и др.
6 Ленин и наука. М.,1960; Октябрь и научно-технический прогресс. М.,1977; Октябрь и наука (1917-1977): сб. статей. М.,1977; Советская наука: итоги и перспективы. М.,1982; Сафразьян Н.Л. Борьба КПСС за строительство советской высшей школы (1921-1927 гг.). М.,1977; Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР.-М.Д982; Мокшин С.И. Семь шагов по земле. Очерки становления и развития советской науки. 19171924 гг. - М.,1972; Адухов М.Д. Краткий очерк развития дагестанской советской науки. - Махачкала, 1975; Джамбулатов М.М. Дом кадров. Вузгородок - Сельхозинститут. Махачкала, 1973; Кулов Б .С. К высотам культуры. Орджоникидзе, 1979 и др. исторического исследования. Впервые ученые рассматривали трудности и ошибки процесса становления советской науки. Однако эти проблемы объяснялись объективными сложностями становления и развития общества, и многие вопросы, вызванные политическими и социальными переменами в 2030-е годы, учеными игнорировались или преподносились упрощенно.
В этот период в историографии получили развитие проблемы формирования научной и национальной интеллигенции, история становления научных и высших учебных заведений в стране и регионе 1.
Начавшееся со второй половины 80-х гг. интенсивное изучение ранее запретных тем истории советской науки концентрировалось вокруг проблем власти и науки, науки в условиях тоталитарного государства.
В постсоветский период в отечественной исторической науке появились работы, содержащие противоречивые оценки истории развития науки в стране и регионе, что было связано с методологическим кризисом социогуманитарного знания. Расширение поля исследования в начале 90-х годов привело к появлению работ, связанных с проблемами репрессированной науки, истории развития отдельных отраслей наук, социальной истории советской науки 8.
С начала XXI века с новых методологических позиций история науки, ее структурные составляющие становятся предметом исследования ученых на общероссийском и региональном уровнях9.
7 Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма. M., 1972; Соскин В.Л. Ленин, революция, интеллигенция. Новосибирск, 1973; Советская интеллигенция: краткий очерк истории (1917-1965 гг.). М.,1977; Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции (1917-1927 гг.). М., 1980; Эфендинев А.-К.И. Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.). Махачкала, 1960; Хачиров А.К. О формировании осетинской интеллигенции. Орджоникидзе, 1964; Бекижев М.М. Формирование социалистической интеллигенции у народов Северного Кавказа (1917-1941 гг.). Черкесск, 1978. Каймаразов Г.Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном Кавказе (По материалам Дагестанской, Кабардино-Балкарской, СевероОсетинской и Чечено-Ингушской АССР). М.,1988; Абилов A.A. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина: исторический очерк. Махачкала, 1973 и др.
8 Наука и власть : сб. статей. М., 1990; Репрессированная наука / под. ред. М.Г. Ярошевского. Вып.1. Л., 1991; Берлявский Л.Г. Отечественная наука и политика (1920-1930-е годы). Ростов н/Д., 1996; Александров В.Я. Трудные годы советской биологии. СПб., 1992; Романовский С.И. Наука под гнетом российской истории. СПб., 1999 и др.
9 Киселева H.B. Добровольные общества как социальный институт первого послереволюционного десятилетия. Ростов-на-Дону, 2002; Данилов А.Г. Интеллигенция Юга России в конце XIX - начале XX в.
Рассматривая анализ структурных элементов научного пространства, следует отметить научные исследования общероссийского уровня, связанные с историей становления науки, организацией научных учреждений, подготовкой научных кадров как составляющей части общегосударственной и региональной политики.
В целом анализ изучения научного пространства в России и на Северном Кавказе показал, что самостоятельное исследование научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья как целостного явления отсутствует. Представленные работы носят фрагментарный характер, где не указывается периодизация становления и развития науки региона.
Незначительное внимание уделено процессу организации вузовской науки, эволюции научных интересов местного научного сообщества. Недостаточно изучены вопросы становления и деятельности научно-исследовательских институтов и других научных учреждений региона. Нет четкого представления о научно-методической работе, подготовке кадров научных работников, их социального статуса в региональном аспекте. Не выявлены особенности становления научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья на фоне общегосударственных преобразований в этой сфере, а также влияния социально-политической обстановки в стране на научное развитие региона. Поэтому потребность в комплексном историческом анализе указанных вопросов определило выбор проблемы и темы исследования.
Объектом исследования является научное пространство, включающее такие элементы, как высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, научные музеи, научные библиотеки, научные общества, их
Ростов-на-Дону, 2000; Герандоков М.Х., Герандокова B.3. Культурная революция в национальных регионах: мифы и реальность. Нальчик, 2003; Булыгина Т.А. Общественные науки в СССР 1945-1985 гг. М., 2000; Татур К.Т. Образовательная система России: высокие исследовательские технологии и проблема качества подготовки специалистов. М.,1999; Ситько P.M. Университетское педагогическое образование на Юге России: история и современность. Ростов-на-Дону, 2000; Берлявский Л.Г. Власть и отечественная наука (1917-1941 гг.). Ростов-на-Дону, 2004; Ищенко В.А., Перковская Г.А., Топчиева В.И., Ушмаева К.А. Историческое образование в России (конец XIX - начало XXI в.) Ставрополь, 2005; Кононенко B.M. Высшая школа Юга России (20-90-е годы XX века). Ставрополь, 2005; Еремеева А.Н. Российские ученые в условиях социально-политических трансформаций XX века. СПб., 2006 и др. научно-просветительскую и издательскую деятельность, а также субъекты научной деятельности - ученые, научные работники Северного Кавказа.
Под научным пространством автор понимает организованные на определенной территории научные учреждения, объединенные едиными принципами государственной политики, организационными, экономическими, информационными, генетическими связями, представляющими звенья и структуры науки. С одной стороны, они характеризуются локальной спецификой, с другой - являются составной частью единого пространства общества и государства. На микроуровне научное пространство представлено рамками одного научного учреждения (высшего учебного заведения или научно-исследовательского института).
Предметом исследования выступает процесс формирования и развития научного пространства региона в указанный период, особенности организации и характера научной работы высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, специфика кадровой политики в научной сфере Северного Кавказа, эволюция интеллектуального потенциала регионального научного сообщества и развитие его материально-технической базы в пределах избранного исторического периода.
Цель диссертации - выявить основные тенденции процесса становления научного пространства Северного Кавказа как регионального инварианта российской научной традиции в единстве ее генетических, национальных и специфических местных характеристик и проявлений на начальном этапе функционирования советской социально-политической системы.
В процессе исследования обозначенной проблемы диссертант считал необходимым уделить больше внимания ее локальному преломлению, определению общих для советской науки черт в региональном пространстве, изучению внутренних процессов становления и деятельности научных учреждений на Северном Кавказе.
Данная цель определила основные задачи исследования:
- изучить предпосылки и специфические условия формирования элементов научного пространства на Северном Кавказе;
- раскрыть сущность советской государственной политики в сфере науки и ее изменения на отдельных этапах периода с 1918 по 1940 гг.;
- сформулировать основные характеристики процесса организации научных структур в регионе в советский период и его эволюцию в регионе в контексте государственной политики;
- показать общие тенденции и специфику формирования научных учреждений Северного Кавказа различного профиля, а также вузовской науки;
- осветить цели и особенности кадровой политики в сфере науки, пути и методы их реализации в исследуемом регионе на различных исторических этапах;
- проследить качественные и количественные изменения в кадровом составе научных работников, а также воздействие социально-политических процессов на эту динамику;
- рассмотреть основные направления деятельности научных учреждений, а также практику внедрения новых принципов и форм организации научного труда применительно к особенностям региона;
- выявить характер эволюции научно-мировоззренческих взглядов как в целом в локальном научном сообществе, так и у отдельных его представителей.
Методологическая и теоретическая основы исследования. В работе использованы общие принципы исторического анализа в рамках ранее сложившихся познавательных традиций. К ним можно отнести такие общенаучные и социально-исторические методы, как хронологический, статистический, системно-функциональный, компаративный и др.
Вместе с тем в контексте современной познавательной парадигмы, отличающейся методологическим плюрализмом, были задействованы отдельные подходы «новой исторической науки» - новая интеллектуальная, новая локальная история, элементы микроанализа социального контекста истории науки в регионе.
Объект исследования продиктовал широкое использование методического инструментария смежных гуманитарных наук - социологии, культурологии, антропологии, политологии и прочих, что обусловило междисциплинарность как один из методов данного исследования. Вместе с тем, междисциплинарный подход к анализу заявленной проблемы потребовал четкого обозначения профессиональных границ, которые определяются историческим анализом научного пространства на основе изучения комплекса исторических источников.
Разрабатывая теоретические основания своего исследования, автор исходил из определения науки как социального института. С этой точки зрения наука представляет особую форму деятельности, вид духовного производства и включает в себя не только систему новых знаний и собственно научную деятельность, но и систему отношений в науке, институционализацию научного сообщества и организацию научного пространства в социуме.
Возникновение и утверждение социальной истории науки определило два подхода в ее изучении. Макроаналитическая стратегия делает своим объектом взаимоотношения социальных структур и научного знания, влияние социальных изменений на сдвиги в научном знании, на взаимоотношения науки как социального института с другими социальными институтами, дисциплинарное научное знание и научное сообщество, научные дисциплины и их роль в трансляции знания в институциях образования и т. д.
Сторонники микроаналитического подхода стремятся уйти от глобальных социологических схем и ограничиться осмыслением конкретно-исторических ситуаций роста научного знания в определенной культуре.
Социальная история науки предполагает изучение социокультурного контекста научного пространства, характера отношений науки и общества, науки и власти, взаимодействия науки на разных этапах ее истории с экономикой, идеологией, политикой, культурой и т. п. Более подробно теоретико-методологические подходы к исследованию рассматриваются автором в первом параграфе первой главы диссертации.
Источниковая база исследования. Исследование строится на различных по виду и информационной насыщенности источниках, как архивных, так и опубликованных. Основой исследования стали архивные материалы. Среди них выделяется группа документов, отражающих основные направления партийно-государственной политики центральных органов власти. К ним можно отнести, в частности, материалы организационно-распределительного и агитационно-пропагандистского отделов ЦК, сосредоточенные в фонде № 17 ЦК КПСС Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), решения Всесоюзного комитета по высшему техническому образованию при ЦИК СССР (ВКВТО), Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР (ВКВШ), Главного управления профессионального образования (Главпрофобр), Наркомата просвещения РСФСР, Главнауки Наркомпроса РСФСР, сосредоточенные в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).
Реализация политики в области науки в регионе отражена в материалах Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), областных партийных организаций (РГАСПИ), а также в государственных архивах республик Северной Осетии -Алании (ЦТА РСО-А), Дагестана (ЦГА РД), Кабардино-Балкарии (ЦГА КБР), Ростовской области (ГАРО) и Ставропольского края (ГАСК).
Наряду с этим, в местных архивах и фондах Главнауки и Наркомпроса содержится большой пласт источников, содержащих информацию о конкретных вопросах организации и функционирования научных учреждений Северного Кавказа и местных научных сообществ. Важным для данного исследования является материал личных архивов отдельных ученых Северного Кавказа, как, например, материалы Л.П. Семенова, Б.А. Алборова и др. в ЦГА РСО-А. Изучено также научное наследие местных ученых, хранящееся в Отделе рукописных фондов Северо-Осетинского института гуманитарно-социальных исследований ВНЦ РАН (СОИГСИ). В местных архивах находятся источники по истории отдельных научных учреждений и вузов. Привлечен также материал об отдельных научных работниках из архивов и музеев вузов. Следует учитывать, что количество документальных источников, затрагивающих указанную проблему, различно в зависимости от времени создания научного учреждения в национальных республиках Северного Кавказа. В 20-30-е годы XX века эти учреждения только начали разворачивать свою исследовательскую деятельность. Часть работы выполняли научные экспедиции по поручению Академии наук СССР, центральных ведомств, проводимые при участии местных организаций.
Таким образом, выявленные архивные источники могут быть разделены на несколько групп. Во-первых, постановления центральных и местных партийных и советских органов, отраслевых органов управления по вопросам высшей школы и науки. Во-вторых, данные о динамике научно-педагогических кадров, списки преподавателей, научных работников, штатные формуляры, автобиографии. В-третьих, отчеты научно-исследовательских институтов и вузов в вышестоящие организации, содержащие большой фактический материал обо всех сторонах деятельности научных учреждений. В-четвертых, статистические данные о количестве аспирантов, их социальном, партийном составе, национальной принадлежности. В-пятых, материалы, отражающие направления и содержание научных исследований, издательскую деятельность.
В целом были изучены содержащиеся в фондах отчеты научных учреждений, обществ, вузов; результаты их проверок; материалы различных совещаний; организации научно-исследовательской работы, усиление ее связи с потребностями производства, обновления руководящего состава, мерах по улучшению их материально-бытовых условий. Они позволили выяснить основные тенденции, общие проблемы и трудности в развитии и деятельности научных учреждений, вузов, положении работников науки и высшей школы, а также результативность мер, предпринимавшихся для их разрешения. Использованы сведения о финансировании и результатах научно-исследовательской работы в вузах и научно-исследовательских институтах, ее связи с производством, о деятельности аспирантуры.
Значительный массив источников составляют опубликованные документы. Использованные в диссертации опубликованные источники по своему происхождению и содержанию представлены несколькими группами. К первой группе относятся документы и материалы высших органов партийно-советской власти и управления по вопросам науки и высшей школы, культурных преобразований, восстановления ускоренного развития народного хозяйства. Сюда относятся резолюции партийных съездов, конференций, пленумов ЦК, директивы к составлению пятилетних планов, декреты и постановления Совнаркомов РСФСР и СССР, опубликованные в официальных периодических изданиях РКП(б)-ВКП(б), советского правительства и их последующих переизданиях, а также в издававшихся в разное время сборниках документов10. Они отражают основные направления партийно-государственной политики в сфере науки. В них формулировались долговременные цели и ближайшие задачи, давались конкретные указания, намечались практические мероприятия по развитию науки в масштабах общегосударственных преобразований.
Вторую группу опубликованных источников составили документы и материалы высших партийных, советских и административных органов, непосредственно осуществляющих руководство и организацию науки в стране. Они помогают более основательно понять механизм управления наукой, цели и результаты перестройки научных учреждений, процесс их сближения с практикой социалистического строительства, реорганизацию
10 Справочник партийного работника. Вып. I-VIII. М., 1920-1934; Известия ЦК РКП(б). М., 1920-1929; Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФС. М., 1918-1922; Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1922-1940; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 2-7. М., 1983-1985; Декреты советской власти. Т. III. М., 1964; Т. IX. М., 1978; Т. XI. М., 1983 и др. подготовки научных кадров, содержание идеологической работы с научными работниками. Постановления по этим вопросам, результатам докладов и проверок научных учреждений, материалы инструктивно-методического и информационно-справочного характера публиковались в официальных изданиях РКП(б)-ВКП(б), Наркомпроса, ВСНХ, сборниках документов, выходивших в 20-30-е годы, в документальных сборниках по истории организации советской науки, изданных в 60-70-е гг. XX века п.
В партийных документах главное внимание уделялось задачам кадровой политики, советизации и политизации руководящего состава научных учреждений и вузов, ускорению их реорганизации, идеологическим аспектам, подготовке новых кадров для науки и высшей школы. Директивы ведомственных научно-административных органов охватывали конкретную деятельность научных учреждений и практические пути их развития.
Для исследования поставленной проблемы на региональном уровне большое значение имеют изданные сборники документов по истории и культурному строительству всех национальных областей Северного Кавказа и Ставрополья, изданные в 70-80-е гг. XX века ,2. В рамках материалов по практике культурной революции в регионе освещены и вопросы становления, развития науки. Они раскрывают отдельные вопросы формирования научных учреждений, указывают на сложности процесса организации научной деятельности в специальных научных учреждениях и вузах региона с момента их образования до начала 40-х годов XX века.
Богатый фактический материал, отражающий научную деятельность, кадровый состав высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов содержится в издаваемых сборниках научных трудов, научных
11 Бюллетень Наркомпроса. M., 1920-1930; Еженедельник Наркомпроса. М., 1918-1930; Директивы Нарком-проса по вопросам просвещения. М.-Л.,1931; Народное образование в СССР : сб. документов и материалов.1917-1973. М., 1974; Организация советской науки в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) : сборник документов. Л., 1968; Организация советской науки в 1926-1932 гг.: сборник документов. Л., 1974 и др.
12 Культурное строительство в Дагестанской АССР 1918-1941 гг. : сб. документов Т.1.М.,1980; Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1918-1941 гг.). : сб. документов и материалов. Т. 1. Нальчик, 1980; Культурное строительство в Северной Осетии (1917-1941 гг.) : сб. документов и материалов. Т. 1. Орджоникиздзе, 1974; Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (1920-1941 гг.) : сб. документов и материалов. Грозный, 1979; Наш край : документы и материалы. 1917-1977. Ставрополь, 1983 и др. известиях и бюллетенях . В опубликованных отчетах научных учреждений главное внимание уделялось их достижениям, отмечались также трудности в работе, но в основном, финансового и материального характера. Недовольство стилем руководства со стороны научно-административных органов выражалось в этих отчетах весьма сдержанно. Наиболее полные сведения о характере и объеме научно-исследовательской деятельности содержат научные труды вузов и НИИ, впервые введенные в научный оборот исторического исследования. Периодический характер этих изданий позволил проследить тенденции в развитии отдельных научных отраслей исследуемого региона, выявить основные научные проблемы в разные периоды развития научного сообщества в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье. Изложенный материал дает представление об основных направлениях научной работы сотрудников, освещает научную повседневность, содержит биографические сведения об ученых.
Интересные данные для исследования истории научных учреждений и сведения о научных работниках общегосударственного и регионального уровней содержатся в справочных и статистических изданиях ы. Они помогают конкретизировать представления о сети и структуре высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов как в целом по стране, так и в регионе на протяжении всего исследуемого периода, проанализировать численный, социальный, партийный состав профессорско-преподавательских
13 Труды государственного Бальнеологического института г. Пятигорска. Т. 1-ХХН. Пятигорск, 1923-1941; Известия осетинского Научно-исследовательского института краеведения. Вып. 1-4. Владикавказ, 1925-1933; Известия Чечено-Ингушского НИИ Т. 1. Грозный, 1936; Известия Северо-Кавказского педагогического института. Т. 2-10. Владикавказ, 1924-1935; Труды Северо-Кавказского государственного металлургического института. Вып. 1-4. Дзауджикау, 1939; Известия Горского сельскохозяйственного института. Вып. 1-6. Владикавказ, 1926-1932; Труды Ставропольского сельскохозяйственного института Т. 1-19. Ставрополь, 19211923; Труды Ворошиловского государственного педагогического института. Т. 1. Пятигорск, 1939 и др.
14 Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края. - Ростов-на-Дону, 1927; Статистический справочник по Северо-Кавказскому краю. Ростов-на-Дону, 1925; Районы Северного Кавказа. Пятигорск, 1935; Просвещение на Северном Кавказе в цифрах. Ростов-на-Дону, 1929; Северо-Кавказский край: цифры и диаграммы. Ростов-на-Дону, 1926; Справочник по автономным областям, районам, городам Северокавказского края. Ростов-на-Дону, 1932; Статистико-экономический справочник по ДАССР. Ростов-на-Дону, 1933; Чечено-Ингушская АССР за 40 лет : стат. сборник. Грозный, 1960; 50 лет Кабардино-Балкарской АССР : стат. сборник. Нальчик, 1971; Народное хозяйство ДАССР за 60 лет : юбил. стат. сборник. Махачкала, 1981; Культурная жизнь в СССР. 1917-1927. Хроника. Т. 1. М., 1975; Народное образование, наука и культура СССР : стат. сборник. М., 1977; Наука и техника в СССР. 1917-1987. Хроника. М.,1987 и др. кадров и аспирантов. В то же время при использовании такого рода источников необходимо учитывать, что многие из них, особенно в первые годы научного строительства, были разноречивы и неполны. Организационная слабость вузов и НИИ, частые перестройки, отсутствие хорошо поставленного учета наложили отпечаток на содержание статистических данных тех лет.
Одним из важных источников для данного исследования является периодическая печать и, прежде всего, издававшиеся в 20-30-е годы журналы -общесоюзные научные, научно-общественные и научно-идеологические. Среди них центральные - «Научный работник», «Социалистическая реконструкция и наука», «Фронт науки и техники», «Народное просвещение», «Курортное дело», а также региональные - «Известия Северо-Кавказского краевого комитета ВКП(б), «Северо-Кавказский край», «Революция и горец». В этих изданиях отражены не только особенности официальной политики, но и тенденции общественного сознания в отношении к науке, социокультурный контекст и повседневность 20-30-х годов XX века, в которых существовало местное научное сообщество. На страницах журналов прослеживаются особенности становления и развития высшей школы и научно-исследовательских институтов Северного Кавказа. Особенностью этих источников является отражение общественной психологии того времени, т. к. авторы статей были непосредственными участниками процесса организации и деятельности научных учреждений, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.
В исследовании привлекалась также местная газетная периодика: «Власть труда», «Власть Советов», «Горская правда», «Дагестанская правда» и др. Периодическая печать чутко отражала изменения, происходившие в стране, процессы политизации и идеологизации научных учреждений. Являясь официальными изданиями органов партийной и государственной власти, они формировали общественное мнение по вопросам культуры, науки, образования в стране и регионе. Материалы периодической печати дают возможность оценить достижения, проблемы и трудности в области научных исследований в 20-30-е годы XX века, воссоздать объективную картину развития науки на Северном Кавказе.
Особую группу опубликованных источников составляют работы местных ученых и организаторов научных учреждений 20-30-х годов XX века. Эти научные тексты помогают воссоздать процесс формирования и развития научных учреждений, содержание научной деятельности, вычленить научные приоритеты в тот исторический период, понять специфику научного письма в идеологизированном обществе 15.
Определенную информацию содержат всевозможные юбилейные издания, посвященные истории отдельных высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов 16. Несмотря на парадный характер проспектов в них содержатся уникальные материалы, которые можно характеризовать как источники устной истории. Это интервью и устные воспоминания старейших работников научных учреждений.
Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые на широком круге источников выявляются основные исторические характеристики научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья в советский период в стадии его формирования.
Впервые дан комплексный анализ процесса реализации на Северном Кавказе основных направлений государственной политики в сфере науки в период 1918-1940 годов и выявлена его специфика, а также роль региональных
15 Гайлис Я.Р. Основные вехи научной работы на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1930; Бейлин А. Подготовка кадров в СССР за 15 лет. М.-Л., 1932; Вельмин В.П. Северо-Кавказская ассоциация научно-исследовательских институтов. Обзор деятельности, 1927 год. Ростов-на-Дону, 1928; Краткий обзор исследовательской деятельности Горского сельскохозяйственного института. Владикавказ, 1925; Семенов Л.П. Государственный научный музей г. Владикавказа при Северо-Кавказском институте краеведения. Владикавказ, 1925; Воскресенский А.И., Сретенский H.H. Научные работники и научные учреждения Северо-Кавказского края. Ростов-на-Дону, 1927; Десять лет научных работ в Дагестане (1918-1928). Махачкала-Пятигорск, 1928; Тамбиев И. Карачай прежде и теперь. Ростов-на-Дону, 1931; 10 лет Советской Чечне. Ростов-на-Дону, 1933 и ДР.
Очерки истории Ставропольского педагогического института. Ставрополь, 2001; Страницы истории Ставропольского государственного аграрного университета. 75 лет. Ставрополь, 2005; История СевероКавказского государственного технологического университета в портретах. Владикавказ, 2001; СевероКавказский медицинский институт. 1939-1989. Орджоникидзе, 1983; 80 лет служения отечественной науке/ СОИГСИ / отв. ред. А.Г. Кучиев. Владикавказ, 2005 и др. административных структур и общественных организаций в строительстве научного комплекса.
Сформулированы основные характеристики эволюции содержания научного процесса Северного Кавказа в период утверждения советской социально-политической системы на основе анализа деятельности местных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов.
Вскрыта связь истории организации северокавказского научного пространства с содержанием собственно научной деятельности, методами и результатами научных исследований конкретных ученых.
Реконструкция научного пространства республик Северного Кавказа и Ставрополья проведена в контексте как общероссийского, так и локального социокультурного, экономического, политического развития. В частности, показано влияние культурной специфики народов Северного Кавказа на модификацию в регионе общегосударственных форм подготовки научных работников и на изменения кадровой политики в сфере науки.
Впервые рассмотрена совокупность особенностей формирования научного пространства Северного Кавказа через историю его главных составляющих элементов - вузов и НИИ, предложена авторская периодизация становления и развития учреждений отраслевой и вузовской науки в довоенный период, включая формирование интеллектуального и кадрового потенциала, а также финансовой и материально-технической базы.
Принципы интеллектуальной истории позволили проследить эволюцию научно-мировоззренческих взглядов научных работников как интеллектуальной элиты Северного Кавказа в рамках системы социально-селективного отбора и подготовки научных кадров в регионе. При этом были выявлены основные вехи и особенности создания этой системы.
Научная новизна диссертации обусловлена также характером использованных источников, среди которых большое количество архивных и других материалов впервые вводится в научный оборот.
Таким образом, диссертация представляет собой первое в отечественной исторической науке комплексное исследование вопросов социальной истории науки в региональном варианте.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Формирование научного пространства Северного Кавказа на рубеже Х1Х-ХХ веков проходило в специфических социокультурных условиях, связанных с низким уровнем грамотности местного населения, удаленностью от крупных научных центров страны, приоритетным влиянием столичной академической гуманитарной науки, отсутствием системы научных учреждений в регионе, зачаточным состоянием местного научного сообщества.
2. Становление и развитие науки на Северном Кавказе находилось под влиянием процесса российской модернизации начала XX века. Однако в силу ряда обстоятельств - выраженной полиэтничности и неравномерности социально-экономического развития локальных обществ Северного Кавказа, поздней включенности региона в российское социокультурное и экономическое пространство, слабости урбанизационных процессов - модернизационные процессы здесь запаздывали, что сказывалось и на темпах структурирования научного пространства региона.
3. Цивилизационный разрыв, выразившийся в событиях Российской революции 1917 г. и Гражданской войны, изменил вектор развития страны в целом, и Северного Кавказа в частности. Начавшийся еще до революции процесс формирования научного пространства ускорился и одновременно наполнился новым содержанием, которое определялось, с одной стороны, характером политики большевистской власти, а с другой - революционным романтизмом.
В начале 20-х годов при крайней скудости материальных средств наблюдался организационный бум в создании вузов и научных учреждений региона. Это движение, инициируемое местной властью и поддержанное Северо-Кавказской общественностью, было с' энтузиазмом поддержано представителями местного дореволюционного научного сообщества и столичными учеными, оказавшимися на Северном Кавказе в годы революции и Гражданской войны. В это же время начинают создаваться предпосылки и основы научного сообщества национальных республик.
В целом 20-е годы стали переходным временем, когда только закладывались основы общегосударственной научной политики и складывались отдельные элементы советской модели регионального научного пространства и одновременно продолжали действовать научные традиции, заложенные местным научным сообществом, которому и в те годы принадлежала инициатива создания отдельных научных учреждений.
4. Структурирование элементов научного пространства исследуемого региона приобрело систематический, целенаправленный характер к началу 30-х годов. Именно в это время этот процесс стал инициироваться исключительно государством по представлению местной власти, а не «снизу» научным сообществом. Этому способствовали, во-первых, окончательная централизация и бюрократизация системы государственного управления, в том числе, науки и образования, а во-вторых, форсированная советская модернизация, материализованная в индустриализации и коллективизации.
В регионе за 10 лет были институализированы основные структурные элементы локального научного пространства: высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, лаборатории, научные библиотеки и т. д. Они носили иерархический характер организации и имели различные уровни структурирования и подчинения - подразделения АН СССР, всесоюзные исследовательские институты, вузы, научные библиотеки и отраслевые научные учреждения.
5. Все научные учреждения и вузы были подчинены общим требованиям государственной политики. Эта политика включала в себя безусловное подчинение научного творчества идейно-политическим установкам власти, зависимость научных исследований от хозяйственных нужд страны и региона, общественную активность и просветительскую работу ученых.
Советизация науки наряду с созданием единого научного пространства Северного Кавказа как части общегосударственной науки сопровождалась рядом общих для страны тенденций. К ним можно отнести: свертывание краеведческих исследований, частую смену управленческих и научных кадров в процессе политических репрессий, практическую направленность результатов научной работы в соответствии с требованиями советских экономических преобразований. Централизация и политизация науки приводили к тому, что в ряде случаев игнорировались особенности региона. Так, сельскохозяйственная наука Ставрополья длительное время была занята разработками такой неперспективной для региона отрасли, как хлопководство.
Идеологический диктат власти существенно повлиял на мировоззренческие позиции научного сообщества, ограничивая познавательные возможности науки, что особенно пагубно сказалось на разработке гуманитарной проблематики. Тем не менее внутренний потенциал науки особенно в таких отраслях, как медицина, сельское хозяйство, курортология, не был атрофирован. Более того, поддержка государством прикладных исследований позволила региональной отраслевой науке достичь значительных результатов.
Огосударствление науки привело к тому, что вертикальные связи ученых Северного Кавказа с Центром были более прочными, нежели сотрудничество между локальными научными сообществами, входившими в общее научное пространство региона.
6. Вместе с тем, научное пространство Северного Кавказа в исследуемый период обладало значительной спецификой. Особенностью данного регионального варианта процесса формирования научного пространства было то, что центрами развития научной мысли являлись высшие учебные заведения. Они концентрировали в себе материальную базу для научных исследований, интеллектуальную элиту региона.
Аграрный характер социально-экономического развития Северного Кавказа обусловил преимущественное развитие сельскохозяйственной науки на Ставрополье, которая не ограничивалась локальными рамками, но была востребована на всесоюзном уровне. В этом отношении можно говорить о преемственности научных традиций, несмотря на репрессии и смену научных поколений, которая определялась не только временными, но и политическими причинами.
Наличие на территории Ставрополья и республик Северного Кавказа уникальных природных зон обусловило дальнейшее развитие курортологии, которая опиралась на бальнеологический опыт дореволюционных исследователей.
В большей степени дискретность научных традиций в 30-е годы характерна для краеведения, которое к началу 40-х годов выродилось в инструмент пропаганды.
7. Специфика научного пространства Северного Кавказа отразилась и в слабом влиянии проводившейся в те годы политики коренизации на подготовку кадров в сфере естествознания и технических наук из числа представителей титульных национальностей Северо-Кавказских республик, что определялось объективными причинами и национальными традициями. Локальное научное сообщество также отличалось пестрым национальным составом, с численным преимуществом представителей некоренной национальности.
В целом здесь научное сообщество гуманитариев развивалось более интенсивно, нежели сообщество ученых-естественников.
Спецификой работы научных сотрудников в республиках Северного Кавказа было совмещение деятельности в вузах и НИИ национальных областей. Кроме того, к научным исследованиям привлекался широкий круг специалистов-практиков различных отраслей народного хозяйства. Их объединял объект научных исследований - природное, геологическое, культурное пространство Северо-Кавказского региона.
Практическая значимость диссертационной работы определяется потребностями реализации государственных реформ российской науки и образования, необходимостью духовного развития общества, а также задачами совершенствования научно-исследовательского процесса в стране и регионе. Выводы диссертации могут быть использованы:
1) в ходе реализации национального проекта Российской Федерации в области науки и образования;
2) в процессе применения Федеральной целевой программы в области науки и высшего образования с учетом специфических социокультурных и экономических условий в регионе;
3) в целях оптимизации дальнейшего развития научных исследований на Северном Кавказе в организации науки применительно к работе высшей школы, научно-исследовательских институтов и других научных учреждений региона;
4) при составлении обобщающих научных работ по истории науки в России и на Северном Кавказе; в учебных курсах «История науки», «История России», «История народов Северного Кавказа»; при написании исторических очерков и монографических исследований по истории административных единиц указанного региона, очерков по истории отдельных вузов, методических пособий, а также в лекционной деятельности.
Апробация результатов работы. Основные положения и выводы работы нашли отражение в двух монографиях и трех статьях в периодических изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов докторской диссертации, а также в 37 статьях и тезисах. Выводы исследования использованы научными сотрудниками Cornell University (США).
По материалам исследования сделаны доклады на международных, российских, региональных научных конференциях с последующей публикацией тезисов. В частности, «Власть и общество в России XIX-XX вв.»
М., МПГУ, 2002), «Российская история XX века: проблемы науки и образования» (М., МПГУ, 2004), «Дополнительное образование: современное состояние и перспективы» (Ставрополь, СФ МГПУ им. М.А. Шолохова, 2006), «Роль идеологии в трансформационных процессах России: общенациональные и региональные аспекты» (Ростов-на-Дону, РГУ, 2006) и др.
Структура диссертации обусловлена задачами исследования. Работа состоит из ведения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. Она строится по проблемно-хронологическому принципу.
Таким образом, рассматриваемая в диссертационном исследовании проблема имеет научно-практическое и общественно-политическое значение и может занять определенное место в формировании новых духовных приоритетов в современном российском обществе.
Список научной литературыКалинченко, Светлана Борисовна, диссертация по теме "Отечественная история"
1. Абилов А. А. Борьба коммунистической партии за осуществление культурной революции в Дагестане -Махачкала : Дагкнигоиздат, 195799 с.
2. Акиныыин А. Н. Судьба краеведов (конец 20-х начало 30-х годов) // Вопросы истории. - 1992. - № 6-7. - С. 173 - 178.
3. Алборов Б. А. О постановке педагогического образования среди горцев Кавказа // Известия Горского института народного образования. -Владикавказ, 1923. Вып. 1. - С. 3 - 16.
4. Алборов Б.А Горский институт народного образования // Антология педагогической мысли Северной Осетии. Владикавказ «ИР», 1993.
5. Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // ВИЕТ-1994.-№4.-С. 3-22.
6. Александров Д. А., Кременцов Н. JI. Опыт путеводителя по неизведанной земле. Предварительный очерк социальной истории советской науки (19171950 гг.) // ВИЕТ. 1989. - № 4. - С. 67 - 80.
7. Алексеев П. В. Революция и научная интеллигенция. М. : Политиздат, 1987.-272 с.
8. Алиев А. И., Адухов М. Д. Краткий очерк развития дагестанской советской науки. Махачкала : Дагкнигоиздат, 1975. - 21 с.
9. Алиев У. Национальный вопрос и национальная культура в СевероКавказском крае. Ростов-на-Дону, 1926. - 128 с.
10. Аликова 3. Р., Гурциев О. Н., Салбиев К Д. Очерки историиздравоохранения Северной Осетии. Владикавказ, 1994. - 187 с.
11. Алироев И. Ю., Павлов М. П. Чечено-Ингушский государственный университет им. JI. Н. Толстого. Ростов-на-Дону : Изд. РГУ, 1985 - 167 с.
12. Антонов Н. Население Северной Осетии по переписи 1926 г. -Владикавказ : Растзинад, 1928 67 с.
13. Аристова Т. Ф. Развитие народного просвещения // Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967 гг.). М.: Наука, 1968 .- 347 с.
14. A.C. Десятилетний юбилей Горского сельскохозяйственного института // Революция и горец. 1929. - № 1-2. - С. 64 - 66.
15. A.C. Рабфаки и горская молодежь // Революция и горец 1930. - № 6-7-С. 73-78.
16. Багин И. Н. 25 лет работы Горского сельскохозяйственного института (1918-1941) // Труды ГСХИ. Т. 5. - Орджоникидзе, 1945. - С. 3 - 57.
17. Бальдыш Г. М., Панизовская Г. И. Николай Иванович Вавилов в Петербурге Петрограде - Ленинграде. - Л.: Лениздат, 1987. - 287 с.
18. Бастракова М. С. Становление советской системы организации науки (1917-1922 гг.) / под ред. С. Р. Микулинского. М.: Наука, 1973. - 294 с.
19. Байрашевский О. А. Дагестанский государственный медицинский институт за первое пятилетие его существования (1932-1937 гг.) // Труды Дагестанского мединститута.- Т. 1. Махачкала, 1938. - С. 3 - 8.
20. Бегеулов A.A. Наболевшие вопросы народного просвещения и задачи подготовки кадров для нацобластей // Революция и горец. 1930. - № 8. - С. 10-22.
21. Беме Л. Б. Результаты орнитологических экскурсий в Кизлярский округДагреспублики. Владикавказ : Изд-во Северокавказского института краеведения, 1925. - 29 с.
22. Бейлин А. Е. Кадры специалистов в СССР. Их формирование и рост. -М.: ЦУНХУ Госплана СССР, 1935 420 с.
23. Бейлин А. Е. Научные кадры и научные учреждения СССР. М.,1930. -74 с.
24. Биллер Ф. С. Проблема кадров на Северном Кавказе во второй пятилетке.- Ростов-на-Дону: Партиздат, 1932 46 с.
25. Беляев Е. А., Пышкова Н. С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР. М.: Наука, 1979. - 245 с.
26. Беляев Е. А. КПСС и организация науки в СССР. М.: Политиздат, 1982.-143 с.
27. Бекижев М. М. Партийное руководство культурным строительством в Карачаево-Черкесии. 1920-1967 гг.-Черкесск, 1969.- 187 с.
28. Бекижев М. М. Формирование социалистической интеллигенции у народов Северного Кавказа (1917-1941 гг.). Черкесск : Ставропольское кн. изд., 1978.-258 с.
29. Бербеков X. М. Очерки истории советской Кабардино-Балкарии. М. : Госполитиздат, 1958. - 160 с.
30. Бербеков X. М. Переход к социализму народов Кабардино-Балкарии. -Нальчик : Кабардино-Балкарское кн. изд., 1963. 536 с.
31. Бербеков X. М. О высшем образовании в Кабардино-Балкарской АССР И Ученые записки Кабардино-Балкарского университета. Вып. 27. Серия историко-филологические науки. Нальчик, 1965. - С. 3 - 21.
32. Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука (1917- 1941). Ростов-на-Дону, 2004. - 359 с.
33. Берлявский Л. Г. Из истории Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских институтов (СКАНИИ) // Научная мысль Кавказа. Приложение. (Ростов-на-Дону), 2004. № 3 (57). - С. 96 - 104.
34. Берлявский Л. Г. Отечественная наука и политика (1920-1930-е годы). -Ростов-на-Дону, 1996. 238 с.
35. Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР. (Историко-статистические очерки). М., 1964. - 195 с.
36. Булдаков В. П. Октябрь и XX век: теории и источники // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1999.
37. Булыгина Т. А. Советская идеология и общественные науки. М., 1999. -173 с.
38. Булыгина Т. А. Общественные науки в СССР. 1945 1985. - М., 2000. -228 с.
39. Бутягин А. С., Салтанов Ю. А. Университетское образование в СССР. -М. :Изд. МГУ, 1957.-295 с.
40. Вернадский В. И. О науке. Сборник в 2 томах. СПб.: Изд. РХИ, 2002. -Т.2.-598 с.
41. Викторов А. Ф. К вопросу подготовки технических и массовых кадров для народного хозяйства края // Социалистическое строительство СевероКавказского края. 1935. - № 5. - С. 85-91.
42. Гадиев А. Культурное строительство в нацобластях Северного Кавказа // Национально-культурное строительство в РСФСР к ХУ-летию Октябрьской революции: сб. статей. М. - Л., 1933.
43. Горский сельскохозяйственный институт: отчет о деятельности научно-исследовательского общества за 1927 г. Владикавказ, 1928. - 9 с.
44. Галин С. А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской власти (1917-1925). М.: Высшая школа, 1990. - 144 с.
45. Галкин К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР-М.: Советская наука, 1958. 175 с.
46. Герондоков М. X. Культурное строительство в Кабардино-Балкарии (1917-1940 гг.). Нальчик : Эльбрус, 1975. - 239 с.
47. Главацкий М. Е. «Философский пароход» : год 1922-й. Историографические этюды. Екатеринбург : Изд. Уральского университета, 2002.-223 с.
48. Горан В. П. Проблемные этапы истории европейской философии: теоретико-методологические проблемы исследования // Философия науки. -Новосибирск. 1999. - № 5. - С. 21-38.
49. Горский государственный аграрный университет / под ред. Г.С. Козаева-Владикавказ, 1993 . 32 с.
50. Гуревич А. Я. Жак Ле Гофф и «новая историческая наука» во Франции // Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада М.,1992. - 289 с.
51. Дагестанский сельскохозяйственный институт. Научные труды. Т. 18. -Махачкала: Изд. ДСХИ, 1968. - 284 с.
52. Данилов А. Г. Интеллигенция Юга России в конце XIX начале XX вв. -Ростов-на-Дону, 2000. - 247 с.
53. Даниялов Г.-А. Д. Социалистические преобразования в Дагестане (1920 -1941 гг.). Махачкала : Дагкнигоиздат, I960. - 543 с.
54. XX лет Советской власти Северной Осетии : сб. статей. Орджоникидзе : Северо-Осетинское Госиздат, 1940. - 143 с.
55. Дедегкаев С. Т. Культурное строительство в Северной Осетии. -Орджоникидзе, 1964. 48 с.
56. Дестебеков Н. Я. Партийное руководство развитием промышленности в автономных республиках и областях Северного Кавказа (1926-1937 гг.). -Махачкала : Дагкнигоиздат, 1969, 99 с.
57. Джамбулатов М. М. Дом кадров Вузгородок - сельхозинститут. -Махачкала : Дагкнигоиздат, 1973.-231 с.
58. Десять лет научных работ в Дагестане (1918-1928) / под ред. Д. М. Павлова и А. А. Тахо-Годи. Махачкала : Изд. Даг. НИИ, 1928. - 238 с.
59. Джамбулатова 3. К. Культурное строительство в советской Чечено-Ингушетии (1920-1940 гг.). Грозный : Чечено-Ингушское кн.изд., 1974. -235 с.
60. Джанаев Г. Г., Нлахтий С. Я. 50 лет Горскому сельскохозяйственному институту (1918-1968). Орджоникидзе : «Ир», 1977. - 123 с.
61. Дуженков В. И. Проблемы организации науки. М., 1978. - 128 с.
62. Еремеева А.Н. Российские ученые в условиях социально-политических трансформаций XX века. Курс лекций. СПб.: Нестор, 2006. - 186 с.
63. Ермаков В. Т. Советская культура как предмет исторического исследования // Вопросы истории . 1973. - № 3. - С. 20-33
64. Есаков В. Д. Советская наука в годы первой пятилетки. Основные направления государственного руководства наукой. М.: Наука, 1972.271 с.
65. За «железным занавесом»: мифы и реалии советской науки / под ред. М. Хейнемана и Э. И.Колчинского. — СПб.: Дмитрий Буланин. 2002. - 527 с.
66. Загузов Н. И. Становление и развитие квалификационных научно-педагогических исследований в России (1934-1997 гг.). СПб., Волгоград, 1998.-375 с.
67. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001. - 345 с.
68. Заузолков Ф. Н. Коммунистическая партия организатор создания научной и производственно - технической интеллигенции СССР. - М. : Изд. МГУ, 1973. - 127 с.
69. Земзин М. Н. Высшая школа на Дону и Северном Кавказе (1920-1985). -Ростов-на-Дону, 1985.-238 с.
70. Земзин М. П. Из истории организации вузовской науки на Северном Кавказе // Известия Северо-Кавказского Научного центра высшей школы. Общественные науки. 1976. - № 4. - С. 65 - 70.
71. Знаменательная дата. (20-летие Северо-Осетинского пединститута им. К. Л. Хетагурова) // Социалистическая Осетия 1940. - 16 ноября.
72. Иванов А. Е. Высшая школа России конца XIX начале XX вв. - М., 1991. 123 с.
73. Иванова Л. В. Формирование советской научной интеллигенции. 1917 -1927 гг. М.: Наука, 1980. - 392 с.
74. Из истории борьбы за власть Советов и социалистических преобразований в Чечено-Ингушетии / под ред. К. И. Ефанова. Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд., 1983. - 174 с.
75. Из истории развития социалистической культуры Кабардино-Балкарии : сб. статей /отв. ред. X. И. Хутуев. Нальчик, 1981. - 203 с.
76. Илизаров С. С. Материалы к историографии истории науки и техники. Хроника. 1917-1988-М.: Наука, 1989.-321 с.
77. История Дагестана: в 4-х томах М.: Наука, 1967 - 1969.
78. История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней: В 2-х томах .- М.: Наука, 1967-1968.
79. История народов Северного Кавказа (конец XVIII века 1917 г.). - М. :Наука, 1988.-659 с.
80. История Северо-Осетинской АССР. В 2-х томах. Т. 2. Орджоникидзе : «Ир», 1987.-487 с.
81. История Северо-Осетинской АССР. С древнейших времен и до наших дней. В 2-х томах. Т. 1. изд. 2-е. Орджоникидзе : «Ир», 1987. - 529 с.
82. История Северной Осетии XX век / СОИГСИ им. В.И. Абаева Владикавказского НЦ РАН и Правительства РСО-А. М.: Наука, 2003. -632 с.
83. История социокультурных проблем науки и техники. Вып 1. М., 2002; Вып. 2. - М., 2004; Вып. 3. - М., 2004 .
84. Иоффе А. Е. Международные связи советской науки, техники и культуры. 1917-1932.-М.: Наука, 1975.-429 с.
85. К перестройке национальных отделений рабфаков Северо-Кавказского края // Революция и горец. 1930 .- № 2. - С. 97 - 98.
86. Кабардино-Балкарскому государственному университету 10 лет. -Нальчик, 1967.-119 с.
87. Кабардинская АССР. Посвящается 25-летию автономии Кабарды. -Нальчик, 1946. 220 с.
88. Кабалава К. П. Устав Северо-Осетинского пединститута // Социалистическая Осетия. 1938.-20 декабря.
89. Каймаразов Г. Ш. Культурное строительство в Дагестане (1920-1940 гг.).- Махачкала: Тип. Даг. филиала АН СССР, 1960. 183 с.
90. Каймаразов Г. Ш. Очерки истории культуры и просвещения народов Дагестана. (От присоединения к России до наших дней). М.: Наука, 1971. -475 с.
91. Каймаразов Г. Ш. Формирование социалистической интеллигенции на Северном Кавказе. По материалам Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушской АССР. М.: Наука, 1988. - 334 с.
92. Калоев Б. А. Ковалевский М. М. и его исследования гор народов Кавказа.-М.: Наука, 1979.-278 с.
93. Калоев Б. А. Миллер кавказовед (исследования и материалы). -Орджоникидзе : Северо-Осетинское книжное издательство, 1963. - 200 с.
94. Кара- Мурза С. Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002. - 254с.
95. Квакин А. В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в период НЭПа. 1921-1927. Саратов, 1991. - 228 с.
96. Келле В. Ж. Наука как компонент системы. М., 1998. - 178 с.
97. Кедров Б. М. Проблемы логики и методологии науки. М. : Наука, 1990.-348 с.
98. Ким М. П. О культуре как предмете исторического изучения // Вопросы истории. 1974. - № 11. - С. 32 - 38.
99. Ким М. П. О сущности культурной революции и этапах ее осуществления в СССР. 1917-1965 гг. М.,1967. - 215 с.
100. Кокиев П. Проблема подготовки научных кадров для горских областей Северного Кавказа // Революция и горец. 1930. - № 8. - С. 23 - 26.
101. Колесникова М. Е. Ставропольские краеведы: библиографические очерки. Ставрополь, 2004. - 98 с.
102. Колпаков А. Н., Солдатова О. Н. Отечественная наука и техника. 1917— 1941 гг. Самара, 1997. - 246 с.
103. Колчинский Э. И., Кольцов А. В. Российская наука и кризис в начале XX в. // На переломе. Отечественная наука в первой половине XX в. Вып. 1-СПб., 1999.
104. Колчинский Э.И. В поисках советского «союза» философии и биологии: дискуссии и репрессии в 20-30-х гг. СПб., 1999. - 178 с.
105. Кольцов А. В. Культурное строительство в РСФСР в годы первой пятилетки (1928-1932). М. - Л.: Изд. АН СССР,1960. - 208 с.
106. Кольцов A.B. Развитие Академии наук как высшего научного учреждения СССР. 1926-1932 гг. Л.: Наука, ЛО, 1982. - 279 с.
107. Кононенко В. М. Высшая школа Юга России (20-90-е годы XX века).Ставрополь, 2005. 322 с.
108. Коренев К. Н. Горский сельскохозяйственный институт // Революция и горец. 1929. -№ 3. - С. 15-20.
109. Коренев К. Н. Кадрам национальных областей максимальное внимание // Революция и горец . - 1932. - № 5. - С. 40 - 46.
110. Корниенко М., Смирении В. Развитие педагогического образования в Северной Осетии за годы Советской власти // Известия СОНИИ. Т. 29. -Орджоникидзе, 1971.-С. 197-225.
111. Косарева Л. М. Внутренние и внешние факторы развития науки. М., 1983.- 138 с.
112. Кохановский В. П. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 2000.-178 с.
113. КПСС во главе культурной революции в СССР / под ред. С. А. Андропова, А. И. Титова (руководители). М.: Политиздат, 1972. - 376 с.
114. Кравец А. С. Наука как феномен культуры. Воронеж, 1991. - 238 с.
115. Край наш Ставрополье. Очерки истории / науч. ред. Д. В. Кочура, В. П. Невская. Ставрополь, 1999. - 528 с.
116. Краснов М. Просветители Кавказа. Ставрополь, 1913 .
117. Красовицкая Т. Ю. Власть и культура. Исторический опыт организации государственного руководства национально-культурным строительством в РСФСР. 1917-1925 гг. -М., 1992. -267 с.
118. Красовицкая Т. Ю. Российское образование между реформаторством и революционизмом. Февраль 1917-1920 гг. М., 2002. - 415 с.
119. Крохин С. И. 25 лет СКГМИ // Сб. научных трудов Северо-Кавказского Горнометаллургического института. Вып. 14. Орджоникидзе, 1957.
120. Кузовков Д. В. Научно-исследовательские институты в системе научных учреждений // Научный работник. 1925. - Кн. 2. - С. 28 - 34.
121. Кузнецов В. А. Введение в кавказоведение. Владикавказ, 2004. - 178 с.
122. Кузнецова Н. И. Социокультурные проблемы формирования науки в России XVIII XIX вв. - М., 1999. - 176 с.
123. Кулов Б. С. К высотам культуры. Орджоникидзе : «Ир», 1979. - 84 с.
124. Кулов С. Д. 25 лет Северо-Осетинскому государственному педагогическому институту (1920-1945 гг.) // Ученые записки СОГПИ. Т.17. Вып. 1. Дзауджикау, 1948.
125. Кун Т. Структура научных революция. М., 1978 . - 198 с.
126. Куценко И. Я. Революция и культура : Очерк истории борьбы партийной организации Северного Кавказа за осуществление культурной революции в 1918-1932 гг. Краснодар, 1973. - 245 с.
127. Лахтин Г. А. Организация советской науки : история и современность. -М.: Наука, 1990.-224 с.
128. Лебедев Т. А. Кабардино-Балкарский государственный педагогический институт // Ученые записки КБГПИ. Вып. 5. Нальчик, 1953.
129. Лебин Б. Д. Подбор, подготовка и аттестация научных кадров в СССР // Вопросы истории и правового регулирования. М.-Л.: Наука, 1966. - 288 с.
130. Левина Е. С. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский. Биология в СССР: история и историография. М.: АИРО-ХХ, 1995. - 159 с.
131. Лешкевич Т. Г. Философия науки. М.: Изд.: Инфа. - М., 2005. - 233 с.
132. Литвиненко Н. И. Подготовка национальных кадров в Чечено-Ингушетии (1928-1933 гг.).- Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд., 1966. -36 с.
133. Магомедов А. М. Дагестанский педагогический : краткий исторический очерк. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1981. - 210 с.
134. Меликов С. Т., Кузнецов Н. Н. Кузница инженерных кадров. -Орджоникидзе, 1971. 32 с.
135. Мельников В. В., Павленко А. А. Подготовка и воспитание новых учительских кадров на Северном Кавказе в 1928-1932 гг. // Ленин В. И. икультурная революция на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону : Сев. Кавказ, 1929.-56 с.
136. Микулинский С. Р. Очерки развития историко-научной мысли. М. : Наука, 1988.- 198 с.
137. Нагучев Д. М. Высшая школа на Северном Кавказе: история и современность. Майкоп, 1992. - 287 с.
138. Наука и власть. Воспоминания ученых-гуманитариев и обществоведов. -М.: Наука, 2001.-319 с.
139. Наука в культуре. М.,1998. - 176 с.
140. Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / ред.-сост. Э. И. Колчинский. СПб .: Дм. Буланин, 2003. - 1037 с.
141. Напсо Д. А. Под знаменем интернационализма. (Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по интернациональному воспитанию трудящихся в годы социалистического строительства 1917-1937 гг.). Минводы, 1967. - 425 с.
142. Нечипурнова Н. С. Ленин и высшая школа // Известия ВУЗов. Серия: Цветная металлургия. 1980. - № 2. - С. 3 - 9.
143. Николаев И. А, Российская наука и мировое научное сообщество // Возрождение культуры России : гуманитарное знание и образование сегодня СПб., 1994. - 188 с.
144. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки : история и методология. М., 1988. - 235 с.
145. Огурцов А. П. Социальная история науки: стратегии, направления, проблемы // Принципы историографии естествознания XX в. СПб., 2001.
146. Омаров А. Дагестан : время и судьбы. Махачкала : Дагкнигоиздат, 1990.-308 с.
147. Османов А. И. Осуществление новой экономической политики в Дагестане. 1921-1925 гг. -М.: Наука, 1978.-214 с.
148. Основы науковедения / под ред. Н. Стефанова. М.: Наука, 1985 - 431 с.
149. Очерки истории Ставропольского края. В 2-х томах. Т. 2. Ставрополь, 1986.-397 с.
150. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. В 2-х томах. Т. 2. Советский период. Грозный : Чечено-Ингушское кн. изд., 1972. - 359 с.
151. Очерки методологии науки / под ред. В. И. Купцова. М., 1996. - 238 с.
152. Ошаев X. За большевистские темпы подготовки кадров для горских областей // Революция и горец. 1931. - № 3. - С. 13-20.
153. Ошаев X. Итоги осеннего набора в Горский педагогический институт // Революция и горец. 1930. - № 11. - С. 47-52.
154. Петренко JI. Ф. Законодательство о труде научных работников. 2-е изд. -М. : Наука, 1988.-224 с.
155. Петрусов А. И. 14 лет работы Горского сельскохозяйственного института // Революция и горец. 1933. - № 3 - 4. - С. 108- 109.
156. Посохов С. И. Социальная история советской науки (конец 1920 -начало 1940 гг.). Проблемы историографии. Харьков, 1994. - 158 с.
157. Пути культурной революции на Северном Кавказе : культурная пятилетка. Ростов-на-Дону : Северный Кавказ, 1931.-121 с.
158. Принципы историографии естествознания : XX в. / отв. ред. С. Тимофеев. СПб., 2001. - 267 с.164. 50 лет Северо-Кавказскому горно-металлургическому институту. -Орджоникидзе : «Ир», 1981. 106 с.
159. Развитие образования и науки на пороге XXI века. СПб., 1992. - 234 с.
160. Репина JI. П. Новая историческая наука и социальная история. М., 1998.- 128 с.
161. Репрессированная наука. Вып. 1 / под общ. ред. М. Г. Ярошевского. JL: Наука, ДО, 1991.-556 с.
162. Репрессированная наука. Вып. 2 / под общ. ред. М. Г. Ярошевского; ред.-сост. А. И. Мелуа. СПб. : Наука, 1994. -319.
163. Розин М. Д. Научный комплекс Северного Кавказа. Ростов-на-Дону : Изд. СКНЦВШ, 2000. - 228 с.
164. Романовский С. И. Наука под гнетом российской истории. СПб : СПбГУ, 1999.-344 с.
165. Сабанчиев X. М. Деятельность Кабардино-Балкарской парторганизации по осуществлению культурной революции.- Нальчик : Эльбрус, 1973- 277 с.
166. Сабанчиев X. М. Создание советской интеллигенции в Кабарде. -Нальчик, 1951. 36 с.173 .Самарский А. Я. Культурная революция и кадры культурников-националов // Записки CK КГНИИ. Т. 1. Владикавказ, 1928.
167. Северо-Осетинский медицинский институт (1939-1989) / под. ред. К. Д Салбиева. Орджоникидзе, 1989. - 118 с.
168. Смирении В. В. Культурное строительство в Северной Осетии // 20 лет автономии Северной Осетии: сб. статей. Дзауджикау, 1944.
169. Смирении В. В. Культурное строительство за двадцать лет // XX лет Советской власти в Северной Осетии : сб. статей. Орджоникидзе, 1940.
170. Советская наука: итоги и перспективы. М.,: Наука, 1982. - 559 с.
171. Соколов А. К. Социальная история России новейшего времени : проблемы методологии и источниковедения // Теоретические проблемы исторических наук. Вып. 1. М., 1999.
172. Соскин В. Л. Переход к НЭПу и культура. 1921-1923 гг. Новосибирск, 1997.-208 с.
173. Соскин В. Л. Сибирь, революция, наука. Новосибирск : Наука, 1989. -173 с.
174. Соскин В. Л. Современная историография советской интеллигенции России. Новосибирск, 1998. - 176 с.
175. Сокулер 3. А. Знание и власть : наука в обществе модерна. СПб., 2001.-239 с.
176. Степанский А.Д. История общественных организаций дореволюционной России.-М., 1979.-67 е.
177. Стрекопытов С. П. История научно-технических учреждений в России (вторая половина XIX- XX вв.). М. : РГУ, 2002. - 425 с.
178. Тарасова В. Н. Наука и российское общество в X XX вв. - М., 1998. -187 с.
179. Тахо-Годи А. А. Революция и контрреволюция в Дагестане. -Махачкала: Даггосиздат и Даг. НИИ, 1927.- 230 с.
180. Тимофеев И. С. Гуманизация истории естествознания : аксиологический подход // Ценностные аспекты развития науки. М., 1990. - 145 с.
181. Торжество ленинских идей в Дагестане : сб. статей. Махачкала : Дагкнигоиздат, 1970. - 163 с.
182. Тотоев М. С., Текиев В. Д. Победа культурной революции в Северной Осетии // Ленинизм и малые нации : сб.статей. Орджоникидзе, 1978.358 с.
183. Украинцев В. В. КПСС организатор революционного преобразования высшей школы. - М. : Высшая школа, 1963. - 298 с.
184. Ульяновская В. А. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917-1937 гг. -М. : Наука, 1966.-213 с.
185. Федюкин С. А. Великий Октябрь и интеллигенция. (Из истории вовлечения старой интеллигенции в строительство социализма). М. : Наука, 1972.-471 с.
186. Федюкин С. А. Партия и интеллигенция. М. : Политиздат, 1983 - 238 с.
187. Филькин В. И. Северокавказская краевая организация ВКП (б) в период строительства социализма (1926-1937 гг.). Грозный, 1975. - 422 с.
188. Филькин В.И. Северо-Кавказская партийная организация в борьбе за осуществление ленинской национальной политики (1917-1936 гг.). -Грозный, 1969. 79 с.
189. Хачиров А. К. О формировании осетинской интеллигенции. -Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1964. 92 с.
190. Хачиров А. К. Социалистическая культура и наследие. Орджоникидзе : «Ир», 1976.- 231 с.
191. Хашаев Х.-М. О. Вклад ученых Дагестана в советскую науку. -Махачкала: Дагкнигоиздат, 1959. 26 с.
192. Хурин П. Культурное строительство на Северном Кавказе // СевероКавказский край. 1929. - № 4. - С. 42 - 55.
193. Хурин П. На рубеже второй культурной пятилетки Северного Кавказа. -Ростов-на-Дону, 1932. 44 с.
194. Цогоев А. А. Двадцатилетие Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К. JI. Хетагурова (1920-1940гг) // Ученые записки СОГПИ. Т.2 (15). Вып.1. Орджоникидзе, 1940.
195. Цомок М. Горский педагогический институт во Владикавказе // Вестник просвещения на Северном Кавказе. 1928. - № 5. - С. 20 - 26.
196. Чанбарисов Ш. X. Формирование советской университетской системы (1917-1938).-М, 1988.-246 с.
197. Чернякова Н.С. Наука как феномен культуры. СПб., 2001. - 104 с.
198. Чеченов Ш. Ш. Осуществление ленинской программы народного образования в Кабардино-Балкарской АССР (1920-1970 гг.). Нальчик : Эльбрус, 1971.-335 с.
199. Чуткерашвили Е. В. Развитие высшего образования в СССР. М : Высшая школа, 1961. - 240 с.
200. Чуткерашвили Е. В. Кадры для науки. М., 1968. - 238 с.
201. Шаповалов В. А. Высшее образование в системе культуры. -Ставрополь, 1996. 185 с.
202. Шаповалов В. А. Высшая школа в социокультурном контексте. М., 1997.-228 с.
203. Шеуджен Э. А. Советская историография национально-культурного строительства на Северном Кавказе. Ростов-на-Дону, 1983. - 140 с.
204. Шульгина И. В. Инфраструктура науки в СССР. М., 1988. - 164 с.
205. Этнокультурные проблемы Северного Кавказа : социально-исторический аспект. Армавир, 2002. - 167 с.
206. Эфендиев А-К. И. Формирование советской интеллигенции в Дагестане (1920-1940 гг.). Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. - 155 с.
207. Юдин Б.Г. История советской науки как процесс вторичной институциализации // Философские исследования. 1993. - № 3 . - С. 92114.
208. Юревич А. В., Цапенко И. П. Нужны ли России ученые? М. : Эдиториал УРСС, 2000. - 200 с.1.. 2. Диссертации.
209. Абилов А. А. Очерки истории советской культуры народов Дагестана : дисс. д-ра ист. наук. Махачкала, 1960. - 472 с.
210. Адухов М. Д. Партийное руководство развитием науки и высшего образования в Дагестане (1921-1958 гг.) : дисс. . канд. ист. наук. -Махачкала, 1975. 182 с.
211. Адухов М. Д. Становление и развитие светского образования в Дагестане (вторая половина XIX XX в.) : дисс. . д-ра ист. наук. -Ставрополь, 2004. - 398 с.
212. Аскералиев A.A. Деятельность партийной организации Дагестана по подготовке и воспитанию учительских кадров в республике в годы довоенных пятилеток (1928-1941 гг.) : дисс. . канд. ист. наук. Махачкала, 1985.- 199 с.
213. Бычихина С. В. Становление и развитие высшего образования Дагестана 20-70- гг. XX в.: дисс. канд. ист. наук. Махачкала, 2004. -203 с.
214. Герандоков М. X. Становление и развитие социалистической культуры народов Кабардино-Балкарии (1921-1937 гг.) : дисс. . канд. ист. наук. -Нальчик, 1977. 144 с.
215. Дянова JI. Г. Формирование советской интеллигенции Северной Осетии. 1917-1941 гг.: дисс. канд. ист. наук. -М., 1991.-243 с.
216. Зульпукарова Э. М. Интеллигенция Дагестана на рубеже XIX-XX вв. : Дисс. д-ра ист. наук. Махачкала, 2004. - 437 с.
217. Кононенко В. М. Развитие высшего образования на Юге России (20-90-е годы XX века): дисс. д-ра ист. наук. Ставрополь, 2006 . - 432 с.
218. Купайгородская А. П. Советская высшая школа в 1917-1927 гг. : дисс. д-ра ист. наук. Л., 1990. - 434 с.
219. Лебедева В. И. Деятельность Коммунистической партии по созданию кадров интеллигенции на Северном Кавказе в годы первой и второй пятилеток : дисс. канд. ист. наук. М., 1971. - 246 с.
220. Лебедева Э. Н. Высшая школа РСФСР периода ее революционных преобразований 1917 1920 гг. в советской историографии : дисс. . канд. ист. наук. - М., 1980. - 235 с.
221. Монтеро 3. А. Партийное руководство становлением и развитием высшей школы Дона и Северного Кавказа (1917 1927 гг.) : дисс. . канд. ист. наук. - Ростов-на-Дону, 1985. - 218 с.
222. Новик Н. Г. Развитие высшего физико-математического образования и интеграция научных достижений в научный процесс на Ставрополье (30-е гг. XX в. конец 90-х гг. XX в.) : дисс. канд. ист. наук. - Ставрополь, 2005. -204 с.
223. Рачковский В. А. Деятельность КПСС по руководству высшей школой РСФСР. Историография проблемы : дисс. канд. ист. наук. JL, 1986. -225 с.
224. Стрекалова Е. Н. Техническая интеллигенция Северного Кавказа в 20 -30-е годы XX в .: дисс. .канд. ист. наук. Ставрополь, 2003. - 189 с.
225. Сулейманов М. И. Наука в Дагестане в 20 30-е годы XX в. : дисс. канд. ист. наук. - Махачкала, 1997. - 228 с.
226. Ушмаева К. А. Развитие высшего исторического образования на Северном Кавказе (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья) : дисс. канд. ист. наук. Ставрополь, 2004. - 194 с.
227. Шаркова H.H. Партийно-государственное руководство становлением и развитием высшей школы в автономных республиках Северного Кавказа (1918-1941 гг.) : дисс. .канд. ист. наук. -М., 1992. 188 с.
228. Шеуджен Э. А. Советская историография национально-культурного строительства на Северном Кавказе : дисс. д-ра ист. наук. М., 1984. -479 с.1.. 3. Литература иностранных авторов
229. Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917 — 1932.-М., 1998.-348 с.
230. Бернал Дж. Наука в истории общества. М., 1956. - 564 с.
231. Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М., 1991. - 480 с.
232. Грэхэм Л. Р. Очерки истории российской и советской науки. М., 1998312 с.
233. Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. - 268 с.
234. Сойфер В. Н. Наука и власть. История разгрома генетики в СССР. М. : Лазурь, 1993. - 706 с.
235. Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1994. - 342 с.
236. Adams M. B. Eugenics in Russia 1900 1940 // The Wellborn Science. -N.Y., 1990.-P. 298-341.
237. Bailes K. L. Science and Russian Culture in an Age of Revolutions : Vol. 1. Vernadsky and His School, 1863-1945. Bloomington : Indiana University Press, 1990.-348 p.
238. Graham L. R. The Birth, Withering, and Rebirth of Russian History of Science // Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History. Spring, 2001. Vol. 2. #2 P. 329-340.
239. Graham L. R., Loren R. Science in Russia and Soviet Union : A short history Cambridge : Cambridge univ. press, 1993. - X . - 321 p.
240. Hardison R. E. Disappearing Through the Skylight. Culture and Technology in the Twentieth Century. N.Y., 1989. - 237 p.
241. Kneen P. Soviet Scientists and the State : an Examination of Social and Political Aspects of Science in the USSR. London-Basingstoke, 1984. - 138 p.
242. Mc Clelland J. C. Bolsheviks, Professors and Reform of Higher Education in Soviet Russia, 1917 1921. - New Jersey : Princeton University, 1970 - 324 p.
243. Tolz V. Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics. New York, 1997. - 325 p.